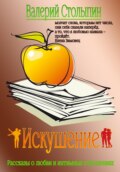Валерий Столыпин
Двое в тиши аллей
Очнулся, когда Валентина вскрикнула и отдернула ножку в крохотной туфельке.
Когда только успела надеть: остальные девочки двигались в ботинках и сапогах.
Учитель танцев извинился, попытался придумать, что можно предпринять, чтобы девушка быстрее забыла о конфузе, но мысли спонтанно потекли в ином направлении – Генка наметил во что бы то ни стало добиться знакомства накоротке.
Не в смысле участия в сексуально окрашенном мероприятии в холостяцкой берлоге, нет. Впервые в жизни опытный в вопросах интимного обольщения сердцеед жаждал просто общения. Пусть даже самого невинного.
Отчего-то именно ей, конопатой простушке, захотелось вдруг рассказать про свою жизнь, про мечты и думы. Ничего подобного прежде с ним не случалось: обнял, поцеловал и в люльку. Без предрассудков, условностей, романтических соплей, и сантиментов.
О Валентине в подобном ракурсе почему-то не думалось.
– Надо же – за талию можно. О, как!
Валентина в упор глядела на Генку, в её глазах блестели самые настоящие слезинки. Крохотные. Девчонка, похоже, только собиралась заплакать, ещё думала – стоит или нет, это делать.
Механик моментально сбегал за стулом, усадил на него девушку, опустился на колено, чтобы снять с ноги туфельку.
Валентина приняла заботу молча. Видно наступил он не слабо.
Ощупав ступню, Генка понял – ничего серьёзного не произошло, однако ножку не отпускал, испытывая состояние трепетной нежности, чувствовал внутреннюю сопричастность к хрупкой детали девичьего тела.
Ещё он понял, что… что боится, стесняется юной практикантки.
Да-да, Генка, тот самый Геннадий Вениаминович, который сам диктовал женщинам условия и никогда не принимал возражений, пожить с которым хотя бы денёчек мечтала каждая деревенская дама, трусил, боялся что-то сделать не так.
Генка смущался, робел, не смея посмотреть не только в серые глаза-омуты, на лицо, боялся, что сейчас у него отнимут эту изящную ножку.
Не может быть… это не про него, – я что, заболел!
Валюшка смело смотрела на Генку, а он зачем-то пытался разглядеть цвет глаз, форму губ, абрис лица.
Механик показался ей жутко старым, тем более, что представился он с отчеством, что придало образу излишней солидности, следовательно, и возраста тоже.
– Он же лет на семь как минимум старше!
Но отчего так трепещет сердце, почему не хочется, чтобы он отпускал ногу, которая совсем уже не болела?
Генка старательно прятал взгляд, чувствуя, что лицо горит, стремительно наливаясь краской.
Наверно слишком жарко натопил, к тому же надышали. Вон сколько народу собралось.
Немая сцена длилась от силы пару минут, но ему они показалась вечностью.
Захотелось немедленно прекратить танцы, улечься на кровать и думать, думать.
О самом главном.
Генка всегда действовал исходя из рациональных алгоритмов, не особенно задумываясь, потому, что не воспринимал хитросплетения судьбы как жребий, как всесильный рок.
И вдруг такое…
– А если не вдруг? Попытаюсь напроситься проводить Валентину до дома. Должно же что-то проясниться. Отчего так дрожат ноги!
Генке явно нездоровилось!
Какое счастье – Валентина сама предложила прогуляться до общежития.
Счастье!
Разве может подобная мелочь волновать мужчину! Однако, беспокоит, выводит из привычного состояния душевного равновесия.
– Нужно как можно быстрее заканчивать с танцами. Быстренько провожаю девчонку, гашу генератор и спать. Нажёг сегодня солярки – будь здоров.
Валентина смело взяла его за руку, как обычно делают дети, чтобы не упасть.
– Я ведь совсем не знаю дороги. Но это ничего, привыкну, – пояснила действие она.
Генка попытался отстать от студенческой толпы, не замечая заискивающего взгляда местных девчонок, которые рассчитывали сегодня набиться в гости к Геннадию Вениаминовичу, шёл намеренно по дощатым мосткам, настеленным по посёлку на приличной высоте, и потел.
В груди что-то предательски ухало.
Мужчина пытался представить себе, как целует Валентину, но понял, что сделать это не осмелится, потому, что не вынесет сопротивления… или отказа.
– Чепуха какая-то!
Впереди шумно двигалась вереница студентов, очень громко, что сегодня раздражало.
В посёлке горели все уличные фонари, это было редкой роскошью для здешних мест.
Генке надо бежать, останавливать движок, потом в полной темноте идти домой, а он как назло забыл захватить из клуба фонарик – растерялся, почувствовав не прилив энергии, как обычно, а полное опустошение.
Дорога-то знакомая, только домой отчего-то совсем не хочется: там наверняка поджидают подружки, до которых ему нет сейчас никакого дела.
– Вот Валюшка… Валенька… это совсем другое дело. С ней я наверно запросто простоял бы до утра.
Похоже, Генка был готов плюнуть на генератор, на перерасход дизельного топлива, если бы девочка согласилась погулять вдоль реки над обрывом, или посидеть у костра.
– Домой ни за не приглашу. Вдруг испугается. Или плохое подумает.
Неожиданно для себя Генка увидел полное звёздной россыпи небо, убывающий серп месяца, колеблющуюся на волнах реки лунную дорожку… и ещё он понял, что девушку совсем заели комары, а у него в кармане есть мазь от хищных кровососов.
Одной рукой механик достал тюбик, выдавил немного на ту же руку и, не отпуская ладонь спутницы, молча, только жестом, предложил Валентине намазаться.
Девочка полуопущенным взглядом безмолвно согласилась, подставив пушистые щёчки, зажала до бледности губы и потешно сморщила носик.
Парочку окутал резкий запах репеллента, который не помешал почти в полной темноте внимательно изучить внешность друг друга. Или просто соприкоснуться выделяющейся неведомо откуда бурлящей энергией, которую вихревым потоком посылали их возбуждённые тела.
Валентина тоже не хотела уходить от старого и странного завклуба – Генннадия Вениаминовича. Она тоже почувствовала загадочное притяжение, но теперь и её вдруг покинула смелость.
Мужчина и девочка соприкасались лишь ладонями одной руки, но чувствовали сопричастность и единение всем телом.
Вокруг горел свет. Мальчишки невдалеке курили, громко перебрасывались непристойными остротами и дерзостями, а эти двое плыли в волнах блаженной прострации, чувствуя желание прижаться, но не решались на этот шаг.
Валентину громко позвали подружки. Она очнулась, поняв, что не посмеет ни сказать, ни сделать, то, что задумала.
– Когда-нибудь… потом, позже. Да-да, когда-нибудь… обязательно скажу… что он удивительный. И совсем не старый. Даже наоборот.
Захотелось вдруг прижаться к нему.
Сегодня она всю ночь будет смотреть на звёзды, на луну. И мечтать.
О чём!
Конечно же, о чём-нибудь светлом, хорошем, тёплом… например, о Геннадии Вениаминовиче.
Генка тоже выстраивал линию поведения, удивляясь неожиданной робости и утерянной остроте зрения. Ведь он с первого взгляда дал девушке характеристику – так себе.
– Вот дуралей. Да прекрасней Валюши… да она… почему она не приезжала раньше? Как я ей объясню всех предыдущих подружек, это же катастрофа! Нет, нет и нет… ни за что на свете не стану раскрывать тайну интимных похождений. Лучше уеду отсюда, куда глаза глядят. Или спрыгну со скалы. Только бы Валюшка ничего не узнала.
Выходит, обман! Нет, отношения, если они настоящие, нужно начинать с чистого листа, с новой строки. Значит, рассказать обо всём просто необходимо. Всё-всё, без утайки.
Девочки, женщины. Пусть они останутся навсегда в другой, в предыдущей жизни.
А мы проведём черту и начнём создавать новую. Она и я, я и она. Только и всего! Ведь это так просто.
Они стояли и молчали, общались лишь сердца. Каждый наделял другого самыми лучшими качествами, находя скрытые достоинства, пряча реальные недостатки в самый дальний угол сознания.
Зачем выставлять напоказ то, что может вовсе никогда не пригодиться в жизни! На то и любовь, чтобы делать нас лучше.
Странная жизнь
мечту и жизнь заплел он в мои волосы
на губы наложил любви нектар
на теле языком оставил полосы
в вино подлил волшебных сладких чар.
он обнимал меня руками сильными
под ним я изгибалась как лоза
я таяла и каплями обильными
умыла его губы и глаза.
Валерия Грановская (Абрикосовый рай)
В городском парке в последнее время появилось нечто вроде вернисажа. В тенистых аллеях собирались художники, скульпторы – умельцы декоративно-прикладных форм творчества и прочие мастера, которые таким образом пытались показать свои произведения и как-то прокормиться.
Я приходил сюда довольно часто. Меня манило яркое художественное разноцветье, разнообразие геометрических форм, обстановка творческого вдохновения незнакомых людей, возможность пообщаться, обсудить ту или иную тему.
Всякого рода выставки давно ушли в прошлое, превратились в развлечение для богатых, а здесь можно было совершенно бесплатно побывать в логове творческого вдохновения недооцененных мастеров.
Юльку, подругу детства, я узнал сразу, хотя это было совсем непросто. Я ведь помнил её как танцующую девочку: лёгкую, невесомую, пластичную, яркую и солнечную.
Мы жили в одном подъезде, вместе ходили в школу, играли в дочки-матери, тысячи раз наблюдали грозу из окон подъезда между четвёртым и пятым этажами.
Однажды даже были свидетелями изумительного, но страшного полёта шаровой молнии, которая кружила вблизи подъезда блестящим ртутным шариком, потом заглянула почти в самое окно, зашипела и исчезла.
Юлька страстно любила танцевать.
Просто так.
Мама шила ей прозрачные танцевальные платьица из остатков штор, которые готовила на продажу: струящиеся, журчащие, напоминающие струи дождя или обволакивающие серебристые туманы.
Все прочили девочке большое будущее на сцене, но сама она не загадывала – просто танцевала, очень часто прямо на улице.
Я только и слышал тогда от родителей, друзей и знакомых – не упусти, вы созданы друг для друга.
Юлька всегда и всё решала сама, она была натурой необычайно творческой. Вдохновляющие идеи и их реализации толпились в её внутреннем мире, не давая ни минуты покоя.
Не могу сказать, что любил Юльку, тогда я не умел распознавать и понимать свои незрелые чувства. Мы просто жили вместе, превратившись со временем в единое целое.
Я относился к Юльке как к сестре. Мы были пятнадцатилетними подростками, хотя и весьма любопытными.
Тело и пластика подруги день ото дня становились всё привлекательнее, а танцы – более откровенными, замысловатыми, изящными, подчёркивающими пластичную женственность.
В то время мы часто закрывались у неё или у меня дома: учились целоваться, танцевали, обнявшись, беседовали о счастливом будущем. Точнее, Юлька рассказывала о своих девичьих иллюзиях, а я пытался в них встроиться.
Она мечтала о волшебной любви, о путешествиях на больших океанских лайнерах, о необитаемых островах, и многом другом, до чего мне тогда в принципе не было никакого дела. Вот поцеловаться и потискаться я точно был не прочь. И подурачиться – тоже.
Сейчас передо мной стояла Юлька с землистым лицом в застиранном мятом платье с папироской в углу рта и улыбалась щербатым ртом.
Выцветшие космы, собранные в подобие хвостиков, перевязанные грязным бинтом, образовывали причёску “сенокос на лыжах” или что-то вроде того. Безобразные синие прожилки на ноздреватой коже, трясущиеся руки, и хищный взгляд.
– Чё уставился, Антоха, соскучился… не нравлюсь, да… ну и вали отсюда!
Юлька смачно сплюнула себе под ноги, глубоко затянулась и картинно воткнула руки в боки.
– Или покупай, или проваливай. Некогда мне с тобой лясы точить. Похмелиться надо. Или это… за показ денег не берут, конечно, но, ты-то в доску свой. Дай пару сотен, тогда побазарим. А чё… детство вспомним золотое. А то ведь я и станцевать могу… ха-ха, да шучу я, шуткую. Согнуться толком не могу, какие уж тут танцы! Ну-у-у, так дашь на пузырь-то или как?
Мне было двадцать семь лет, значит ей столько же. Но передо мной стояла пожилая особа, прожившая как минимум вдвое больше: артритные колени, глубокие борозды морщин, отвисшие мочки ушей, расплющенные кисти рук.
На пластиковом ящичке перед ней стоял набор танцующих хрустальных кукол, тех самых, с которых всё и началось.
Его звали Геннадий Романович, видный мужчина из соседнего дома. У него была какая-то редкая слесарная профессия, предполагающая навыки во всех областях творчества.
Тогда ему было чуть больше тридцати. Счастливый родитель двух маленьких ангелочков и муж миниатюрной красавицы, о которой он рассказывал с придыханием.
Геннадий приходил со своим стулом в тот тенистый уголок, где обычно на публику танцевала счастливая, оттого, что столько зрителей, Юлька, и смотрел.
Однажды он принёс разноцветную хрустальную фигурку танцующей девочки и подарил Юльке. Видели бы вы, как она визжала от радости.
Потом была ещё фигурка, ещё и ещё, все разные, но изумительно похожие на неё.
Позже Юлька замкнулась на время, избегала общения.
Я был её единственным другом, поэтому мне она открылась. Это была любовь: самая первая, самая романтичная, до жути драматическая и сказочная одновременно.
Юлька сбегала с уроков, чтобы встретиться с ним, с Геннадием Романовичем, который, похоже, увлёкся девчонкой не на шутку.
Для Юльки эта любовь была увлекательным приключением, пропуском в мир запретных взрослых чувств. Она горела сполохами неуправляемых эмоций, наивно бесхитростных, предельно искренних. А он…
Для взрослого мужчины девочка с её безграничной любовью со временем превратилась в серьёзную проблему.
Геннадий Романович не прочь был отведать из рога изобилия сладкого нектара. Да, он боялся переступить черту, слишком Юлька была юна, к тому же целомудренна. И всё же соблазнился, откупорил сосуд непорочной невинности, но топлива для страсти в его развратном теле, и желания чего-то в жизни менять, оставалось всё меньше.
Надо было что-то делать, тем более жена несколько раз ловила его на горячем. В один из дней любовник испарился вместе с семьёй, не оставив Юльке координат, но передав через случайного юношу очередную статуэтку и страстное любовное послание, в котором не только ставил крест на их отношениях, но и давал призрачную надежду.
Слабый оказался человечишко – ничтожный, жалкий.
Ранимая творческая натура девочки не выдержала и треснула.
Юлька перестала общаться со мной, со сверстниками, замкнулась, а позже и вовсе исчезла из поля зрения.
Мне в ту пору было чуть больше шестнадцати лет. Жизнь шла своим чередом. События наслаивались друг на друга. Я взрослел, влюблялся, приобрёл приличную специальность, совершенствовал профессиональное мастерство.
Конечно, я довольно часто вспоминал Юльку, с которой меня связывало очень многое.
Её сумасшедшие танцы забыть было попросту невозможно. Да и не только в танцах дело. Любил я её, правда понял это гораздо позже.
И вот Юлька передо мной. Представить эту опустившуюся женщину танцующей попросту невозможно.
– Чё, жаба задавила, денег жалко! А у меня душа горит. Душа, понимаешь. Геночку вчера похоронили. Сорок три года прожил… с нелюбимой женой прожил. А я… я искала его все эти годы, искала, ждала. И любила. Вот ты, ты знаешь, что такое любовь! Откуда тебе знать. Купи этих… танцулек… Антоха. Только ты знаешь, что они для меня значат. Только ты. Может, вспомнишь когда. Хотя, чё обо мне, дуре непутёвой, помнить. Тыщща деревянных и всё твоё. Не жмись, дружище. Вот эту, самую первую, помнишь? Какая я была… боже мой, какая… Геночка, миленький, ну почему, почему так-то! Ведь он меня любил, только меня. А я его. Странная жизнь, странная, непонятная, жестокая.
Тебе уже от счастья не укрыться
Мы можем навсегда прощаться
Полу-во-сне, полу-в-бреду.
Я всё равно к тебе приду:
Мне просто некуда деваться.
Вадим Хавин
Зойка любила дружка своего больше жизни, оттого и дразнила. Время пришло девчонке невеститься, да и смелая, дерзкая была чересчур: одевалась намеренно в короткие платьица, специально для Витьки, грудью упругой прижималась, волосами распущенными щекотала, чтобы аппетит интимный разбудить, о существовании которого тот ни сном, ни духом не ведал.
Коленки голенастые специально для него напоказ выставляла, подол до трусиков якобы случайно задирала, за руку нежно брала, чтобы в глаза удобнее заглядывать, губы жадные до ласки подставляла.
Но Витька – телок: мычит, глаза зажмуривает. Сердечко волнуется, стукотит как движок у мотоциклетки. За метр беспокойный пульс услышать можно.
Зойке, конечно, приятно, но она взрослой стать решила, от своего желания не отступится. А уж коли игра в любовь в такую жаркую пору вошла, жди неожиданностей. Горячая кровь на такие безумства способна толкнуть – только держись.
Налюбоваться дружок не мог на узорчатые прожилки под её прозрачной кожей. Дрожал как осиновый лист, когда невзначай прикоснуться к подружке доводилось. Млел, созерцая божественное цветение беспечной юности.
Нельзя!
Мальчикам, вроде, можно до поры к тайне прикоснуться (выдерут да и только), чтобы опыт накопить, чтобы не опозориться, когда срок наступит, а девчонкам беда: позор на всю оставшуюся жизнь.
Витька не может так поступить, особенно с Зойкой. Они же с детства не разлей вода. Куда один, туда и другой. На селе все знали – рано или поздно их свяжет судьба.
Знала и Зойка, что он застенчивый, робкий, но всё равно мечтала, – сейчас поцелует.
Разве от такого подарка можно отказаться! Не дурак же он, в самом деле.
Представляла, как сладко будет вдвоём, – любит ведь, чего ждёт, вот она я!
За руку брала, в заросли лозняка поутру водила, подальше от любопытных глаз. Смело сбрасывала лёгкое платьице, – гляди, любуйся. Вот здесь можно дотронуться. И здесь. Всё-всё можно, даже то, чего совсем нельзя. Ну же! Какой же ты у меня глупенький!
Зойка танцевала нагишом, руками ласково звала, – иди ко мне, любый.
Она была почти взрослая: так все говорили. Вон, и грудь поспела, и кустик меж ног призывно топорщится. Расцвела девчонка, округляться начала, порозовела. Млеет в ожидании любви, трепещет от откровенного бесстыдства толпящихся в голове крамольных мыслей, от переполняющих кровь эмоций, от невнятного напряжения в налившейся спелыми соками груди и внизу живота.
Витька краснел, терялся, отводил в сторону зачарованный взгляд.
По ночам грезил, позволяя в фантазиях всё то, чего не мог себе разрешить в Зойкином присутствии.
Его чувственность только пробуждалась. Ничего он ещё толком не понимал, но позывные взросления настойчиво о себе напоминали, наполняя незрелое тело нежностью и бурлящей кровью.
Только бы Зойка не узнала, какие мечты он себе позволяет!
Не мог Витька подружку обидеть, не мог.
А Серёжка, когда оказия случилась, стесняться не стал: задрал подол и опростался, причиняя при этом боль.
Не любил, на дармовщинку позарился. Жаден парень до новых интимных впечатлений. Чего не взять, коли девица не сопротивляется? Баба не схочет – мужик не вскочит. Девка-то в соку, ничего не соображает: из реальности выпала. Может и не вспомнит ничего, когда в себя придёт. А и вспомнит – не велика беда. Он ведь не сильничал.
Зойка была к нему равнодушна. Созрела прежде времени, это да. Со всеми девчонками так. Природа распорядилась им быстро взрослеть, а мальчишкам дать время окрепнуть: сил накопить, мышцы нарастить. А Серёга старше был, что к чему представление имел: не она первая, не она последняя.
Кто-то скажет, – чокнутая она, эта Зойка, суицидница. В психушке ей место, – и будет прав. Отчасти. Поскольку не сумел распознать душу ранимую, тонкую. Девочка реальность с фантазиями перепутала.
Так бывает, когда напор гормонов в крови мысли в раскоряку ставит, а необузданный творческий потенциал, помноженный на развитую сверх меры впечатлительность, толкает в пропасть неизведанного.
Влюблённые девочки – натуры хрупкие, импульсивные. Натворят невесть чего в хмельном угаре сладкого влечения, вкушая по неопытности ворох запретных для их опасного возраста эмоций – не расхлебать.
Вот и Зойка… дурочка, на крючок запредельной глупости попалась. Нет, чтобы успокоиться, подумать. Сразу в пропасть, чтобы не страдать. Как же это глупо!
Потом жалела, кляла себя за порочную беспечность. Поздно. Крапивное Серёжкино семя упало в благодатную почву, выпустило цепкие щупальца, разом и проросло.
Зойке в тот год, когда родила Никитку, едва семнадцать исполнилось. Сама дитя, до ставней оконных дотянуться не может, ростом не вышла, а богатыря выродила. Боровичка голосистого с красной головкой почти пять кило весом.
Порвалась вся, но терпела. Все орут, а она молчком муку адскую приняла: кару добровольно себе назначила.
Не дождалась любимого – получи!
Вспоминала чуть не каждый день, как Витька украдкой смотрел на острые её локотки, на узкие плечи с подвижными лопатками, на впалый животик, над которым нависали худосочные рёбрышки, которые можно было пересчитать поштучно.
Она ведь звала его тогда, – на, любый, возьми.
– Время не пришло, Зоенька. Погоди, пока повзрослеем. Всё у нас будет. Как положено, по-честному. Только дождись.
Глупый. Не будет теперь ничего! Кто захочет связать жизнь с утратившей честь гулящей девкой. Да ещё и с приварком.
Как же она ревела в тот день, когда Витька в областной центр учиться уехал, как упрашивала, – останься! Сгину без тебя.
Накрутила себя, чуть умом не тронулась.
Не послушал. Думал, блажит девка. А она чуть руки на себя не наложила, такова была сила потрясения.
Серёжка из петли вынул. Никому о том не сказал, но плату непомерную взял – невинности лишил, пока Зойка окончательно в себя не пришла. Девчушке тогда без разницы было: она с жизнью уже распрощалась. Семь бед – один ответ. Пусть делает, чего надобно, и проваливает.
Ведь знал, паршивец, что нельзя семенем разбрасываться, что осрамит девку, а замуж не позовёт. Недаром говорят, что охота пуще неволи. Больно велик был соблазн запретный плод сорвать, надкусить, сочной мякоти целомудрия отведать. Правда, слово дал, что никто о том не узнает. Но шила в мешке не утаишь.
И Зойка не призналась, чей сын брюхо обживает, кто мальцу настоящий отец.
У Сергея к тому времени, когда живот у Зойки на нос полез, свадебка наметилась. По залёту нечаянному. Он и в этот раз хотел незаметно отползти, но не успел. Братья невесты вовремя сообразили, подсуетились. Руки-ноги не повредили, а портрет здорово разукрасили.
А ему как с гуся вода.
Недёржанных девок на селе пруд пруди. Он теперь опытный, следов не оставляет. К тому ещё солдаткам да вдовам маета неприкаянности душу травит. Всем любви подавай. Хоть такой, развратной, коли другой для них нет.
А есть ещё иная порода баб – любительницы жеребятины. Сами знаки подают, мало того – наливают за утоление порочного голода.
В деревне думали, что отец Никитки Витька. А он – ни сном, ни духом.
То есть, что родила, знает, про своё якобы отцовство – нет. Ему ли не ведать, что до сей поры невинный телок. Целоваться и то не выучился. Разве что в шею Зойкину губами впивался пару раз, да за ухом грелся. Но, то не в счёт. Это по-дружески, по-братски.
Горько ему, больно, что так несуразно вышло. Себя виноватит.
Закроет глаза, Зойка танцует. Для него. Танцует и зовёт.
Смешная, красивая, родная, в чём мать родила.
Тщедушная, маленькая, прозрачная, как уклейка, а грудь… он ведь только делал вид, что не смотрит. Как было удержаться от соблазна?
Всё как есть помнит. Грудь была настоящая.
Сколько раз Витька потом грезил, протягивая навстречу длинноногой танцовщице без покровов, к её бархатистой коже, к упругому бутону груди, размером с румяное яблочко, раскрытую ладонь, представляя, как прикасается к этой бесценной реликвии, как наливается священной энергией любви.
И застывал в ужасе, физически ощущая потерю, которой могло не случиться, будь он решительнее, смелее.
Упустил своё счастье! Сам упустил.
Может, стоило тогда поступиться принципами, забыть про традиции, про девичью честь и свою совесть, которая на поверку оказалась тяжким бременем, которая раз за разом возвращает воспалённую память в окаянное прошлое?
Сильны мы задним умом, когда ничего нельзя изменить. А ведь она звала, упрашивала, словно ей одной та любовь была надобна.
После техникума Витька уехал в Заполярье. Можно сказать, сам себя наказал.
Парень он видный. Девчонки вокруг табунами невестились. Женщины в соку, глядя на широкие плечи, сильные руки и цепкий взгляд, кто бессовестно, нагло, кто простодушно, застенчиво, предлагали любовь. Всякую, в том числе без обязательств.
Витька был поглощён единственной страстью: Зойкой бредил. Ночами в поту просыпался, криком кричал, прощения просил.
До сих пор Зойка его звала. До сих пор не отпускала.
Не выдержал. Всё для себя решил, поехал каяться.
Родители писали, что не было у Зойки с тех пор никого, словно эпитимью на себя наложила. Фотографию мальца прислали.
Никите шесть лет минуло.
Рыжий, кучерявый. В Серёгу Кучина, не иначе, лучшего некогда друга. У него одного на всё село кудрявая, как у ягнёнка, шевелюра красным золотом рдела.
Этот общеизвестный факт Серёжкин брак и сгубил. Как пошёл по селу слух о рыжем мальчонке, Варвара ему на порог указала. Братья скорости добавили. Хотели оскопить, да пожалели.
Тот к Зойке. Да куда там, – не было у мальчонки отца, и такого не нать. Опоздал, касатик. Да и не ужились бы мы. Без любви-то.
– Много радости любовь тебе принесла? То-то ты в петлю прыгнула. Без мужика в своём дому никак нельзя. Я же рукастый.
– Зато до баб охоч. Мне ещё этого сраму не хватает. Витька бы мальца не бросил. И по бабам не побежал бы.
– Много ты знаешь! Так может он того, и не мой вовсе?
– А и не твой. Что с того? Я ему каждую неделю красной краской кудри мажу, чтобы тебя осрамить. И себя заодно. Поди, поди вон, по добру, по здорову.
Удружил Серёга, нечего сказать. Но разве виноват он, что наградил отпрыска редким колером?
О том, что стало реальной причиной появления на свет Никитки, никто не ведал. Хоть в этом вопросе Сергей не подвёл.
Зойка, когда болела, заговаривалась, Витьку звала, прощения вымаливала.
Нормально, естественно, даже правильно, спрятаться в одиночество, зализывая кровоточащие сердечные раны. Но как долго необходимо и можно жалеть себя, оплакивать и лечить истерзанную, в порезах и ссадинах от необратимых потерь, но живую, готовую вновь и вновь возрождаться, душу: неделю, месяц, год… или весь дарованный природой срок осознанного бытия?
Разве можно казнить себя без срока. Преступников, и тех рано или поздно из заточения вызволяют. Зойка о том не раз и не два матери заикалась.
– Кто ж тебе, оторве, таку обиду спустит, блаженная? Забыть пора. Не пара ты ему. Не он тебя, ты его не дождалась, ты любовь предала, – корила маманя.
– Покаюсь. Глупая была. Некому было боль свою доверить. Даже тебе не могла. А вдруг он мне тот грех попустит? Ноги целовать буду. Выведай адрес у Ильиничны, письмо напишу. Обо всём. Мне шестнадцать годков было, чего я понимала-то! Нет у меня больше сил себя казнить.
А Витька взял да сам приехал, словно раскаяние Зойкино почуял. Кто знает, может, у влюблённых неведомая связь через небеса налажена.
К родителям не зашёл, сразу к подружке на порог.
– Сына покажи, Никитку.
– Так не твой ведь, Витюша.
– Мы про то никому не скажем. Усыновлю, будет мой.
– Давно уж все догадались. Масть не скроешь.
– Примешь, простишь?
Зойка кинулась Витьке в ноги, – гада я окаянная, злыдня проклятущая, изменщица подлая. Нет мне без тебя жизни. Разум тогда помутился, не ведала, что творю, любый мой. Прости, коли гордость позволит со мной знаться, век грехи те отмаливать буду!
– Не блажи. Встань с колен. В том и моей вины в достатке. Будем вместе разгребать, чего наворотили по глупости. Ты ведь меня каждую ноченьку все эти годы звала. А я… дурья башка. Всё могло быть иначе. А-а-а, чего даром воду в ступе толочь. Того дивного дня не вернуть. Помнишь, как для меня танцевала?
– Как не помнить!
– Ну, жена, раз такое дело, коли обиды прощены, будем праздновать. Никитку зови, матерь с отцом. Всех зови. Мужчина в дом возвернулся. Заживём!
– Теперь-то меня не испугаешься, не побрезгуешь в губы целовать?
– Зацелую. Только не теперь. Хочу, чтобы в первый раз как тогда, на берегу, в ивовых зарослях. Чтобы с самого начала всё правильно. Дождалась-таки, любая моя! Сына хочу, дочку, семью большую. Тебя хочу, Зоенька! Ты же меня научишь?
– Сам управишься. Чтобы с бабой хороводиться, много ума не нать. Природа кругом соломки подстелила. На котов да иную живность глянь. Кто их той науке обучает? Да никак ты, соколик, до сей поры любви девичьей не познал!
Зойка расплакалась, прижалась к Витькиной груди, но осторожно, робко. Не верила до конца своему счастью.
– Как знать, как знать. Вдруг у меня ничего не выйдет?
Зойка прыснула в кулак, – и то верно. Вдруг? Стоит проверить, пока Никитос с маманей на ферме управляются. Время есть. Я и станцевать могу, не отяжелела пока. Или опять чё не так?
– Тебе бы всё хиханьки, дурища. А у меня сомнения. Боязно мне.
– Ничего не изменилось. Всё такой же телок. Как же люб ты мне, соколик!