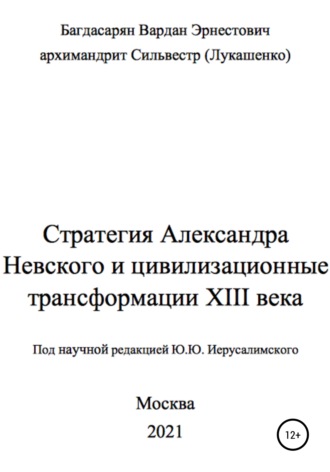
Вардан Эрнестович Багдасарян
Стратегия Александра Невского
«От вас учения не приемлем!». Идеологическая полемика с католиками: послания Римского папы
Битвы на Неве и Чудском озере, безусловно, являются базовыми вехами в раскрытии биографии Александра Невского. Но в этом ряду должна находиться и его идеологическая полемика с католиками. Собственно, и сами ратные подвиги были выражением духовной брани. Наиболее показательным является в этом смысле ответ Александра Невского на послание от папы Римского Иннокентия IV. Послание принято датировать 1248 годом, но существует и датировка 1252 годом. Возможно, речь шла и о двух посланиях от папы – 1248 и 1252 годов соответственно. Доставили второе письмо от папы князю кардиналы Галд и Гемонт.
Формирование содержания первого послания сегодня бы определили в качестве манипулятивной технологии. Вначале высказывались комплименты в адрес князя, далее проводилась апелляция к его отцу, и, наконец, делались практические предложения. Князю предлагалось ознакомиться более внимательно с учением Католической Церкви. Утверждалось, что будто бы отец Александра Ярослав Всеволодович, находясь в ставке великого хана в Каракоруме, обещал принять латинскую веру. По совету одного из бояр он якобы дал такое обещание папскому посланнику Плано Карпини. И, вероятно, он бы его и исполнил, если бы не внезапная смерть. Получалось, что отравление Ярослава в Каракоруме было направлено против его планов стать католиком. И если Александр чтит своего отца, он должен последовать его примеру. В противном случае, делалось следующее утверждение, князь проявил бы безрассудство, так как мир и спокойствие можно обрести лишь под сенью Римской Церкви.
В действительности каких-либо исторических оснований для утверждения о намерениях Ярослава перейти в католичество не существует. Соответствующих тенденций не прослеживается и в его политике. Плано Карпини действительно встречался с Ярославом, но о стремлении того стать католиком в своем знаменитом сочинении ничего не сообщал. Получалось, что папа в письме к Александру заведомо сообщал недостоверную информацию. Она преподносилась по принципу: «как известно, Ярослав хотел стать католиком…».
Иннокентия VI волновала прежде всего монгольская угроза. Он призывал Александра в случае нового выступления монголов незамедлительно уведомить о сем магистра Ливонского ордена. Такое уведомление очевидно бы означало занятие князем католической стороны в конфликте с монголами, превращение его в «дозорного» западных христиан. Причем осведомлять предлагалось тех самых рыцарей, которым Александр нанес поражение на Чудском озере.
В конце письма вновь содержалась похвала князю. Суть похвалы заключалась в том, что Александр не подчинился якобы монгольской власти. Это был еще один психологический прием. Очевидно, что княжеская власть и в 1248-м, и в 1252-м годах находилась в подчинении у монголов. Заявляя, что это не так, папа как бы мотивировал Александра к проявлению непокорности.233
Второе послание было в большей степени наполнено интенциями о смысле жизни человека. Оно начиналось со слов, что избранный Александром путь позволит ему легко и быстро достичь врат райских. А ключи от врат Рая находятся у апостола Петра, преемниками которого выступают римские папы. И далее вывод: не подчиняющиеся Римской Церкви в рай не попадут.
Как и в первом послании, использовался прием присоединения посредством похвалы. Александру на этот раз выносилась похвала за якобы существующее у него намерение воздвигнуть в Пскове соборный храм для латинян. И папа давал на строительство храма свою санкцию: «позволяем тебе воздвигнуть».
Таким же приемом присоединения явилось обращение к князю как «избранному сыну Церкви». Александр позиционировался уже не просто как прозревший, а избранный. Между тем он оставался православным, то есть был схизматиком по представлениям Римской Церкви.
В послании Александр титуловался как «сиятельный король Новгорода». Папа не мог не знать, что новгородский князь королем не являлся. Для того, чтобы стать королем, требовалось проведение ритуала коронации с соответствующим участием Римской Церкви. Фактически Александру завуалированно предлагался королевский титул.
Папа советовал князю «забыть прошлое». Под прошлым, которое следовало забыть, очевидно подразумевались победы Александра над войсками католиков.
И вот главное в содержании письма папы – «множество людей смогут по примеру твоему достичь того же единения». Замысел реконструируется с полной очевидностью: Александр переходит в католицизм в обмен на получение королевского титула, и далее народ по его примеру также переходит в латинство.
К уровню практической конъюнктуры относились предложения папы о строительстве католического храма для иностранных купцов во Пскове и приглашение с визитом к княжескому двору епископа Прусского. Такие шаги выстраивались в общую логику распространения католического влияния в Русских землях. Стратегические вопросы выводились на уровень технологических234.
К составлению ответа приложил, по-видимому, руку Киевский митрополит Кирилл II (ум. 1281). В ответном обращении к папе русская сторона заявляла следующую позицию: «От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от смешения народов до Авраама, от Авраама до прохода Израиля сквозь Красное море, от исхода сынов Израилевых до смерти Давида-царя, от Давида до начала царствования Соломона, от Соломона до Августа-кесаря, от власти Августа и до Христова Рождества, от Рождества Христова до Страдания и Воскресения Господня, от Воскресения же Его и до Восшествия на небеса, от Восшествия на небеса до царствования Константинова, от начала царствования Константинова до первого Собора, от первого Собора до седьмого – обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не приемлем»235. Длительное представление всемирной истории в ответном письме имело значение заявления об идейном приоритете православных над католиками. Русские не являются невежественными недохристианами. Они лучше католиков знают суть Священной истории, и именно в силу этого знания католическое учение и не приемлют.
Новгород и Ганза: экономические санкции в XIII веке
Неприятие Александром Невским какого-либо попрания духовного суверенитета Руси со стороны Запада не вело к отрицанию возможности и целесообразности европейской торговли. Новгород являлся торговым городом, и поддержка князем новгородских торговых отношений имела геостратегическое значение.
Еще в XII столетии в северной части Европы был сформирован Ганзейский торговый союз, который условно можно считать первым прообразом ЕС. Создание Ганзы вело к развитию экономической альтернативы средиземноморской торговле, изменяло систему мировой геоэкономики236. Важнейшим контрагентом Ганзы на востоке региона выступал Новгород. При этом, вопреки распространенному представлению, членом Ганзы Новгородская республика являться не могла. Действовал, по-видимому, ограничитель членства в союзе для непринадлежащих к западному христианству. Тем не менее в Новгороде существовало два иностранных купеческих двора – готский и немецкий. Они группировались вокруг церквей – церкви святого Олафа (готландского двора) и церкви святого Петра (немецкого). В самые тяжелые периоды русско-немецкого противостояния при Александре Невском дворы иностранцев в Новгороде не закрывались, и церкви продолжали службу.
Именно во времена политической деятельности Александра Невского начался новый этап истории Ганзейского союза. Ключевую роль в нем стал играть Любек – бывший славянский укрепленный пункт, выкупивший в 1226 году у Священной Римской империи статус вольного имперского города.
Для Руси было важно, говоря современным языком, не выпасть из мировых экономических потоков. Для автаркии не было соответствующих потенциалов, и следовательно, надо было добиваться равноправных условий ведения торговли.
Ганза применяла в отношении Руси то, что сегодня было бы названо экономическими войнами и санкциями237. Советский историк В.В. Мавродин свидетельствовал, что «понадобилось десятки и даже сотни лет активной враждебной деятельности немецкой Ганзы, датчан и шведов, а также ливонских рыцарей для того, чтобы вынудить новгородцев прекратить плавания за море и ожидать заморских гостей, сидя по своим торговым дворам на берегах Волхова»238.
По инициативе Александра Невского от лица Новгородского князя, его сына Дмитрия, а также посадника Михаила и тысяцкого Жирослава с Ганзейским союзом был заключен договор, урегулировавший спорные вопросы. Документ назывался «Договор Новгорода с Готским берегом, Любеком и немецкими городами»; было указано, что он заключается со всеми «латинскими языками», то есть со всеми латинянами. Его заключение датируется чаще всего 1259 годом. Он заменял более ранний договор 1191–1192 гг.239. Правда, его ратификация состоялась значительно позже, лишь в 1265 году, то есть уже после смерти Александра Невского.
Договором предписывалось не совершать взаимные «пакости» и строить отношения на достигнутой правде. Установление на основе Договора системы равных прав и возможностей между новгородцами и ганзейцами отвечало интересам Руси. Для Ганзы, привыкшей диктовать повестку экономических отношений, это не было столь же выгодно. Уже после смерти Александра Невского, в 1269 году ганзейцы попытались провести принятие нового договора с Новгородом, но консенсус не был найден240.
Отношения с Литвой: Александр и Миндовг
Одно из важнейших стратегических искусств состоит в превращении врага в союзника. Таким искусством обладал Александр Невский. Он мог быть бескомпромиссен, когда речь шла о враге онтологическом, каковым являлись крестоносцы. Но мог и действовать в зависимости от изменяющейся ситуации, как было в отношениях с Литвой. Политика Александра Невского на литовском направлении заслуживает особого внимания. Литва из противника, каковой она выступала в 40-е годы XIII века, превратилась к концу его княжения в союзника.
Говоря о политике Александра Невского на западе, прежде всего имеют в виду его противоборство со шведами и немцами. О третьем противнике – Литве – вспоминают реже. Между тем литовская угроза уже в 40-е годы XIII века получила вполне определенную актуализацию.
Развитие политики Александра Невского на литовском направлении прошло три основных этапа241. На первом этапе новгородскому князю приходилось отражать непрекращающиеся грабительские литовские набеги. Обычно практика таких набегов связывается с кочевниками-степняками. Кочевники действительно терроризировали пространства юга и юго-востока Руси. Но в то же время северо-западные земли Руси терроризировались набегами литовцев. Набеги являлись частью племенного быта и считались нормой с позиций язычников. Рубежом перехода литовцев от отдельных вылазок к системной экспансии стало взятие русского княжеского города Смоленска. Фактически литовский контроль установился над Полоцким княжеством. Предпринятые Александром Невским в 1245 году походы на литовцев-язычников остановили на время экспансию. Борьба князя за Полоцкие земли имела помимо общегосударственного личный аспект поддержки тестя, полоцкого князя Брячислава Васильковича. Брячислав ушел из жизни, по-видимому, не ранее Невской битвы.
Второй этап политики Александра Невского на литовском направлении заключался в противоборстве с князем Миндовгом (ок. 1195–1263). Созданное им Литовское государство в сравнении с племенными союзами обладало уже достаточно организованной военно-политической силой242. Опасность со стороны Миндовга определялась встраиванием его политики в широкую коалицию антирусских сил. Одновременно с активизацией Литвы усилилась активность других потенциальных противников Владимирского княжества, во-первых, Ливонского ордена, предпринявшего новое наступление на Псков; во-вторых, Швеции; в-третьих, Даниила Галицкого. Синхронность такой активизации не могла быть случайной. Соглашения Миндовга с Даниилом удалось достичь путем династического брака между сыном галицкого князя Шварном Даниловичем и дочерью литовского князя.
Совокупно все эти силы объединял проект римского папы Иннокентия IV. Миндовг сообразно с ним должен был войти в единую западнохристианскую общность. Его легитимизация как признанного литовского государя осуществилась в результате состоявшегося в 1251 году крещения по латинскому обряду. В 1253 году предположительно в Новогрудке (совр. Белоруссия) Миндовг был коронован как король Литвы. В том же году Даниил Галицкий короновался королем Руси. Складывалась международная система, направленная очевидным образом против монголов и русского Владимирского княжества.
Однако внутренние противоречия между союзниками оказались существенными. К тому же Александр Невский делал всё возможное для усугубления противоречий. Потенциальный антирусский альянс в итоге распался.
Сдерживание Литвы проводилось Александром Ярославичем в том числе за счет использования фактора Орды. В этом отношении ордынские и русские интересы частично совпадали. Определенно в направлении подавления потенциалов литовской государственности действовал в первый период властвования в улусе Джучи Берке. Непосредственно эта стратегия применялась видным монгольским военачальником Бурундаем (?–1262), другом и соратником Субудая-багатура.
На третьем этапе Александр Ярославич и Миндовг действовали уже в качестве союзников. К такой переориентации литовского князя побудило несколько обстоятельств. Союзники не смогли предотвратить поход на Литву монгольских войск под руководством темника Бурундая в 1258 году. В походе монголов на Литву участвовали войска номинального союзника Даниила Галицкого. Против литовцев действовали совместные монголо-русские войска, кооптируемые в западных княжествах. Наступление на земли, находящиеся в сфере интересов Литвы, развернул Ливонской орден. Сам Орден оказался не столь мощной в военном отношении силой, как позиционировался. Разгром его жемайтами в битвах 1260 и 1261 годов показал иллюзорность рыцарской мощи.
В 1261 году Миндовг направил посольство к Александру Невскому во Владимир с предложением заключить военный союз против немцев, оно было с воодушевлением поддержано владимирским князем. Вскоре был заключен и союз с Новгородом, где княжил на тот момент сын Александра Дмитрий. С зимы 1261/62 годов начинаются совместные русско-литовские боевые действия против сил Ордена. В 1262 году возобновился конфликт Миндовга с Даниилом Галицким. В ходе его был взят в заложники и убит сын Даниила Роман. Важным стратегическим успехом альянса Александра Невского и Миндовга стало взятие в 1262 году Дерпта.
Дальнейшему развитию союза воспрепятствовала смерть в 1263 году обоих правителей – Александра Невского и Миндовга. Ушел из жизни, правда, в 1264 году и их давний оппонент Даниил Галицкий. Политический ландшафт менялся.
Деятельность Александра Невского на последнем этапе его политики в отношении Литвы создавала и еще одну стратегическую перспективу –перехода Литовского княжества в православие. Миндовг в 50-е годы XIII века избрал католический вариант в силу конъюнктурных обстоятельств. Убежденным католиком он никогда не являлся. Но под влиянием отношений с Александром Невским при его дворе усилилась православная партия. Во главе ее стоял сын Миндовга Войшелк243. Он был не просто крещен по православному обряду, но являлся убежденным сторонником православного учения. Три года жизни он провел в Полонинском монастыре на Волыни, где принял постриг с именем Лавриш. Далее Войшелк направился в паломничество на Святой Афон. Затем на реке Неман им был основан монастырь, названный по его имени Лавришевским.
При дворе Миндовга Войшелк ратовал за борьбу против немцев и союз с Александром Невским. Через год после смерти отца он становится великим князем Литовским. Борьба по вопросу об идентичности литовских князей – православной или католической – была продолжена в XIV столетии.
Норвежский противовес Швеции
Еще одна важная установка в деятельности политика – создание системы стратегических противовесов. И эта составляющая политического искусства оказалась в арсенале Александра Невского. Она была проявлена им, в частности, в политике на скандинавском направлении. Князь использовал в данном случае стратегию диверсификации субъектов отношений. Если в отношениях со Швецией была исходно задана матрица конфронтации, то по отношению к Норвегии Александр пытался выстраивать иную политическую линию. Норвегию он, вероятно, в своих замыслах даже пытался противопоставить Швеции.
Как и многие другие пограничные зоны, территория норвежско-русского соприкосновения являлась пространством конфликта. Происходили достаточно частые столкновения на бытовой почве, организовывались набеги. Главным вопросом противоборства являлась дань, взимаемая с карелов и саамов. В перспективе стычки могли перерасти в большой конфликт. Александр Невский это хорошо понимал и предпринял некоторые шаги к урегулированию споров. В 1251 году произошел обмен посольствами между Александром Невским и норвежским королем Хаконом IV Старым (1204–1263). Представители сторон постановили распри впредь прекратить.
Закрепить соглашение предполагалось браком между сыном Александра Невского Василием и дочерью Хакона IV Кристиной. Такой брак уравновешивал бы связи, установившиеся незадолго до того в результате заключения брака между сыном Хакона IV Хаконом Молодым и дочерью шведского ярла Биргера Рикицей Биргерсдоттир. Переговоры о браке, правда, не привели к результату. По сообщению норвежской «Саги о Хаконе», Александру в его намерении помешало начавшееся вторжение в его земли татар. Ссылка на татарское нашествие, под которым очевидно имелась в виду Неврюева рать, подтверждает время русско-норвежских переговоров. Кристина позже была выдана замуж за Филиппа, брата короля Кастилии и Леона Альфонса X.
Практическим итогом взаимодействия русского и норвежского посольств в 1251 году явилось урегулирование приграничного конфликта. Столкновения прекратились и вновь стали возникать только уже к концу столетия.
Король Хакон IV действительно мог сформировать в соответствующее время альтернативу Швеции в регионе. Время его правления оценивается как «золотой век» в истории Норвегии. При нем к норвежской короне были присоединены Дания и Исландия, под покровительством короля развивались искусства. Папа Иннокентий IV даже пытался после смерти Фридриха II именно Хакона поставить во главе Священной Римской империи. Вопрос об императоре решался в 1251 году, то есть в то самое время, когда шли русско-норвежские переговоры. Занятие императорского престола Хаконом существенно корректировало бы отношения Священной Римской империи и Руси244.
Поход в землю емь: крещение язычников
Надо иметь в виду, что при максимальном продвижении новгородской колонизации общая площадь земель Новгорода составляла 3 млн. квадратных километров. Эта территория в 5,5 раза превышала площадь Франции. В этом смысле геополитический потенциал Новгородской республики трудно было переоценить. Удержание этих огромных территорий под русским контролем составляло одну из важнейших задач политики Александра Невского в перспективе будущей геостратегии России.
Пространство северного языческого мира при Александре Невском просвещалось и включалось в орбиту Руси за счет распространения православного вероучения. Помимо отношений с самими язычниками, решался в данном случае и вопрос о соперничестве с католиками. Языческий мир в XIII веке христианизировался, и либо он становился в перспективе католическим, либо – православным.
Показателен в этом отношении поход Александра Невского 1256 года в Финляндию, «землю емь». Этот поход, как правило, в ряду других военных операций князя не указывается, хотя его проведение и результаты были блестящими245.
Катализатором похода явилась новая попытка шведов закрепиться в устье Нарвы. Всё было очень похоже на сценарий 1240 года. Шведы вместе с датчанами прибывают к побережью Финского залива и начинают возводить крепость. Князь Александр по обращению всполошившихся новгородцев собирает войско. Шведы, все еще помнившие битву на Неве, бросили строительство и поспешили ретироваться. Но Александр Невский войско не распускает. Причем, куда направляется поход, не оглашалось. Это позволило обеспечить эффект неожиданности для противника. Шведы не смогли оказать какого-либо противодействия. Войска Александра дошли до Копорья, а далее вступили в «землю емь». Большое содействие русским оказывали во время похода карелы. К тому времени они уже были, в отличие от еми, обращены в Православие.
Походы в Финляндию ранее организовывались и Мстиславом Удалым, и отцом Александра Невского Ярославом Всеволодовичем. Новизна действий Александра состояла в том, что задача в этот раз состояла не в подтверждении выплаты местным населением дани, а в присоединении финских территорий к Руси.
В финском походе вместе с войском участвовал митрополит Киевский и всея Руси Кирилл II. Это был первый в истории Русской Церкви прецедент, когда глава церковной иерархии направлялся в столь удаленные языческие земли. Своим присутствием митрополит подчеркивал христианскую православную миссию похода.
Имелись во время похода случаи закрытия в земле еми католических храмов. Сами по себе такие прецеденты указывают на то, что существовали и противоборствовали две линии христианизации финских земель – католическая и православная. Закрытие католических храмов воспринималось как возмездие за осквернение католиками храмов православных246.
Геополитическое значение этого похода Александра Невского трудно переоценить. К Руси в тяжелое для нее время оказался присоединен огромный край, включаемый сегодня в понятие Русский Север. Шведы более чем на треть столетия оказались вытеснены из региона.


