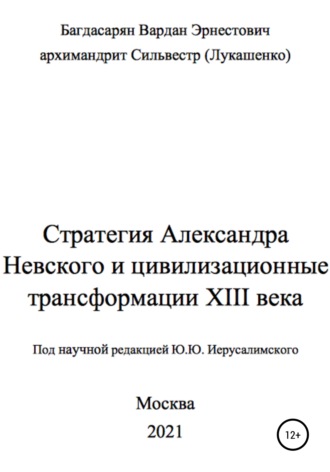
Вардан Эрнестович Багдасарян
Стратегия Александра Невского
Русское эхо падения Царьграда
Реакцию на Руси на падение Константинополя можно оценить по дошедшей в трех группах списков «Повести о взятии Константинополя крестоносцами (фрягами)»145. Автор повести сообщает о грабежах и бесчестиях, учиненных крестоносцами. Вместе с тем осуждаются греки, распри которых и привели к катастрофе. В этом смысле обнаруживается перекличка с обстоятельствами второго падения Византии в XV веке146.
Насколько Александр Невский был вообще погружен в контекст византийской катастрофы? Казалось бы, в источниках нет упоминаний о его осведомленности о произошедшем. Если исходить из позитивистского принципа работы с историческим материалом, следовало бы сказать: оснований для предположения нет. Но мы в данном исследовании руководствуемся не методологией позитивизма, а методологией сценарных возможностей и исторического контекста. И эта методология позволяет утверждать прямо противоположное: Александр Невский глубоко сопереживал случившемуся в Византии. Когда Александр Ярославич впервые в 1228 году отправился на новгородское княжение, архиепископом в Новгороде был Антоний (Добрыня Ядрейкович), оказавший, как полагают, большое влияние на воззрения и психологию молодого князя. В 1200 и в 1208 годах Антоний совершал паломничества в Византию, что нашло отражение в сочинении «Паломник»147. После второго паломничества он поместил в сочинении рассказ о взятии Царьграда крестоносцами. Информация была почерпнута им от прямых очевидцев. Таким образом, именно архиепископ Новгородский являлся одним из тех, кто доставил на Русь известия о константинопольской катастрофе. Допустить, что, находясь в контакте с молодым князем, он умолчал бы о случившемся со столицей Православного мира, не представляется возможным.
Новгородская первая летопись сообщала, будто бы Антоний привез в Новгород из византийского паломничества Гроб Господень. Привезенная реликвия стала главной новгородской святыней, хотя, очевидно, речь могла идти вероятнее всего о какой-то частице Гроба. Мог, конечно, Антоний привезти и некую подделку под иерусалимскую реликвию, которых тогда было много в Византии148.
Однако высказывается мнение, что это был подлинный Гроб Господень. И будто бы походы католиков против Новгорода были вызваны стремлением завладеть реликвией. Что же, запрос на исторические сенсации никто не отменял.
Взятие Константинополя крестоносцами в 1204 году было для православного сознания не меньшей катастрофой, чем новое его падение в уже в XV столетии. Оказался утрачен центр Православной цивилизации. В возникшей на развалинах Византии Латинской империи управляли французы-католики, официальным языком являлся французский149.
Падение Византии практически означало не только то, что не существует более Восточной Римской империи, но и делегитимизировало существование всего выстраиваемого вокруг нее Православного мира. Существование этого мира полагалось возможным только при наличии центра христианской ойкумены, как последнего и финального (в проекции истории) мирового царства. Падение Византии могло иметь три следствия: 1) признание легитимности Римской империи Запада и религиозное подчинение папе; 2) восприятие происходящего в качестве непосредственного начала апокалипсических событий, наступление последних времен; 3) выдвижение идеи нового строительства империи, восстановление Православной Римской империи.
Линия Даниила Галицкого, который был не одиноким в своем выборе в пользу Запада, соотносилась с первым подходом. Второй подход имел также широкое распространение на Руси, будучи выражен в подъеме эсхатологических настроений, восприятии нашествия монголов в качестве знамения Апокалипсиса (приход народов Гога и Магога). Александр Невский, по-видимому, действовал сообразно с третьим из возможных подходов, проводя курс на восстановление Восточной христианской (православной) империи теми средствами, которые были тогда для него возможны. В этом отношении можно говорить, что идеи, положенные в основание будущей концепции Третьего Рима, ее проектная линия были выдвинуты еще в XIII столетии. Условно эта линия может быть определена как проект Александра Невского150.
Византийский император в Галиче: политическая игра Романа Мстиславича
На Руси не только получали информацию о произошедшей в Византии катастрофе. Она оказалась определенным образом вовлечена в развязку истории со свержением византийского императора. Свергнутого в результате первого штурма крестоносцами Константинополя (1202 год) императора Алексея III Ангела (старшего брата восстановленного на престоле Исаака II Ангела) в возникшей неразберихе потеряли из виду. В результате ему удалось, прихватив с собой 10 кентинариев золота и дочь Ирину, бежать в Адрианополь. А вот далее он и оказывается на Руси: в городе Галиче у князя Романа Мстиславича (ок. 1150–1205)151. Об этом независимо друг от друга сообщали более поздние польские (Ян Длугош) и итальянские («Новая церковная история») источники. Россия не единожды принимала у себя низвергнутых «цветными революциями» «диктаторов».
В Галиче Алексей III мог пребывать не позднее 1205 года, времени убийства Романа Мстиславича поляками. Роман имел большие политические амбиции. Объединив Галицкое и Волынское княжества, он в 1203 году установил контроль и над Киевом. Не исключено, что в это самое время византийский император был уже (или еще) в Галиче, придавая вес политике Романа. В.Н. Татищев приписывал галицкому князю выдвижение в то же самое время – 1203 год – русского имперского проекта. Проект содержал идеи модернизации коллективной княжеской обороны Руси и изменение системы передачи власти. Безусловно, нахождение рядом с ним фигуры императора давало такому амбициозному князю, как Роман Мстиславич, шанс развернуть большую политическую игру. После смерти в 1204 году Исаака Ангела Русь могла позиционироваться в качестве центра пребывания единственного легитимного византийского императора. Как преемница Византии, она могла бы стать главным противовесом (более легитимным, чем Никея) Латинской империи. И не случайно в этой связи, что в 1203–1204 годах папа Иннокентий III предлагает Роману Мстиславичу в обмен на переход в католицизм коронацию в качестве короля русских. Возможно, папское предложение содержало и обращение об отказе галицкого князя от замысла по восстановлению Византии. Убийство Романа Мстиславича поляками в 1205 году было особенно выгодно Риму, так как устраняло потенциального актора борьбы против Латинской империи.
Алексей III после смерти Романа в стремлении восстановиться на византийском престоле пытался сделать ставку на других акторов – правителя Северного Пелопоннеса Льва Сгура, Эпирский деспотат и, в конце концов, на мусульманское государство – Конийский султанат в Малой Азии. Дальнейший поиск им союзников указывает, что и ранее в Галиче он находился в соответствии с определенным политическим замыслом.
Латинская империя: уроки для России
Период с 1204 по 1261 год в истории Византии – время существования Латинской империи. Идеологически он характеризуется историками как франкократия152. Понятие «Латинская империя» не было, правда, официальным. Империя называлась в этот период Константинопольской, или Романией. Но сущностно она была именно латинской (католической), и православные в ней оказались на вторых ролях153.
Католиками являлись все императоры Константинопольской империи. Поначалу предложение стать императором было адресовано венецианскому дожу Энрико Дондоло, но тот отказался. Дожу на это время было уже 97 лет. Но сама идея провозгласить константинопольским императором лидера тогдашней европейской финансовой олигархии заслуживает особого внимания. После отказа Дондоло осталось два кандидата на императорский пост: граф Фландрии Балдуин Фландрский и непосредственный руководитель крестового похода Бонифаций Монферратский. При лоббировании венецианцев императором стал Балдуин I (1171–1205). Однако через год он был взят в плен во время войны с болгарским царем Калояном и умер в заточении. Новым константинопольским императором стал его брат Генрих I Фландрский (ок. 1174–1216), при котором, собственно, и складывается фактически новая система управления империей154.
Главными бенефициарами Четвертого крестового похода и создания Латинской империи оказались венецианцы. Сделанные ими приобретения позволяли дожам гордо величать себя «властителями четверти и полчетверти Византийской империи»155. В самом Константинополе под их контролем находилось три из восьми городских кварталов. Венецианцы имели свой суд. В императорском совете они были представлены половиной заседателей. И всё это при том, что именно венецианцы проявили себя наиболее безнравственно и были, казалось бы, отлучены папой от Церкви.
Нельзя сказать, что православные в Латинской империи были в положении репрессируемого населения. Церковная иерархия продолжала существовать, сохранялись и некоторые налоговые послабления. Но очевидной была вторичность Православной Церкви по отношению к Католической и вторичность православных по отношению к католикам. Под управление латинского прелата был передан Афон, что само по себе могло быть оценено как небывалое кощунство. Потребовалась папская булла 1214 года, предоставившая Святой Горе автономию в отношении латинян. Рим пошел на такую уступку, как полагал Ф.И. Успенский, признавая высокий уровень благочестия обители156. Защитницей Афона выступила и супруга короля Латинской империи, крещеная в Православии дочь царя Калояна Мария Болгарская, оставившая по себе на Святой Горе добрую славу.
Если Балдуин I не скрывал своего презрения к грекам, то Генрих I действовал более гибко. Часть греческой аристократии стала встраиваться в новую систему управления. Это требовало от нее признания франкократии, что было, безусловно, проявлением коллаборационизма.
В 1213 году по инициативе папского легата кардинала Пелагия Альбанского была предпринята попытка введения унии. Над Православной Церковью в Византии нависла реальная угроза оказаться поглощенной католицизмом. Но на тот момент это было чрезмерно радикально и грозило непредсказуемыми потрясениями. В результате Генрих I остановил реформу. Это было интерпретировано как заступничество императора за православных и повысило его авторитет157. Но надо понимать, что вопрос об унии в какой-то перспективе должен был быть поднят снова.
Не имея опоры среди местного населения, не обладая цивилизационной идентичностью, Латинская империя была обречена. Урок ее падения и восстановления Византии важен, в том числе, и для современной России.
Для того чтобы произошло цивилизационное восстановление Византии, потребовалось чуть более полувека. В России на этапе постсоветского транзита также сложился свой аналог режима «франкократии». Но, как и в Византии, даже раньше, чем в ней, далее проявили себя цивилизационные силы. И в этом отношении современные параллели с фигурой Михаила VIII Палеолога также не лишены оснований.
Генрих I Фландрский, желая привлечь для поддержки Латинской империи людские ресурсы из католических стран, которых явно не хватало для удержания греков, обращался в Рим с предложением по отпущению грехов всем направляющимся в бывшую Византию, по аналогии с отпущением грехов участникам крестовых походов. Однако это было бы чрезмерным решением, окончательно подменяющим смысл движения крестоносцев. Папа Иннокентий III в итоге встретил инициативу Генриха холодно158.
К концу своего исторического существования Латинская империя держалась исключительно на помощи Венеции. Император Балдуин II де Куртене (1217/1218–1273) терпел одно за другим поражения от болгар и никейцев159. Территория империи ограничивалась фактически одним Константинополем. Казна была истощена. Стремясь найти какие-то средства, Балдуин заложил французскому королю не только все свои владения во Франции, но и остававшиеся в Константинополе христианские реликвии. Венецианцам он оставил в залог своего собственного сына Филиппа, которого выкупил в дальнейшем король Альфонсо X Кастильский160.
Для Руси деградация Латинской империи имела назидательное значение. Построенное обманом государство латинян обнаруживало крайнюю непривлекательность. Это укрепляло во мнении о правильности сделанного Александром Невским стратегического выбора.
Средиземноморская война капиталов: олигархат Венеции против олигархата Генуи
Наряду с феодальными и религиозными войнами в XIII веке происходила и война нового типа. Суть ее состояла в столкновении наиболее влиятельных группировок торгового капитала. Противниками в войне выступали Венеция и Генуя161. Торговая война шла параллельно с войнами цивилизационными. Сторонниками Венеции в борьбе с Генуей являлись тамплиеры. Поддерживало венецианцев большинство палестинских баронов. Союзником Генуи являлся Орден госпитальеров. Среди палестинских владетелей сторонником генуэзцев выступал, в частности, сеньор Тира Филипп I де Монфор. В тесном альянсе с Венецией находилась Латинская империя. Напротив, православные государства региона ориентировались последовательно на Геную. Для них венецианская сторона, связанная с бесчинствами 1204 года, была принципиально неприемлемой. В борьбе за восстановление Византии союз с Генуей использовал Михаил VIII Палеолог. Опираясь на поддержку православных государств, генуэзские фактории заняли прочные позиции в Крыму.
Венецианско-генуэзское размежевание составляло еще один неучтенный аспект международных отношений XIII века. Политики уровня Александра Невского безусловно должны были, как минимум, принимать его во внимание.
В 1261 году Михаил Палелог – на тот момент еще правитель Никеи –заключил так называемый Нимфейский договор с Генуэзской республикой, представлявший собой фактическую сделку по восстановлению его власти над Константинополем. Генуэзцы обещали предоставить флот, который у Михаила отсутствовал. Флот был необходим, чтобы при сценарии организации крестового похода против православных было чем противостоять на море союзнику Латинской империи Венеции. Любой генуэзец, проживавший на территории империи, мог быть зачислен в греческую армию при сохранении подсудности только генуэзским органам. Генуя обязывалась не вести войну против союзников Михаила – Киликийской Армении, Кипрского королевства и Ахейского княжества. В свою очередь Генуе предоставлялась полная свобода торговли на всей территории империи. Черное море оказывалось открыто, помимо греческих, только для генуэзских и пизанских судов162.
Считается, что Нимфейский договор был ошибкой Михаила VIII Палеолога, так как привел к генуэзскому торговому доминированию в регионе, которое заменило прежнее венецианское преобладание. Флот Генуи практически не понадобился, так как военная операция по восстановлению контроля над Константинополем была осуществлена без генуэзского участия. Но аргументация постфактум имеет, естественно, соответствующие искажения. Неизвестно, как бы действовали папа и Венеция в случае отсутствия у Михаила союзника, обладающего мощным флотом. Впоследствии, правда император стремился частично ограничить влияние Генуи и восстановил торговые права Венеции. В 1270 году между Венецией и Генуей был заключен Кремонский мир, оказавшийся в перспективе 33-летним перемирием. Соперничество между Венецией и Генуей продолжалось и в XIV столетии.
Парадоксы Никеи: религиозные компромиссы греков
До Руси должна была доходить информация о продолжающейся борьбе Никеи с Латинской империей за восстановление православного царства163. Основанием считать, что информация поступала, являлась включенность Русской Церкви в Константинопольский патриархат, имевший на тот момент резиденцию в Никее. Сообщения из Никеи могли воодушевлять – при констатации, что борьба продолжается, а могли и разочаровывать – при сведениях о переговорах в отношении унии. Но они должны были влиять на сознание, как минимум, русских политических элит.
Создатель Никейской империи Феодор I Ласкарис (1174–1222) действовал против латинян в союзе с Болгарским царством. Цвет рыцарства был уничтожен в 1205 году в битве при Адрианополе, где армия Латинской империи была разгромлена объединенным болгаро-половецким войском под руководством царя Калояна. Это дало оперативный простор грекам, позволило институционализировать новое государство. В противовес союзу никейцев с болгарами, Латинская империя использовала союз с турками-сельджуками. Сам по себе альянс католиков с мусульманами против православных показателен в раскрытии сути политики Запада. Никейской империи, соответственно, приходилось небезуспешно воевать на два фронта. Против сельджуков никейский император стремился заручиться помощью Киликийского армянского царства.
Третьим фронтом стала борьба с другими осколками Византии – греческими православными государствами – Трапезундской империей и Фессалоникийской империей (ранее Эпирским деспотатом). Приходится констатировать, что даже после гибели Византии должные уроки из катастрофы не были извлечены, и православные греки не только находились в расколе, но и вели друг против друга боевые действия.
Уже при первом никейском императоре Феодоре I Ласкарисе имели место две войны Никеи с Латинской империей. Первая из них – 1206–1207 гг. – завершилась в пользу греков, вторая – 1211–1212 гг. – в пользу латинян.
Стратегия Никеи состояла, по-видимому, в том, чтобы, ведя борьбу с Латинской империей, добиться нейтралитета от Римско-католической Церкви путем развёртывания диалога об унии. Такого конфликта с католицизмом, который был в XIII веке у Руси, греки избегали. Характерно, что и гораздо более сильный, в сравнении с правителями Никеи, болгарский царь Калоян (ок. 1168–1207) действовал сходным образом: воевал с Латинской империей и обещал принять унию.
На диалог с папой попытался выйти уже первый никейский император Феодор I Ласкарис164. В послании папе Иннокентию III он формулировал многочисленные претензии к латинянам на совершенные ими злодеяния при взятии Константинополя. Обвинения адресовались не только к прошлому, но и к настоящему – нарушения латинянами перемирия, препятствия достижению согласия. Феодор призывал папу взять на себя роль посредника, предлагал провести разделительную черту между греками и латинянами по морю, закрепив азиатскую часть бывшей Византии за Никейской империей. Со своей стороны, никейский император обещал принять участие в католическом крестовом походе против мусульман.
В ответном письме Иннокентий III рекомендовал Феодору Ласкарису подчиниться Латинской (Константинопольской) империи. Папа писал, что не извиняет ни бесчинства крестоносцев в Византии, ни самого изменения направленности крестового похода. Но он связывал произошедшее в большей степени с интригами сына свергнутого византийского императора Алексея III. Греки же, как пояснял папа, потеряли царство за свои грехи, заключающиеся в подрыве назначения Церкви. Папа Иннокентий III отказывался признать Феодора Ласкариса императором и обращался к нему, как к «знатному мужу»165.
Продвижение унии в 1220 году было выведено на уровень общегреческого решения. Оно должно было состояться на Никейском Соборе. Однако отказ эпирских архиереев прибыть на Собор привел к его срыву. Полемика и конфликты между Никейской и Эпирской Церквями еще более усугубляли раскол греческого мира166.
Для выстраивания отношений с внешним миром Феодор Ласкарис пытался использовать и инструмент брачной дипломатии. Старшая дочь никейского правителя была выдана замуж за наследника венгерского престола, будущего короля Венгрии Белу IV. Однако отец того, Андраш II Крестоносец, вернувшись из Пятого крестового похода, попытался объявить брак своего сына с православной царевной недействительным. Бела от гнева отца был вынужден бежать.
Младшая из дочерей Феодора Ласкариса вышла замуж уже после смерти отца за барона Ансо де Кайо, ставшего регентом Латинской империи, а среднюю дочь император выдал за своего сподвижника, великого доместика Андроника Палеолога. Сын Андроника Михаил восстановит в дальнейшем Византийскую империю.
Сам Феодор Ласкарис добивался руки дочери армянского короля – западника Левона I – правителя Киликийской Армении, принявшего ранее коронацию от папы Римского. Однако Левон попытался обмануть никейского правителя, прислав вместо дочери племянницу Филиппу. Дочь же Стефанию армянский король отдал в жены Иоанну де Бриенну – королю Иерусалима. Это привело к резкому обострению отношений Киликийской Армении с Никеей. Уже после смерти Левона Иерусалимский король попытался возвести их сына со Стефанией на престол Армянского королевства, что означало бы полное окатоличивание армян. Однако смерть Стефании расстроила эти планы. Как видим, браки с представителями иных конфессий являлись обоюдоострым оружием.
Феодору Ласкарису пришлось поменять свои брачные планы, и в 1218 году он женился на Марии, дочери императора Латинской империи Пьера де Куртене, ушедшего годом ранее из жизни. Антагонизм Никеи к Латинской империи оказывался, таким образом, относительным. Вероятно, Феодор полагал, что данный брак повышает его права в борьбе за Константинополь. В пользу этого говорит начавшаяся сразу по заключения брака подготовка никейцев к захвату столицы Латинской империи.
Интересно, что Мария после смерти мужа вернулась к латинянам в Константинополь. Когда там умер являвшийся очередным императором ее брат Роберт де Куртене, бывшая царица Никеи стала регентшей Латинской империи.
Между тем Феодор Ласкарис еще до выдачи своей дочери Евдокии замуж за Ансо де Кайо намеревался отдать ее в жены Роберту де Куртене167. Не останавливало даже противодействие Константинопольского (Никейского) патриарха Мануила I, указывавшего на невозможность брака ввиду родственной близости Роберта и Евдокии. Действительно, брачные связи между правящими домами Латинской и Никейской империй еще более осложняли ситуацию, выводя на сценарии, которые могли быть использованы в свою пользу обеими сторонами168.
Военные победы Александра Невского хронологически соотносились с правлением в Никее императора Иоанна III Дуки Ватаца (ок. 1192–1254). По результатам первой его войны с латинянами от Латинской империи были отторгнуты стратегически значимые острова Эгейского моря – Родос, Лесбос, Самос, Хиос. Во время второй войны 1233–1241 гг. никейцы едва не взяли Константинополь. Болгары, являвшиеся союзниками Никеи в войне, неожиданно перешли на сторону противника, что поставило никейцев в критическое положение. Но начавшаяся в Болгарии чума вызвала в народе убеждение, что это есть кара за отступление от союза с православными, и никейско-болгарский союз был восстановлен. Война завершилась вытеснением латинян из Малой Азии. Это создавало благоприятный для православных контекст в раскладе общего католическо-православного противостояния накануне столкновения Александра Невского с немцами.
Итогом третьей войны – весны-лета 1247 года – стало фактическое блокирование Константинополя с суши. Оставалось одно – военная операция взятия города. Но решение о штурме бывшей столицы Византии сдерживалось опасением того, что Запад может ответить организацией крестового похода169.
Никейцы, безусловно, могли взять Константинополь задолго до того, как это случится в 1261 году. Но у них отсутствовали должные силы для борьбы в случае организации Римом крестового похода и противостояния с Западом. Вот тут-то, казалось бы, и могло обнаружиться стремление к единению Православного мира. Никейцы привлекали к борьбе с католиками болгар. Но привлечение Руси вообще не значилось в планах никейских императоров. А между тем, Русь в то же самое время вела под руководством Александра Невского прямую военную борьбу с наступающими крестоносцами, то есть объективно должна была рассматриваться как союзница.
Император Иоанн III Дука Ватац предпочел действовать иначе, сделав ставку на раскол европейских католических сил. К концу 1237 года был выстроен союз никейского императора с императором Священной Римской империи Фридрихом II. Иоанн III был готов стать вассалом германского императора в обмен на помощь того в освобождении Константинополя. Никейские войска направлялись в помощь Фридриху в Италию, где тот вел затяжную войну с итальянскими городами. Союзнические отношения закреплялись браком Иоанна с дочерью Фридриха Констанцией (в Православии – Анной)170.
Папа Григорий IX воспринял крайне негативно поступающую информацию о союзе Фридриха II с православными. Своевольная политика императора Священной Римской империи расстраивала общую стратегическую линию политики папства в отношении Православия. При папе Иннокентии VI Фридрих II за союз с православными был на I Лионском соборе 1245 года окончательно отлучен от Церкви. Но для союза с Никеей это имело благоприятные последствия.
Казавшаяся правильной стратегическая линия на союз с императором Священной Римской империи дала сбой после смерти Фридриха. Его преемники на императорском престоле к идее альянса с Никеей интереса не проявили, а возможно, и опасались осуждения и санкций со стороны Рима.
Впрочем, Иоанн III одновременно вел переговоры с папами. В 1249 году к нему в Никею, в частности, прибыл генерал Францисканского ордена Иоанн Пармский. Предметом переговоров стала тема принятия Никеей унии. Фридрих даже упрекал Иоанна за то, что тот самостоятельно принял решение о диалоге с папой, являющимся «отцом лжи». В 1251 году император Никеи посчитал целесообразным приостановить переговоры с Римом. Ответным шагом папа Иннокентий IV развернул пропаганду крестового похода против Никейской империи. Иоанн III вынужден был вернуться к диалогу с Римом о заключении унии. Иннокентий был даже готов пойти на то, чтобы в Константинополе было одновременно два патриарха – один для латинян, второй – для греков.
Никейская империя боролась с Латинской, но утрачивала основы этой борьбы – опору на Православие. С одной стороны, обнаруживалась готовность в обмен на возвращение Константинополя принять унию. Но в этом случае утрачивался и сам смысл борьбы с Римской империей. Другой стороной происходящих в Никейской империи изменений являлся переход от единой православной идентичности к идентичности греческой (эллинской). Греки стали отдавать приоритет национальным интересам. Никея, как греческий центр, утрачивала потенциал быть лидером Православного мира, которым обладала прежде Византия.
Сходным с Никейской империей образом действовали и другие греческие государства, осколки когда-то единой Византийской империи. Задачей-минимум для них являлось закрепление за собой положения легитимного центра для всех греков, как западных, так и восточных. Это предполагало борьбу греческих государств друг с другом. Задача-максимум состояла в восстановлении Византии. А это уже связывалось с претензиями на латинский Константинополь. Для решения как первой, так и второй задачи собственных ресурсов ни у одного греческого государства не доставало. Отсюда предпринимаемые ими попытки добиться поддержки со стороны Рима. Но такая поддержка могла быть оказана только в обмен на религиозные уступки. И все без исключения греческие государства вели переговоры об унии. Правда, зачастую, это делалось формально, при реальном саботаже процесса присоединения к унии. Ф.И. Успенский так описывал продвижение униатского проекта, в частности, в греческом Эпирском деспотате: «Папа Гонорий скоро увидел, что держава Феодора стала национальным центром православной Греции, средоточием и защитою непримиримых и ученых вождей Православия в Греции, а не мостом к подчинению православной Церкви папству, и отлучил Феодора от Церкви, упразднил акт унии эпирского деспота с католической Церковью, мотивируя отлучение враждой Феодора к Латинской империи…»171.


