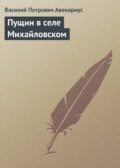Василий Авенариус
Поветрие
XXIV
Бедная! Как она мало жила!
Как она много любила!
Н. Некрасов
С этого дня учитель наш посещал жену свою в заточении, по крайней мере, дважды в сутки: раз поутру, другой ввечеру. Но, воротившись на седьмой день с уроков домой, он застал ее уже там. По-прежнему устроилась она в первой комнате на кровати; возле нее, на перине, возлежал крошка-сынок.
– Машенька! – ахнул он. – Как же ты так рано?
– А ты не рад?
– Рад, милая, но боюсь, чтобы ты не поплатилась за свою смелость. Ведь ты приехала, конечно, в карете?
– Нет, мой друг, на извозчике. У тебя нынче и без того гибель издержек.
– Машенька, ребенок мой! Как раз захвораешь. Опасения Ластова вскоре оказались, к несчастью, слишком основательны: с вечера у Маши обнаружились холод и жар, к утру лихорадка была в полном разгаре. Призванный акушер объявил, что у нее febris puerperalis, и что в этом состоянии она не может кормить сама. Ластов отыскал кормилицу. Болезнь Мари шла исполинскими шагами: несколько дней спустя врач отозвал молодого мужа в сторону и с соболезнованием уведомил его, что у родильницы может открыться тиф, чтобы он, Ластов, был на все готовым. Печаль, отчаянье учителя не знали пределов; но он сдерживал себя, чтобы не показать больной опасности ее положения. Ни на минуту не отходил он от ее постели, прочитывал ей вслух, чтобы ее рассеять, из новых журналов, каждые пять минут переворачивал ее с боку на бок, ночью едва смыкал глаза, подогревал, подавал ей лекарства, которые она не принимала иначе, как из его рук. В дальнейших стадиях болезни нрав ее, кроткий, деликатный, сделался беспокоен, раздражителен. Без видимой причины напускалась она даже на милого, если он недостаточно проворно исполнял какое-нибудь требование ее. Вслед затем являлось, конечно, раскаяние.
– Не сердись, Левушка, – говорила она, – я больна, я несправедлива, имей терпенье со мною. Но ты представить себе не можешь, как тяжело мне.
Бедная страдалица сгорала как свечка; можно было почти предвидеть, когда она в последний раз вспыхнет и потухнет. Глаза и щеки ее впали, руки иссохли, как щепки, голос ослабел до невнятного шепота; без чужой помощи не могла она уже приподняться с изголовья; нервная кожа ее страдала от малейшего прикосновенья, почему, при поворачивании больной, дотрагиваться до нее можно было только с величайшей осторожностью.
Вскоре состояние ее было безнадежно.
– Мужайтесь, – сказал учителю доктор, – более недели ей не прожить.
Сама Мари предчувствовала свой конец.
– Умереть, неужели уже умереть?! – лепетала она про себя. – Да не хочу же я, не хочу! Теперь, когда стала, наконец, совсем счастливой, бросить все, все! Это несправедливо, это бесчеловечно! Пожить я хочу… Господи, что ж это такое!
В ее воспаленных, все еще прекрасных, выразительных глазах вспыхивал бессильный гнев, слабо металась она на постели.
– На кого я тебя-то оставлю? – жаловалась она потом. – Кто будет заботиться о тебе? Ты полюбишь другую, полюбишь Наденьку, она будет ласкаться к тебе… Ах, нет, не нужно, не нужно!
Слезы, но скудные, безотрадные слезы текли по ее впалым, разгоряченным щекам.
– А мальчик наш? Сиротинка, что с ним-то станется? Мальчик, сыночек мой, где он?
Ей приносили сына. Ослабшими, сухими губами целовала она его.
– Господи, да будет воля твоя! Лева… есть на свете еще женщина, оценившая тебя, – Наденька. Не перебивай меня; она жива, я это знаю. Бог же с тобой, полюби уж ее, пусть печется о тебе, о нашем мальчике… Назови его также Львом; не забудь, мой милый…
– Да ты оправишься, ты еще долгие годы проживешь с нами, – говорил, чуть не плача, Ластов.
– Напрасно утешаешь, сам ведь не веришь. Слышу я ее, злодейку-смерть, в груди здесь сидит она у меня, сосет меня… Кто бы поверил, что так тошно помирать! Ужели так и покончить?
Не было у нее уже сил рыдать: выходили одни хриплые, раздирающие душу стенания, только руки ее судорожно поднимались с ложа, чтобы тотчас же упадать в бессилии, только ноги вздрагивали, да воспаленные, треснувшие губы сжимались и размыкались.
Однажды ночью, не будучи в состоянии преодолеть усталость, Ластов бессознательно задремал на стуле. Когда он вдруг встрепенулся и на цыпочках приблизился к жене, то не расслышал уже ее дыхания. Несмотря на постоянное ожидание этой минуты, сердце у него безысходно заныло. Не смея еще положительно увериться в случившемся, он отошел к окну и прислонился головой к холодному стеклу. Собравшись с духом, он взял ночник и, стиснув зубы, подошел к одру жены. Полный свет лампадки упал на безжизненные черты молодой страдалицы; глаза, подернутые уже пеленою смерти, были полуоткрыты. Ластов взял ее руку. Рука была холодна и тяжела, как свинец. Превозмогая себя, закрыл он умершей глаза, сложил ей на груди руки, поправил одеяло. Затем, задув огонь, присел на пол у изголовья покойницы и спрятал лицо в руки. Счастливы люди, которым даны слезы! Со слезами утекает и их горе. Более глубокие натуры не умеют плакать: скорбь грызет, гложет их внутри, слезы подступают к горлу, душат, как плотно стянутая петля, но не вырываются наружу. И много времени требуется на то, чтобы затаенная кручина испарилась капля по капле.
Когда поутру в кабинет осторожно заглянула Анна Никитишна, Ластов сидел в прежнем положении, там же на полу; возле него стоял загашенный ночник. Отняв от лица руки, жилец медленно повернул к ней голову. Она ахнула и тихо прошептала:
– На вас лица нет! Что с вами?
– Можете говорить громко, – отвечал он, приподнимаясь, и с невыразимо грустной усмешкой указал на труп жены: – Карета готова.
– Неужто? Все кончено?
– Можете удостовериться.
Не станем описывать ни приготовлений к похоронам, ни самого печального обряда. Скажем только, что хлопоты по погребению Ластов, занявший в гимназии в счет жалованья до двухсот рублей, взял все на себя и исполнил все с безупречным тщанием и точностью. Некоторые лишь частности, как-то: одевание умершей, украшение гроба живыми цветами, предоставил он Анне Никитишне и приглашенным им дочерям кондитера-энгадинца; этих последних, кстати, попросил он и известить кого следовало на родине о кончине швейцарки.
Но как только бедной Маше был отдан последний долг, учитель впал в полную апатию. Ни жалобой, ни вздохом не выражал он своего горя: с невозмутимым равнодушием глядел он на все совершавшееся около него; потолок мог бы обрушиться на него – и тут бы он, кажется, не сделал шагу для своего спасенья. От частных уроков он отказался: не для кого было трудиться. В гимназию ходил, но более для уплаты занятых на погребение денег. Даже к малютке-сыну он оставался почти безразличен: принесут – хорошо, приласкает; не принесут – не спросит. На встречавшихся ему на улице женщин, особенно на молодых, дышавших красотою и свежестью, он просто глядеть не мог, отворачивался с отвращением. В былое время любил он напевать что-нибудь, насвистывать; теперь целый день угрюмо безмолвствовал; изредка лишь замурлычит глухим голосом последний куплет любимого романса покойной – «Вьется ласточка»:
У меня была
Также ласточка,
Белогрудая
Душа-пташечка;
Да свила судьба
Ей уж гнездышко
Во сырой земле
Вековечное!
В свободное от занятий время, несмотря ни на какую непогодь, он ездил на кладбище и возвращался только к ночи. Анна Никитишна ходила как не своя:
«Ну, вот, одну свезли на Волково, а тут того гляди, что и он, касатик, отправится! Не к добру на могилу к ней ездит он, ох, не к добру! Долго ли простудиться, занемочь… Эко, право, наказанье господне!»
Оправдались тревоги старухи: вернувшись раз поздно с кладбища, Ластов жаловался на сильную головную боль, на холод и выпил липового цвету; к утру он лежал уже в бреду. Когда же растерявшаяся хозяйка сбегала за ближайшим доктором, тот объявил ей, что жилец ее в горячке.
XXV
Последние слезы
О горе былом,
И первые грезы
О счастье ином…
А. Майков
Фантастические исчадия причудливого горячечного бреда имеют много общего с творениями известного рода драматургов: и там и здесь все три единства, и даже более, соблюдены в точности. Давно прошедшее сочетается без малейшего стеснения с настоящим и с ожидаемым будущим. Лица, никогда в глаза не видавшие друг друга, встречаются как давнишние знакомые, да в местности, сшитой на живую нитку из лоскутков Бог весть скольких стран и мест, отстоящих одно от другого на тысячи верст. Рьяный крылатый конь воображения переносится через любые барьеры и рвы анахронизмов и парадоксов. Однако в эффекте, достигаемом талантливыми нелепицами Сулье, Сарду и компании, с одной стороны, и отродьями гениальной богини болезненного бреда – с другой, пальма первенства бесспорно принадлежит горячке.
И перед омраченным умом Ластова развертывалась нескончаемая панорама разнообразнейших картин и положений, где швейцарская и итальянская флоры пересаживались на болотистую почву Петербурга, где личности, отошедшие уже в царство теней, восставали из гроба в прежнем своем виде, нимало сами не удивляясь такой несообразности.
В начале болезни Ластова первое место между являвшимися ему выходцами с того света занимала, понятным образом, покойная Мари. Мало-помалу, однако, образ ее начал стушевываться, заменяться другим. Вглядится ли больной попристальнее в нее – черно-бархатные, большие глаза ее незаметно примут голубой оттенок, углубятся в орбиты, решительно посинеют; лукаво вздернутый носик выпрямится в серьезный греческий; черты розовые, округлые, сентиментальные побледнеют, обрисуются резче, облагородятся сосредоточенною думою…
– Наденька… – пролепечет он.
Но в то же мгновение видение исчезнет; по-прежнему белеет в вышине потолок спальни, на фоне которого немедленно возобновляются замысловатые игры уродливых созданий расстроенного мозга.
Шли дни, шли недели, протекло два месяца. Прилетела вновь из-за моря молодая волшебница-весна, подула своим теплым дыханием – и рассеялись на небе свинцовые тучи, высохла мостовая, взвились резвые вихри пыли; заглянула в городские сады и скверы, прикоснулась цветущими пальцами к помертвелым древесным ветвям – и распустились деревья, зазеленели. Глянула она своим всеоживляющим оком и в келью нашего страдальца – как рукой сняло его недуг, как от здорового, долгого сна пробудился он в светлый майский полдень с совершенно свежей головою. Золотыми потоками врывался божий день в растворенное окно и наполнял все пространство небольшой спальни мерцающим блеском. Ластов огляделся: все вокруг было так чисто, так опрятно, на всем лежал отпечаток рачительной женской руки. Сам он, Ластов, был тщательно укутан в два одеяла – вероятно, из опасения, чтобы свежесть вливавшегося в окошко весеннего воздуха не повредила ему. Но ему стало жарко; сбросив верхнее одеяло на пол, нижнее он распахнул на груди и хотел приподняться. В глазах у него забегали огоньки, в изнеможении упал он назад на подушки и закрыл веки. С самой той минуты, когда он пробудился к действительности, он ни одной мыслью не возвращался еще к прошедшему; оно как будто улетучилось вместе с горячкой. Перед сомкнутыми глазами его пролетали какие-то светлые, неясные идейки, как в волшебном сне он мирно улыбался.
Тут тихонько отворилась дверь. Чьи-то осторожные шаги, с легким шелестом женского платья, приблизились к больному. Не шелохнувшись, продолжал он лежать в приятном забытьи. Кто-то поднял с полу сброшенное одеяло и накрыл им спящего. Чье-то теплое дыхание пахнуло ему в лицо, чьи-то свежие губы прикоснулись к его губам…
«Опять как во сне, – мелькнуло в голове у него. – Ужели в самом деле Наденька?»
Он раскрыл глаза.
– Ах! – отскочила с испугом склонившаяся над ним молодая стройная послушница и уже спасалась в соседнюю комнату. На пороге она одумалась и тихими шагами возвратилась к Ластову.
– Вы узнали меня, Лев Ильич? Вам, значит, лучше? – взволнованно спросила она.
– Никогда я не чувствовал себя лучше, – весело отвечал он. – Только слаб еще: попробовал было приподняться, да голова закружилась, как у пьяного.
– Еще бы. Вам и нельзя еще вставать. Позвольте-ка пульс.
С улыбкой достал он из-под покрывала руку. Наденька указательным и большим пальцами взяла ее за сочленение кисти и, сдвинув брови, стала считать про себя удары. Складки на лбу ее сгладились.
– Ну, опасность миновала, лихорадки нет и следа. Теперь… – сказала она, и голос ее принял грустный оттенок, – теперь я могу оставить вас, оставить сыночка вашего, маленького Левеньку, к которому привязалась, как к родному сыну…
В глазах у Ластова потемнело; он схватился рукою за сердце. Его, как ударом молнии, мгновенно поразило воспоминание о минувшей счастливой жизни с бедной Машей, которой уже нет в живых, которая по себе оставила ему только сына. Он с трудом перевел дыхание.
– Надежда Николаевна, – промолвил он, – что сын мой, здоров?
– Ах, Боже мой, – спохватилась Наденька, – ведь вы его со времени вашей болезни и не видали. Как же, здоровехонек. Какой он, я вам скажу, милашка! Просто, херувимчик. Ну, да я вам сейчас покажу его.
Она поспешила выйти и вслед затем воротилась с трехмесячным младенцем на руках. Следовавшая за ней кормилица остановилась в дверях.
– Смотрите же, Лев Ильич, ну, не душка ли он? Поклонись, Левенька, папаше, поклонись, – продолжала послушница, качая малютку в направлении к больному. – Он и смеяться уже умеет, право. Засмейся-ка, мальчик мой, засмейся папаше? Нет, не хочет, характер свой, значит, тоже есть; зато, случится, засмеется, просто сердце покатится от радости: ведь малюсенький, глупенький, а тоже знает тебя; тут вот и ценишь его ласковость. Ах, ты глупышка, прелесть моя, засмеялся! Лев Ильич, голубчик, смотрите: засмеялся!
С восхищением почти материнской любви стала она лобызать маленькому Левеньке и ножки, и ручки, и ротик.
– Слюняй ты, слюняй, – говорила она, нацеловавшись и вытирая себе рукавом губы.
– Да и слюнки-то хорошенькие! – восклицала она затем, с возобновленною нежностью принимаясь осыпать его поцелуями.
– Позвольте-ка его сюда, – промолвил растроганным голосом Ластов и, усадив младенца к себе на грудь, с грустною радостью загляделся в его пухленькое личико. Большие, черные глазки, мило вздернутый носик так и казались изваяны по образу покойной матери. А тут, нимало не дичась отца, малютка улыбнулся ему, и на полных щечках его показались те же наивно-прелестные ямочки, что у Маши… Ластов с упоением повлек его к себе и прижал к груди, так что ребенок, задыхаясь, даже запищал в непривычных тисках.
– На, возьми, возьми его, – передал его Ластов кормилице. – Унеси скорее.
И он провел рукою по глазам, в которых навернулась какая-то небывалая влага.
XXVI
– Итак, и я твоей души
Не осужу, – сказал Спаситель.
– Иди в свой дом и не греши.
А. Полежаев
– Не взыщите, Надежда Николаевна, – проговорил, вздохнув, Ластов, – минутная слабость неокрепшего от болезни организма. Вам не понять, чего я лишился в покойнице.
– Вы очень любили ее?
– И не говорите! Солдат, которому отняли руки и ноги, должен ощущать почти то же: у меня вынуто, вырезано из груди сердце. Остался один небольшой лоскуток, чтобы я чувствовал всю безвозвратность своей потери.
– Но… извините, Лев Ильич, за неделикатное замечание: чем могла она так привязать вас к себе? Громадным умом да и особенными познаниями она, кажется, не могла похвастаться. Собой только была довольно миловидна, да мало ли на свете хорошеньких женщин?
– Ах, Надежда Николаевна! Все это так, и если провести параллель между нею и хоть бы вами, вы всем почти окажетесь сильнее ее: и умом, и образованием, и телесною красотою. В доброте сердца вы также едва ли уступите ей. Зная мое желание иметь женою русскую, она со свойственным германскому племени прилежанием принялась за изучение нашего языка; вам и перерабатывать себя нечего: вы по рождению русская. Она была шиллеровский лиризм, вы – гейневский. По-видимому, все преимущества на вашей стороне. К тому же, как вам известно, во время приезда Мари я был уже заинтересован вами; и между тем она все-таки вытеснила вас из моего сердца! Чем же она преуспела перед вами? Одним лишь – своей безгранично любящей, истинно женской, женственной натурой. Этого великого качества достаточно в женщине, чтобы на жизнь и смерть привязать к ней мужчину.
Наденька слушала учителя с опущенными взорами. На бледных щеках ее выступила легкая краска.
– Бросимте эту тему, – сказала она. – Семейная жизнь для меня теперь миф.
– Как так?
– Да по костюму моему вы уже видите, что я отреклась от семейной жизни, что весь век свой хочу посвятить уходу за больными.
– Ну да, до замужества.
– Лев Ильич! Вы жестоки. От вас я не ожидала такой иронии.
– Что вы, Надежда Николаевна! Я и не думал иронизировать. Что обидного нашли вы в моих словах?
– Да как же: говорите о замужестве.
– А почему же и не говорить? Помню я, конечно, что вы когда-то называли брак глупостью, но тогда вы были еще ребенком, и я полагал, что, возмужав, вы изменили свое мнение.
– И изменила, но…
Наденька вскинула на учителя недоверчивый, огненный взор.
– Вы не лицемерите, Лев Ильич? Вы действительно ничего не знаете?
– А что же знать-то? Про вас что-нибудь?
– Про меня… За что отец прогнал меня из дому, что побудило меня топиться вместе с Бредневой?
– Как? Так вы с целью утопиться предприняли то катание по Неве?
– Да… Ничего не слыхали, ничего предосудительного?
– Ни словечка.
Девушка глубоко перевела дух, как бы облегченная от тяжелой ноши.
– Так и не знайте! Не слушайте, что бы такое ни говорили про меня, затяните уши, отворотитесь. В ваших глазах, по крайней мере, хочу я остаться прежней, незапятнанной. Мы в жизни уже не увидимся. Der Mohr hat seine Arbeit gethan, der Mohr kann gehn[67]. Вы вне опасности и не нуждаетесь уже во мне. Прощайте… навеки…
Она поднесла руку к глазам и торопливо пошла к выходу.
– Надежда Николаевна! – мог только вскрикнуть удивленный Ластов.
Послушница переступила уже порог кабинета и притворила за собою дверь.
– Наденька!
– Чего вам? – откликнулась она из-за двери. – Прислать Анну Никитишну? Сейчас.
– Не то, Надежда Николаевна, воротитесь. Можно ли, скажите, уходить от пациента, не пожав ему на прощанье даже руки?
Дверь медленно отворилась. С мимолетным румянцем на щеках, с опущенными ресницами подошла к нему Наденька и нехотя протянула руку.
– На-те же, пожимайте.
Он взял поданную руку и не выпускал уже из своей, чтобы не дать беглянке вновь улизнуть. С живым интересом оглядел он теперь ее фигуру. Белоснежная косынка скромно прикрывала ее обильные, натурально вьющиеся кудри, изящными прядями обрамлявшие ее смущенное, слегка похуделое, но по-прежнему художественное личико. Подобная же косынка ластилась около гибкой, полной шеи. Стан девушки, заключенный в самое простенькое, серое платье, смиренно подогнулся в стройной талье. Рука ее в руке Ластова трепетала и горела.
– Надежда Николаевна, – заговорил учитель тихим, почти торжественным голосом, – не сочтите меня нескромным, если я стану допытывать вас; оно необходимо. Вы как-то упомянули, что родители ваши отказались от вас?
– Да… Я вначале погорячилась, они все-таки любят меня, они простили бы меня.
– Простили бы вас? Следовательно, вы виноваты? Следовательно, то предосудительное, что говорят про вас и чего я не должен знать, не гнусная ложь, а правда?
Послушница безмолвствовала; но лицо ее пуще разгорелось, грудь заколыхалась сильнее, веки усиленно заморгали.
– Так правда? – повторил Ластов.
Она чуть заметно кивнула головой. Но тут ее оставили силы: скорее упав, чем присев, на стул у ног больного, она закрылась руками и горько разрыдалась. Темная туча надвинулась на лицо Ластова; раздраженный, со сложенными накрест руками, не спускал он угрюмого взора с плачущей. Гроза, вызванная в душе несчастной девушки, разрешилась благотворным мелким дождем.
– Вы расточали уже кому-нибудь любовь свою? – почти с озлоблением процедил он сквозь зубы.
Слезы потекли опять обильнее.
– Может быть, даже Чекмареву? Бедную начали душить всхлипы.
Ластов побледнел, как мертвец, и судорожно сжал кулаки.
– Подлец! – прошептал он.
Вид беспредельного отчаянья юной грешницы смягчил, однако, мало-помалу черты его.
– Не убивайтесь, Надежда Николаевна, – проговорил он примирительным тоном, – выпейте воды.
Покачнувшись, поднялась она с места, налила себе неверною рукою из графина, стоявшего на столике у кровати, воды и залпом опорожнила стакан. Потом удалилась к окну и присела на подоконник, лицом к улице. Окошко было открыто, и свежий наружный воздух, звуки деятельной городской жизни, доносившиеся снизу, рассеяли, успокоили ее. В приятном расслаблении прислонилась она к оконной раме, закрыла глаза и глубоко вздохнула.
– Надежда Николаевна, – начал опять Ластов, внимательно следивший за всеми ее движениями, – с Чекмаревым вы порвали все связи?
Она, очнувшись, вздрогнула и, не оборачиваясь, сделала утвердительный знак головою.
– Так слушайте, что я вам скажу. Вы думаете, что один опрометчивый шаг ваш безвозвратно преградил вам путь к семейной жизни. Но чем, скажите, я лучше вас? До формальной женитьбы на Маше я сам жил с нею в натуральном браке. В меня же никто не бросит за то камнем: всякий имеет право располагать своей личностью по усмотрению.
– Да, – отвечала глухим голосом послушница, – вы, мужчины, но не мы. У вас на первом плане стоит жизнь общественная, на втором уже семейная. Если вы и обманете любимую женщину – проступок ваш может быть еще искуплен тою пользою, которую вы приносите как лицо общественное. Женщина же, основу жизни которой составляет именно семья, пойдет против своей природы, если станет ветрено расточать лучшую, священнейшую часть души своей – любовь.
– Совершенно справедливо; но были ли вы в то время уже женщиной? Вам сколько теперь лет? Ведь не более восемнадцати?
– Да, нынче минет.
– Ну, вот, тогда вам было, значит, едва семнадцать. Решительный новичок в школе жизни, вы с взбалмошной горячностью первой молодости приняли учение наших лжереалистов, вздумавших социализм прилагать и к семейному быту. Чекмарев воспользовался вашей неопытностью. Теперь вы отрезвились от своего заблуждения, вы от души раскаиваетесь; вы еще молоды, полны энергии, вся жизнь еще перед вами; нечего, значит, отчаиваться; кто старое вспомянет, тому глаз вон…
– Нет, Лев Ильич, перестаньте об этом, утешения ваши ни к чему не поведут. Я очень хорошо понимаю, что для меня нет будущности.
– Отвечайте мне на некоторые вопросы, – сказал Ластов. – Отчего вы, скажите, теперь без очков?
Никак не ожидая подобного вопроса, девушка обернулась к нему с тоскливой улыбкой.
– Оттого, что сняла их.
– Нет, не отшучивайтесь, я спрашиваю серьезно. Поправилось у вас зрение, что ли?
– Нет, не могу сказать. Вы мне отсоветовали, ну… а я принимаю резонные советы.
– И волос, кажись, не стрижете?
– Как видите. «Волосы – краса женщин», – говорили вы. Я поверила. Вы, я думаю, ужасно рады, что нашли такую послушную прозелитку?
– Рад. А курение бросили?
– Да вы никак в самом деле учиняете допрос?
– Я же предупредил вас. Так что же: вы уже не курите и пива не пьете?
– Не курю и пива не пью. У нас, милосердных, оно к тому же не принято.
– А то бы не отказались от того и другого?
– Какой вы неотвязный! Ну, радуйтесь: и в отношении курения и пива я последовала вашему совету.
– А сына моего вы любите?
– Левеньку? Как жизнь свою!
– Надежда Николаевна! Вы, значит, еще не разлюбили меня?
– Лев Ильич!
– Не обижайтесь, выслушайте меня. Когда скончалась Маша, смерть ее до такой степени потрясла меня, что весь женский пол опостылел, опротивел мне. Вы же, являясь мне мгновениями в бреду, приучили меня к себе так сказать гомеопатическими дозами. Вы – первая, на которую я могу глядеть опять без омерзения. Воспоминание о Маше во мне еще слишком живо, чтобы я мог полюбить другую; сердечные струны мои порваны; я сам в эту минуту не считаю еще возможным когда-либо забыть ее, полюбить так же искренне другую. Но поневоле вспоминается стих Шиллера:
Спящий во гробе, мирно спи!
Жизнью пользуйся живущий!
Против природы ведь не пойдешь. Не один раз влюблялся я уже до Мари и всякий раз был уверен, что никогда не забуду, – а забывал. Я еще молод, я выздоровлю, и может быть… может быть, неблагодарное сердце забьется еще раз сильнее! Досадно даже делается за слабость человеческой природы. Если же кто заставит его забиться – так это вы.
Наденька слушала Ластова с затаенным дыханием. Луч теплой надежды преобразил ее расстроенное тяжелою кручиною лицо… но лишь мгновенно; она печально потупилась.
– Нет, Лев Ильич, вы сами себя обманываете, вам только жаль меня: жалость свою вы приняли за чувство более нежное.
– Может быть! Не спорю все покажет время. Оба мы с вами инвалиды. Дайте зажить сердечным ранам; молодость, быть может, возьмет свое. А покуда удалитесь в свое уединение, исполняйте свой священный долг. Родителей ваших мы всегда умилостивим.
Слезы, но тихие, благотворные, накипали за ресницами девушки. Она смело подняла голову и с решимостью встала.
– Прощайте же, Лев Ильич. Благодарю вас.
– Не падайте духом, надейтесь.
И дверь в последний раз закрылась за нашей героиней – а с нею и последняя страница нашей повести.
1865–1866