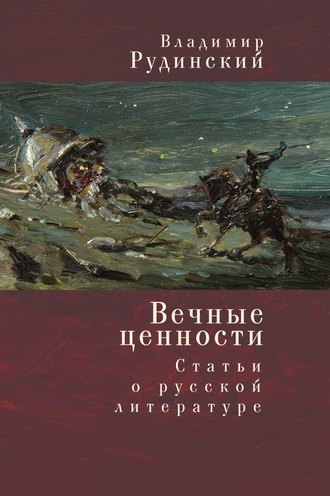
Владимир Рудинский
Вечные ценности. Статьи о русской литературе
Забытая годовщина
19-го июля исполнилось сто лет со дня смерти Константина Николаевича Батюшкова. Эмигрантская печать почти не упоминает об этой годовщине. Это не особенно удивительно, если взвесить, насколько мало публика знает этого замечательного поэта, и как мало внимания уделяли ему всегда историки русской литературы.
Вполне культурный русский человек может, как правило, вспомнить слова о нем Пушкина: «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков» (написано на полях стихотворения Батюшкова «К другу», против строки:
Любви и очи и ланиты.
Эта фраза непременно приводится во всех учебниках, статьях и предисловиях, когда речь идет о Батюшкове. Обидно делается, до чего затасканы, конечно, верные и меткие, слова Пушкина. Они сотню лет создавали у читателя мнение будто Батюшков только и значителен мелодичностью стиха, представляя его каким-то предшественником Бальмонта. К этому надо еще прибавить, неизбежно повторяющиеся в большевистских курсах литературы, обвинения его в изнеженности стиля и в аристократическом, – по гнусному советскому выражению «барском» – характере его поэзии.
Чтобы понять нелепость таких суждений есть одно верное средство: прочитать в подлиннике стихотворения Батюшкова, составляющие, к сожалению всех понимающих поэзию, один небольшой томик. Впрочем, спорить с «пролетарскими» – искренне или невольно – критиками было бы вполне бессмысленно. Несомненно, Батюшков принадлежит к той ослепительно яркой плеяде поэтов начала XIX века, – кульминационным пунктом которой явился Пушкин, – поражающей высотой и разносторонностью своего образования, и только и возможной в русском дворянском обществе той эпохи. И в этой плеяде его место – в непосредственном соседстве с Пушкиным.
Тот факт, что Батюшков был по своим взглядам человек правый, хотя никоим образом не обскурант и не реакционер, что он с любовью и восхищением говорил об императоре Александре II, о его военной славе, о прогрессивности его правления, может быть, немало содействовал неблагоприятному отношению к нему позднейших литературоведов. Он, в самом деле, не постеснялся сказать о царе: «Каждый труд, каждый полезный подвиг щедро им награждается… Нет сомнения, что все благородные сердца, все патриоты с признательностью благословляют руку, которая столь щедро награждает полезные труды». Совсем не то, что полагалось говорить по левому канону, ставшему в последующие годы обязательным!
Но вот насчет сладости и изнеженности, как типичных черт Батюшковской музы, мы позволим себе усомниться. Возьмем его «Песнь Гаральда Смелого»:
С сынами Дронтгейма вы помните сечу?
Как вихорь пред вами я мчался навстречу
Под камни и тучи свистящие стрел.
Напрасно сдвигались народы; мечами
Напрасно о наши стучали щиты:
Как бледные класы под ливнем упали
И всадник, и пеший; владыка, и ты!..
В русской поэзии не так уже много таких насыщенных неукротимой энергией строк, и такой экстаз битвы, такой апофеоз войны нам скорее напомнят Гумилева, чем Бальмонта. Другие, рядом стоящие строки:
Нас было лишь трое на легком челне:
А море вздымалось, я помню, горами;
Ночь черная в полдень нависла с громами,
И Гела зияла в соленой волне
не вызывают ли мысль о Тютчеве, с его мотивами борьбы с непреклонным роком и гордости смертного перед губящей его стихией?
Но вот опять курьезное предвосхищение Гумилева – «Мадагаскарская песня»:
Как сладко спать в прохладной тени…
Кроме них двоих, кажется, в русской поэзии никто не писал о Мадагаскаре. И интересно отметить, что Батюшков, подражавший своему любимому поэту Парни, креолу с соседнего с Мадагаскаром острова Бурбон, сумел великолепно передать здесь стиль и дух малгашской поэзии, вплоть до столь типичного для Имерины культа царской власти:
Протяжно, тихими словами
Царя возвеселите слух!
и обычных мотивов местного фольклора:
Воспойте песни мне девицы,
Плетущей сети для кошниц…
Самое устремление к далеким, экзотическим странам, впрочем, не особенно редкое явление на русском Парнасе – и у Пушкина есть «Анчар», но Батюшков заплатил дань и всем другим увлечениям века.
Львиная доля его стихов, в самом разном жанре, касается Греции и Рима. Но важно то, что в некоторых из них он побил рекорд проникновения в дух древнего мира. И это особенно поразительно, когда мы учтем царивший тогда условный стиль. Это верно и в применении к величаво спокойной «греческой антологии». Но более всего, поразительна, недаром вызвавшая восхищение Белинского, «Вакханка», исполненная исступлением тех мистерий, в которых прорывалась темная и бурная глубина души, внешне столь гармоничной, Эллады. Опьяненный, стремительный ритм этого короткого стихотворения вызывает мысль о совсем в другом размере и в другом, более жутком тоне написанном катулловском «Аттисе»:
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
И еще более того неистовый ритм строк:
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой.
Я настиг – она упала!
И тимпан над головой!
Белинский писал, что это «Апофеоза чувственной страсти, доходящей в неукротимом стремлении вожделения до бешеного, и, в то же время, в высшей степени поэтического и грациозного безумия».
Древность, впрочем, у Батюшкова представлена не только греко-латинская, но и библейская. Тому пример его горько меланхолический «Мельхиседек».
Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Наконец, если искать разнообразия, Батюшков был наделен остроумием и чувством юмора в более чем достаточной мере. Его «Видение на берегах Леты» с убийственно меткими характеристиками современных ему поэтов недаром вошло в хрестоматии.
Чувств и образов в поэзии Батюшкова заключено так много, что исследователь, который займется им всерьез, найдет довольно труда, впрочем, очень благодарного, чтобы в них разобраться. И если исключительная красота его стиха может кинуться, прежде всего, в глаза читателю, не видеть за ней содержания, это хуже, чем за деревьями не видеть леса.
Мы перечислили выше основные типы стихотворений Батюшкова, достаточно, полагаем, чтобы можно было судить о широте их охвата. Следовало бы прибавить все навеянное Италией, как «Смерть Тасса» и множество подражаний и переводов, – знание и любовь итальянской литературы были существенной чертой в жизни Батюшкова. Впрочем, из каких только стран и литератур он ни черпал вдохновения! Найдутся у него и арабские ноты:
Ты видишь – розы покраснели
В долине Йемена от песней соловья…
Но говорить о слащавости или изнеженности… лишь немногие вещи Батюшкова позволяют это по своему сюжету, и еще такое суждение почти всегда было бы несправедливо. Критиковать ли грациозно условный романс:
Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял…
Его популярность – лучшее ему оправдание… Или меланхолическое «Выздоровление»:
Как ландыш под серпом убийственным жнеца
Склоняет голову и вянет…
Но его всегда причисляли к лучшему из того, что Батюшков вообще написал.
Или одну из дивно-живописных картин, отголосков с разных концов света, из Швеции и Италии:
Сквозь тонки утренни туманы
На зеркальных водах пустынной Троллетаны…
Или:
Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей.
Еще труднее поверить, что кому-нибудь приторными могли показаться стихи из любовной лирики Батюшкова, такие, как, например, «Источник», которые по грации, простоте и эмоциональной силе нам хочется отнести к числу самых лучших в русской поэзии.
Дебри ты, Зафна, собой озарила!
Сладко с тобою в пустынных краях!
Песни любови ты мне повторила,
Ветер унес их на тихих крылах!..
Голос твой, Зафна, в душе отозвался;
Вижу улыбку и радость в очах!..
Дева любви! – я к тебе прикасался.
С медом пил розы на влажных устах!
Единственное объяснение, какое нам приходит в голову, относительно несправедливого забвения и пренебрежения, которые окутывают имя большого поэта, каким Россия имеет все основания гордиться, это установившаяся рутина: во всех курсах литературы повторяются короткие стандартные фразы, не вызывающие у публики интереса, почти никто не читает книжку, которую вдобавок и достать нелегко; а многие, если бы прочли, испытали бы подлинное и высокое наслаждение, охватывающее душу при встрече с настоящей поэзией.
Тем более жаль, что о столетии со дня кончины Батюшкова забыли; думаем, что мы выполняем свой долг, о нем напоминая.
«Возрождение», рубрика «Среди книг и журналов», Париж, ноябрь 1955 года, № 47, с. 138–141.
А. Муравьев. «Путешествие по святым местам русским» (Москва, 1990)
Можно приветствовать переиздание в Москве книги Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874), современника и доброго знакомого Пушкина и Лермонтова, написанной превосходным языком наших классиков, какого, увы, теперь не видишь больше в печати, ни в России, ни за рубежом.
Описание московских, киевских и новгородских монастырей и церквей, которые он посетил, ярко напоминает нам лишний раз о том, насколько православная вера тесно связана с русской историей.
Приятно читать его рассказ, проникнутый теплым благочестием и искренним монархическим чувством.
Жаль только, что он, говоря о живых еще архиереях, священниках, иногда и сановниках, укрывает их имена за инициалами, теперь для нас не поддающимися разгадке.
Другое, о чем остро жалеешь, пробегая его строки, это – участь всех упоминаемых им святынь в страшное советское время; вещь, о которой – и думать не хочется!
Муравьев, глазами своей эпохи, беспокоится порою, что-то или иное древнее здание разрушается и недостаточно тщательно сохраняется. Но тогда-то врагом было только движение неумолимого времени, а не руки людей (если большевиков можно все же именовать людьми…)
Отдыхаешь, однако, душою, погружаясь в картины нашего прекрасного прошлого, периода еще далекого от надвигавшихся на нашу родину ужасных испытаний.
Собранные в этом солидном томике в 800 почти страниц фактические данные драгоценны даже с чисто научной точки зрения; не говоря об умилительных переживаниях, какие внушат, без сомнения, верующим.
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 11 июня 1994 г., № 2287, c. 2.
Миф о Белинском
Советская схема литературоведения гласит, – и без сомнения, многие в Эрефии в нее и доныне верят, – следующее: «Белинский был пламенный революционер. Известно, что Пушкин хотел его привлечь в свой журнал; ergo78 Пушкин был тоже революционером».
Подлог состоит в смещении во времени. Белинский стал (подлинно обезумев!) революционером под конец жизни.
А вот, что он прежде думал о французской революции (заимствуем сведения из книги И. Золотусского «Гоголь», изданной в Москве в 2005 году): «Явилось множество маленьких великих людей и со школьными тетрадками в руках стало около машины, названной ими la sainte guillotine79, и начало всех переделывать в римлян».
Тут его взгляды вполне сходились с взглядами Пушкина, автора, как известно, стихотворения «Андрей Шенье». Так что препятствий к сотрудничеству между ними не имелось.
А предвидеть дальнейшую бурную эволюцию выдающегося критика поэт не мог никак…
Это, начиная с 1840 года, когда в его мыслях произошел радикальный переворот, Белинский приходит к мысли, будто: «Тысячелетнее Царство Божие на земле утвердится не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами – обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов».
Ну, какое оно бывает Царство Божие, устанавливаемое путем террора, – мы повидали. Оно отнюдь не Божие, оно – сатанинское.
«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 11 июня 2005 г., № 2773, с. 1.
А. Ишимова. «История России в рассказах для детей» (Москва, 2004)
Александра Осиповна Ишимова (1804–1881) вошла в историю литературы тем, что ей было адресовано последнее в жизни письмо Пушкина, отправленное за несколько часов перед роковой дуэлью.
А писал он ей следующее: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу “Историю в рассказах” и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»
В самом деле, «История» эта (815 страниц) изложена прекрасным русским языком и с немалым литературным талантом: например, ясно и четко описаны запутанные события времен удельной Руси.
Предназначение книги для детей объясняет смягчение многих деталей (в том числе живописных повествований древних летописцев о мести Ольги древлянам за убийство мужа). Современным детям, привыкшим смотреть по телевизору самые ужасные вещи, вероятно, можно бы не стесняясь говорить и об этом, и о других жутких происшествиях нашего прошлого.
Подчиняясь, очевидно, цензуре (но, может быть, и с полным одобрением), в книге не сообщается о реальных причинах смерти императоров Петра Третьего и Павла Первого; просто указывается дата их кончины.
В остальном сжатая, но точная картина всего происходившего в России со времен призвания варягов и по конец царствования императора Александра Первого может быть полезна не только детям, но и взрослым.
Тем более в нынешней России, где хороших книг по истории нет, и где историю все время пытаются написать по-новому, безбожно ее искажая.
Она может с успехом заменить многотомные работы Карамзина, Ключевского или Соловьева.
С идеологической точки зрения Ишимова выступает как убежденная русская патриотка (без какого-либо квасного патриотизма или ксенофобии) и монархистка.
Даже нашим противникам порекомендуем с ее произведением познакомиться, чтобы по крайней мере понимать систему взглядов, построенную на любви к родине и на вере в тот строй, который многие веки (и с каким успехом!) ею руководил.
Тем более горячо советуем данное сочинение нашим единомышленникам. С должными оговорками, его с пользою можно применить к воспитанию детей и молодежи, – которым ведь принадлежит наше будущее как нации.
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 18 сентября 2004 г., № 2754, с. 2.
Благочестивая Россия
Писатель В. Крестовский80, совершивший в 1880 году кругосветное путешествие на русском корабле, так рассказывает о плавании по Эгейскому морю: «Палуба нашего парохода представляет довольно интересное зрелище. Теперь все ее пассажиры, принятые на борт в Константинополе, уже успели разместиться, “умяться”, приладиться, и вполне свыклись со временным своим жильем на палубе, применяясь к обиходу пароходной жизни. Вся средняя и носовая части палубы покрыты этими пассажирами, которые, хотя и разбились на более тесные группы по национальностям, но все же относятся одни к другим довольно общительно и дружелюбно. Все они, соседства ради, по необходимости трутся между собою бок о бок и, не понимая язык, все же оказывают иногда друг другу взаимные маленькие услуги, угощают одни других, и в особенности детей бубликами, чайком, арбузами, дынями, папироской, словом, как говорится, живут хотя и в тесноте, но не в обиде. Большинство из них все паломники, направляющиеся ко Святым Местам: одни на поклонение Гробу Господню, другие – Каабе, третьи – обетованной земле Израиля. Тут были греки, итальянцы, армяне, болгары, сербы, румыны, евреи, турки, но большинство состояло из наших русских странников и странниц, и вообще русско-подданных, между которыми были и жиды из Западного Края, и нахичеванские армяне, и кавказские горцы, и казанские татары, и несколько сартов из Ташкента и других мест Средней Азии, и все эти “восточные народы”, сверх моего ожидания, относились к своим “поработителям” русским очень дружелюбно, на что “поработители”, конечно, отвечали взаимностью. Тут же следовала в Смирну целая партия турецких солдат, отбывших сроки своей службы и теперь возвращавшихся на родину. Между ними нашлось несколько человек, бывших в плену в России. Двое из них научились кое-как говорить по-русски и не без удовольствия сами объявили мне о своем временном пребывании в России. Хвалят Россию, “хорошо у вас!” говорят: “9 месяцев ели, пили и хорошо жили за здоровье императора Александра! И сапоги он нам давал, хорошие сапоги! И жалованье давал полтора рубля в месяц на человека, и народ у вас хороший, не обижал нас! Только и есть два хорошие народа на свете, урус и османлы”».
Вот какова была старая Россия: мирная и единая внутри, хотя и полная разнообразия и местного своеобразия; грозная для врагов, но великодушная к побежденным. И все ее народы признавали Божий закон и стремились выполнять. Вспоминаются слова, сказанные неким крестьянином общественной деятельнице и писательнице А. Тырковой: «Какая была держава, и что вы с нею сделали!»
«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 10 сентября 1988 г., № 1988, с. 4.
Забытый эпизод истории
В уже поминавшейся нами книге В. Крестовского «В дальних водах и странах» есть следующий пассаж, вносящийся к 1880 году: «Проходя мимо Суматры, не излишне будет сообщить моим соотечественникам, что могущество русской державы в среде местного населения этого острова, по-видимому пользуется большим обаянием. Не далее, как год тому назад Россия легко могла бы, если бы только захотела, сделать себе роскошный подарок в экваториальных странах по южную сторону Индии, так как населения Суматры просили особою петицией принять их в русское подданство. В конце ноября и в декабре 1878 года, клипер “Всадник”, под командой капитана 1-го ранга А. П. Новосильского81 находился в Пенанге…»
Затем описано появление малайской делегации, объявившей, «что они уполномоченные султана ачинского… что народ ачинский и соседние с ним племена доведены до отчаянного положения, но что, истощаясь в военной борьбе с голландцами, они ни под каким видом не хотят подчиниться их тяжкому и суровому владычеству. А потому, пользуясь пребыванием в Пенанге русского военного судна, их султан и соседние с ним владетельные князья решили ходатайствовать перед престолом великого Белого Царя о принятии их под непосредственное покровительство всемогущей русской державы… при этом, вслед за Ачином вся Суматра с радостью отдастся под сень его высокой руки».
А. П. Новосильский почувствовал себя «в большом затруднении», изумляясь, «что подданство целого султаната с трехмиллионным населением и с перспективой присоединения затем огромного острова с 19 миллионами населения предлагалось подобным путем». Он спросил делегатов, почему они не обратятся за помощью к англичанам, на что те ответили: «Англичане будут такие же, как и голландцы, если не хуже. Ни к кому и ни под кого, только под руку русского императора!»
Тогда Новосильский переслал их петицию в Петербург, но: «По прошествии несколького времени ему было отвечено, что прошение султана Ачинского и других не может быть принято во внимание, так как Россия находится с Голландией в дружественных отношениях».
Навряд ли такая политика была разумной. Голландия не имела права нам запрещать сношения с суверенным туземным государством, и вряд ли бы решилась нам объявить войну, да и страшна ли бы она нам была? А при нашей поддержке, даже не официальной, а хотя бы доставкой необходимого им оружия, ачинцы сумели бы свою свободу отстоять.
Даже учитывая все международные трудности, – какие возможности открывались перед нами на Дальнем Востоке! Спустя 20 лет, если бы мы и вступили все же в войну с Японией, – располагая базой на Суматре, мы вряд ли бы потерпели поражение. Очевидно, правительство думало, что Россия способна расширяться лишь за счет непосредственно к ней прилегающих территорий, где, однако, часто приходилось вести завоевание огнем и мечем. А туг мы имели шанс приобрести около 20 миллионов добровольных и преданных подданных! И богатейшую по ресурсам страну… Жаль, что наша империя была в тот момент проникнута робостью, из-за которой также не прислушалась позже к предложениям Н. Миклухи-Маклая о приобретении Новой Гвинеи. Прояви мы подобающую смелость, история пошла бы иною дорогой и, кто знает, не было бы революции 1905 года, ни тем более таковой 1917-го.
«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 15 октября 1988 г., № 1993 года, с. 2.
Черное добро
О книге И. Федорова82, писавшего под псевдонимом Омулевский, изданной в 1871 году, в предисловии к ее переизданию в 1923 году говорится, что она «принадлежит к числу тех многочисленных у нас в 60-е и 70-е годы программных романов, дело которых не столько изобразить верно окружающую действительность, сколько показать образцы, как надо жить и действовать в этой обстановке новым людям, сознательным борцам за лучшее будущее. По степени влияния, которое он оказал на молодежь 60-х-70-х годов роман Омулевского уступает только знаменитому роману Чернышевского “Что делать?”, а по степени художественности должен быть поставлен выше» (ну, сей последний комплимент, хотя и заслуженный, не очень-то много весит: у Николая-то Гавриловича, по части художественности, мы ведь знаем, медведь на ухо наступил!).
Содержание такое: герой Светлов, окончив университет в Петербурге, возвращается домой к родителям в некий город в Сибири (описание быта семьи провинциального чиновничьего круга представляет собою наиболее удачные страницы повествования). Здесь он, собрав кружок единомышленников, занимается вроде бы полезными делами: дает уроки, позже организует бесплатную школу для детей и взрослых, тогда как его приятель Ельников лечит даром неимущих больных, и т. п. Но работа их подчинена целиком почти нескрываемой иной цели: ведению разрушительной антиправительственной пропаганды; которая и завершается бунтом на фабрике, едва не завершившимся убийством директора. Между делом, главный персонаж успевает сделать ребенка эмансипированной дочери польского ссыльного и, развалив семью, где состоял учителем при детях, сманить их мать к себе в любовницы. Его, правда, сажают-таки в острог, но быстро и выпускают. История кончается его отбытием вновь в столицу в компании захваченной им чужой жены.
Заметим, что Светлов, в реальной жизни, был бы нестерпимым для всех вокруг педантом и резонером: его рассуждения в стиле формальной (но не безупречной!) логики лишь потому всегда завершаются победой, что автор делает его собеседников идиотами, неспособными найти на его разглагольствования подходящий ответ.
В общем, перед нами портрет и впрямь построенный на идеях Чернышевского, – одного из тех «сеятелей разумного, доброго, вечного», жуткие плоды работы коих мы (и даже весь земной шар) пожинаем и по сегодня, не в силах от них освободиться.
Страшные семена бросили в почву эти безумные люди! Сколько крови, слез, невыносимых страданий всходы разбрасываемых ими зерен принесли, на их несчастной родине и далеко за ее пределами! Спрашиваешь себя, не содрогнулись бы они сами, если бы их ткнуть носом в предстоящие результаты их активности! Кто знает; может быть и нет. Сим фанатикам важно было перестроить мир на свой лад, разрушить жизнь, как они ее видели; а о добре и зле у них были свои представления «абсурдные и непреложные».
«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 23 января 1993 г., № 2216, с. 2.




