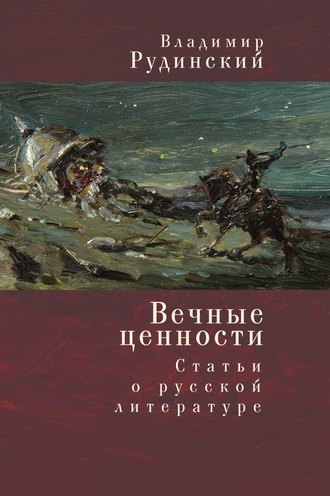
Владимир Рудинский
Вечные ценности. Статьи о русской литературе
Художественная литература
Ч. Де Габриак «Исповедь» (Москва, 1999). Л. Агеева «Неразгаданная Черубиина» (Москва, 2006)
Если кого из наших читателей интересует жизнь и творчество Е. Дмитриевой, он может найти в этих двух книгах, изданных в Москве, подробные о ней сведения.
Напомним: она, приняв имя Черубина де Габриак, якобы франко-испанской аристократки, мистифицировала в 1909 году редакцию петербургского журнала «Аполлон», посылая туда стихи в романтико-мистическом роде, имитируя католическую религиозность.
Обман был раскрыт, но привел к дуэли между Гумилевым и Волошиным, по счастью не принесшей вреда ни тому, ни другому.
В первой из двух рецензируемых тут книг приводятся полностью ее стихи, кажущиеся теперь бледными и фальшивыми, поскольку с них сдернут ореол таинственности.
Удивляет деланность и неубедительность псевдоиспанской их атмосферы, поскольку Дмитриева вроде бы была по образованию испанисткой; даже имя Черубина звучит неестественно.
Из ее сообщаемой нам во второй книге Агеевой биографии, Елизавета Ивановна Дмитриева, позже по мужу Васильева, встает в мало привлекательном свете. Изломанная и неуравновешенная женщина со склонностями к мифомании.
То, что из-за нее рисковали жизнью два поэта – один гениальный, Гумилев, второй талантливый, Волошин, нельзя не считать за серьезный грех.
Трудно не удивляться, что Гумилев был в нее сильно влюблен и даже делал ей предложение (хотя еще до поединка в ней полностью разочаровался).
Она же тем временем держала про запас жениха, за которого потом и вышла замуж, инженера-гидролога Всеволода Васильева.
После разоблачения, перестав быть Черубиной, она уехала с супругом в Среднюю Азию, баловалась теософией, при советской власти писала стихи в китайском жанре и издала биографию Миклухи-Маклая (не то, чтобы дурную, но в целом посредственную) «Человек с Луны».
Можно отметить еще, что она, в сотрудничестве с Маршаком, сочиняла одно время пьесы для детского театра.
Смерть застала ее в Ташкенте в 1928 году.
С немалым удивлением узнаю, из «Исповеди» и из «Неразгаданной Черубины», что к числу близких друзей и участников антропософского кружка в последние годы ее жизни принадлежал профессор Александр Александрович Смирнов104, кельтолог и медиевист, под руководством которого я собирался когда-то, окончив ЛГУ, писать работу о Кальдероне!
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 23 мая 2009 г., № 2868, с. 4.
М. Петровых. «Прикосновение ветра» (Москва, 2000)
Оформление сборника подсоветской поэтессы, о которой мы знаем, что она была в близкой дружбе с Мандельштамом и с Ахматовой, оставляет у нас сильное чувство неудовлетворения.
Его бы следовало снабдить обстоятельными примечаниями; а вместо того, нам даются, в предисловии А. Гелескула, только самые общие и краткие сведения об ее биографии. Указана, например, дата ее рождения, – 1908, – но не дата ее смерти (1979). И ничего не сообщается об ее жизни!
А это именно в данном случае неприятно: ее лирика – интимная, личная; явно связанная с событиями ее существования. Нам же даже не говорится, была ли она замужем и за кем? Во всяком случае, у нее была дочь (о которой она сама в стихах и в письмах упоминает). И была какая-то тяжелая трагедия в области любви, без понимания коей читаешь ее стихи как бы вслепую.
Хорошо, когда она сама посвящает стихи М. Ц. (т. е. Марине Цветаевой) или прямо Ахматовой, или, когда назван Волошин. А вот любопытно бы узнать, к кому конкретно обращены ее разоблачительные, убийственные стихотворения, со словами, скажем:
Он хвастун и жалкий враль.
Примиряться с ним – позор.
Ты затаился, ты не сказался,
К запретным темам не прикасался…
И неизбежно придет возмездье —
Исчезнет слава с тобою вместе.
В целом, мы ясно чувствуем, что поэтесса была жертвой своего времени, не менее страдальческой, чем погибшие в лагере или у стенки. В страшные годы ей пришлось жить! Только и можно было писать для себя, – или, как она, делать переводы чужих произведений. Потому она почти и не издавалась (вышла, пока она еще жила, лишь одна книга).
Зато словно сегодня к нам обращены ее леденящие строки:
А нас еще ведь спросят – как могли вы
Терпеть такое, как молчать могли?
Или ее завет поэтам:
О нет, покуда живы,
Запечатлеть должны вы…
Невиданной эпохи
Невиданный размах,
Ее ночные вздохи
И застарелый страх.
Зато о себе она имела полное право воскликнуть:
О Господи мой Боже, не напрасно
Правдивой создал ты меня и ясной.
И:
Да, я горжусь, что могла ни на волос
Не покривить ни единой строкой.
Значительная часть книги отведена переписке Петровых с болгарским поэтом А. Далчевым105 (но почему только с ним, а не с кем другим?) и переводы из его творчества (опять же: почему нет образцов ее переводов из других поэтов? Она переводила, видимо, главным образом славянских и армянских).
В воспроизведенных здесь письмах много ее интересных суждений о поэтах и писателях. Процитируем некоторые; по поводу эссе Т. Манна о Чехове, она говорит: «Его мысль, что Чехова ставят ниже Толстого и Достоевского только потому, что Чехов писал маленькие рассказы, слишком уж наивна. Конечно, не потому. А потому, что масштабы нравственных размышлений неизмеримы. Чехов жил вне Бога, а Толстой и Достоевский вне Бога не жили. Так или иначе, но понятие о высшем начале всегда присутствует в их творениях». Или, о нем же, в другом месте: «Вот что я думаю о Чехове: он был велик, когда писал о первозданном: о природе; о простонародье (мужики и бабы); о детях; о животных. Когда же Чехов писал об интеллигенции, полуинтеллигенции, мещанстве – он был зол, жесток необъяснимо. А ведь и в этих сословиях – люди же, и много прекрасных».
Здесь позволим себе одну оговорку, в защиту Антона Павловича: в рассказе «Поленька» он вот и дал пример истинного благородства, воплощенного в полуинтеллигенте, – продавце в галантерейном магазине. Но верно, что это у него скорее исключение, и даже из редких.
Еще из ее мыслей о Чехове: «Разумеется, он не был антиклерикалом. И все же, по-моему, он жил вне Бога. А Иван Карамазов с его бунтом – Бога признавал, ведь нельзя бунтовать против того, чего нет».
И вот о других писателях: «По-моему, без Пушкина жить невозможно. И на душе всегда легче, когда он рядом. А гениально у него все». – «Что же касается размышлений о жизни, проницательности, всегда поражает: насколько Пушкин и Достоевский были проницательнее Льва Николаевича Толстого». – «Бесконечно жаль, что Лермонтов погиб таким молодым, погиб так бессмысленно и случайно. Баратынского я очень люблю, но еще больше люблю любовь к нему Пушкина».
«Да, Пушкин – сама гармония. И подражать ему – невозможно. Блок, при всем своем уме сделал большую глупость – попробовал подражать Пушкину в поэме “Возмездие” и – провалился, я считаю эту вещь исключительно слабой… Да, при всей несхожести (и схожести, ибо для каждого, для обоих вопрос нравственного становления человека был главнейшим), Достоевский и Толстой любили и ценили Пушкина превыше всего, и он был для них самым главным и самым нужным». – «Многие люди говорят “люблю Пушкина” автоматически. А, по-моему, любить – это значит постоянно читать, не расставаться».
«Вот Вы написали о Гоголе всего несколько слов, но, пожалуй, самых главных, самых верных – “необыкновенный и страшный писатель”. Да, именно так. Невероятный. Мне иногда кажется, что он самого себя боялся. И вы совершенно правы, что реалистические произведения Гоголя не менее фантастичны и страшны, чем такие, как “Вий”. Да и был ли Гоголь когда-нибудь тем, что называется “реалистический писатель”».
Возвращаясь к стихам, закончим отрывком из стихотворения «Плачь китежанки», где Петровых любопытным образом сближается с Есениным:
Боже правый, ты видишь
Эту злую невзгоду.
Ненаглядный мой Китеж
Погружается в воду.
Ах, как хорошо это чувство знакомо нам всем, кому довелось доподлинно быть «детьми страшных лет России»!
Подлинно страшных, а не тех, которые всуе называл так Блок…
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 23 июня 2001 г., № 2653–2654, с. 3.
Певец фантастического города
Когда занимаешься Серебряным веком, – эпохой Гумилева, Волошина, Цветаевой и Черубины де Габриак, – постоянно всплывает имя Сергея Ауслендера. О котором, однако, обычно сообщается очень мало: что он был племянником М. Кузмина, сотрудником журнала «Аполлон»… Еще меньше упоминаются его произведения.
Из них мне до недавнего времени были известны отдельные рассказы, в частности «Пастораль» и «Наташа», и, курьезным образом, его послереволюционный роман «Рабы Конго». С большим интересом читаю теперь, боле или менее «полное собрание» его сочинений под заглавием «Петербургские апокрифы» (СПб., 2005) содержащие краткие о нем биографические сведения и не всегда убедительные комментарии.
Из них узнаю, что он «трагически погиб в сталинских застенках» в 1937 году. Гибель не удивляет, когда видишь сообщение, что он сотрудничал с колчаковцами. Вот не совсем ясным остается, почему он остался в советской России? Не удалось эмигрировать? Скорее всего, так… Или не захотел? Менее вероятно, но и это возможно.
Рассматриваемое собрание сочинение состоит из романа «Последний спутник» и трех сборников рассказов (обычно коротких, а иногда и сверхкоротких): «Золотые яблоки», «Петербургские апокрифы» и «Сердце воина».
Отчетливо чувствуется время написания: эпоха декаданса и, с другой стороны, наличие оригинального и достаточно яркого таланта. Составители книги правы, говоря об Ауслендере: «одно из несправедливо забытых имен Серебряного века».
Даты его жизни: 1886–1937.
Роман «Последний спутник» рассказывает о связи и разрыве автора с Ниной Петровской, любовницей Брюсова, в обстановке их совместного путешествия вдвоем по Европе.
Невольно напрашивается сравнение, с одной стороны, с отношениями между Достоевским и Аполлинарией Сусловой и, с другой, между Альфредом де Мюссе и Жорж Занд.
Петровская, видимо, во многом и походила на Суслову.
Вероятно, ее образ отражен в ряде демонических женщин, фигурирующих в рассказах. Может быть ярче всего в «Наташе» и одноименной повести.
В рассказах в целом мы часто сталкиваемся с темами самоубийства и безумия («Ставка князя Матвея», «Веселые святки»), а иногда и убийства: «У фабрики».
В серии новелл «Золотые яблоки» главным образом проходит мысль, что важные политические события проходят незамеченными для многих их современников, занятых личными делами и чувствами. Эта идея близка Анатолю Франсу: недаром она и выражается, в числе прочего, в картинах французской революции.
Другие новеллы переносят нас в античность; из них «Флейты Вафила»» о смертоносной любви ко статуе, явно навеяна «Венерой Илльской» Мериме.
Сборник «Петербургские апокрифы» построен на фразе одного из персонажей (Дернова в «Наташе»): «Ведь недаром же это самый фантастический город на земном шаре».
Город, где живут не только капризные и жестокие женщины, но и мужчины с натурой злобного демона, как князь Андрей Поварил из «Ставки князя Матвея» или Дмитрий Лазутин из «Наташи».
Нельзя, во всяком случае, не признать, что ситуации у Ауслендера почти всегда острые, и скуки при чтении не испытываешь никак!
Остается поблагодарить издателей за то, что они, по их выражению, «возвращают Сергея Ауслендера к читателям». Вопреки взгляду его родных, которые «память о нем, конечно, сохраняли, но не думали, что о нем снова вспомнят».
«Наша страна», Буэнос-Айрес, 6 июня 2009 г., № 2869, с. 7.
Тоска по Богу
Сборник ранних рассказов Вячеслава Шишкова, ставшего потом видным подсоветским писателем, «Колдовской цветок» (Москва-Ленинград, 1926), рисует главным образом фигуры сибиряков, – крестьян, каторжников, золотоискателей, купцов и странников. Они набросаны, явно, еще неопытной рукой, хотя и с проблесками таланта.
Любопытно другое. Вряд ли не рупором автора является дед Григорий из рассказа «Ванька Хлюст», развивающий такую философию: «А я тебе, сударик, вот что скажу: Бога я за всегда в сердце имею. И тебе советую. Бог – он и без нас обойдется, а мы-то без Него, без Батюшки, затоскуем».
Позже Шишков написал много разных вещей, – и довольно безобразного «Пугачева», и прекрасную «Угрюм-реку». Судить его за уступки советской цензуре было бы не слишком справедливо. Пронес ли он до конца в душе слова, вложенные им в уста одному из самых симпатичных его персонажей, процитированные нами выше? Во всяком случае, будем надеяться, что Бог их услышал, и ему зачел.
«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 12 октября 1985 г., № 1837, с. 2.
«Романтика! Мне ли тебя не воспеть!» К сорокалетию со дня смерти Эдуарда Багрицкого
Этот одессит из еврейской мелкобуржуазной семьи, испытавший в начале пути сильное влияния акмеизма, сделался одним из самих ярких, одним на самих талантливых романтиков в русской поэзии, за все время ее существования.
Все лучшее из того, что он оставил, несет на себе отчетливый отпечаток романтизма; но какое разнообразие и сюжетов, и тона мы тут встречаем!
От мягкой задумчивости «Птицелова», ведущего нас с собой
Вдоль по рейнским берегам.
По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
через рыцарскую вальтер-скоттовскую Шотландию «Разбойника», где
Брэнгельских рощ
Прохладна тень.
Незыблем сон лесной
в буйную старую Англию «Баллады о Виттингтоне», подобную которой мы по-русски найдем разве что в «Пире во время чумы»:
Он мертвым пал. Моей рукой
Водила дикая отвага,
Ты не заштопаешь иглой
Прореху, сделанную шпагой
и назад к Черному морю нашего века, в «Контрабандистах», на котором
По рыбам, по звездам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
В другом тоне, и средневековом стиле, была у Багрицкого чудесная благочестивая легенда «Трактир» (он ее, к сожалению, испортил в позднейших вариантах), про голодного поэта, за которым Бог послал ангела, чтобы пригласить его на небеса, в волшебный заезжий двор «Спокойствие Сердец».
Зато, по счастью, нетронутым сохранился его ранний экскурс в нашу отечественную историю, о том, как старый полководец скучал у себя в захолустном поместье, до того дня, когда вдруг
К нему в деревню приезжал фельдъегерь
И привозил письмо от матушки-императрицы.
«Государь мой» – читал он – «Александр Васильич!
Сколь прискорбно мне Ваш мирный покой тревожить.
Вы, как древний Цинцинат, в деревню свою удалились,
Чтоб мирным трудом и науками свои владения множить».
и о том, как Суворов кончал письмо
Затем подходил к шкапу, вынимал ордена и шпагу —
И делался Суворовым учебников и книжек.
Из всего этого довольно естественно родилась и самая замечательная вещь Багрицкого, эпическая поэма «Дума про Опанаса». (Она существует в двух вариантах; мы лично решительно предпочитаем второй, более развернутый, в форме либретто для оперы).
Русские слова здесь уложены в типично украинский размер, и через них звучат все время голоса Шевченко, Гоголя и даже Сенкевича, а за ними еще более древнего Бояна, вызывая перед глазами грандиозные картины богатырских схваток в бескрайней степи, истоптанной конями и напоенной кровью павших в бою и расстрелянных, окутанной клубами дыма и озаренной заревом пожаров…
Большевики, конечно, хотели бы видеть тут эпос революции. Только ведь с таким же успехом, если не большим, можно сказать, что это – эпос махновщины. По-настоящему, это – эпос гражданской войны, и притом именно в Малороссии:
Украина, мать родная,
Билась под конями.
Мелодия всей поэмы лучше всего отражена, и ее смысл ярче всего резюмирован в словах:
Опанасе, наша доля
Туманом повита.
Хлеборобом хочешь в поле,
А идешь – бандитом.
Перед нами трагическая история украинского крестьянина в годы смуты; мобилизованный в Красную Армию Опанас видит, как большевики грабят деревню, и бежит от них с мечтой вернуться к мирному труду, к своему хозяйству. Но вся страна охвачена войной, в ней нет места ни покою, и счастью. Он попадает к Махно, и воюет на его стороне, пока не оказывается в плену у красных и не идет под расстрел:
Опанас, твоя дорога
Не дальше порога.
Как мы видим, ситуация довольно похожая на «Тихий Дон» Шолохова.
В описании службы герои у Махно, во всяком случае, вложена поэзии дикой вольности, которой дышат даже слова Опанаса перед лицом смерти:
Как мы шли в колесном громе
Так что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка!..
С ортодоксальной советской точки зрения, главный положительный герой поэмы – это, понятно, комиссар Иосиф Коган. Но Багрицкий нам ясно показывает малосимпатичную деятельность этого фанатика, положим, мужественного и искреннего, но неумолимо жестокого. Вот описание того, как он собирает продразверстку:
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты
Которые чище!
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
«Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!»
Ну, а кто поднимет бучу —
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять – и крышка!
Для крестьян – он не только такой же бандит, как Махно, но еще и хуже. Однако, когда Коган попал в плен к махновцам, и Опанасу поручили его расстрелять, тот, с типичной отходчивостью русского человека, предлагает ему бежать. Комиссар отказывается, так как знает, что ему не спастись: куда бы он ни пошел, крестьяне его схватят и выдадут.
Между Коганом и Махно невозможно осуществить мечту о мирном счастье, которую выражает Опанас, его невеста Павла
И мы выйдем с тобою в поле
Мы вдвоем – только ты и я…
И может быть полнее всего махновский часовой, поющий на посту
В зеленом садочке,
У Буга на взгорье,
Цвети, моя вишня, цвети!
На тихие воды
На ясные зори
Лети, мое сердце, лети!
Надо сказать, что Махно обещает народу такой же рай, как и коммунисты. Вот как его адъютант, вполне культурный и симпатичный молодой человек, формулирует программу гуляйпольского батьки:
Анархия – высший порядок! Она
Не может поставить преград.
Ми вольной работы взрастим семена,
Из дебрей мы сделаем сад.
А вот Раиса Николаевна, делопроизводительница при махновском штабе, загадочная, «чертова красотка», которую
… увидав
Лохматые анархисты
Смиряют свой бешеный нрав,
и которой, похоже, побаивается и сам атаман Нестор Михайлович, та – как бы соответствие Когану в другом стане, и с такой же неумолимой жестокостью и целеустремленностью:
Декреты, допросы, расстрелы,
Дела по изъятью зерна
Рукой молодой, загорелой
Подписывает она.
Она из породы тех же бесов, которых революция вызвала из их прежних таинственных обиталищ. Недаром таким мраком окутано их прошлое:
Откуда она – неизвестно,
Где дом ее? Кто отец?
Помещик ли мелкопоместный?
Фальшивомонетчик? Купец?
Это песни, которые как бесы в снежной буре несутся над потрясенной бунтом страной, развевая пламя и поднимая тучи пыли…
Участник гражданской войны на стороне революции, Багрицкий вполне мог бы позже сказать, как многие: «За что боролись?» При советской власти его травили за романтизм. Он пытался писать в ином ключе – главным образом в манере крайнего натурализма – не очень успешно.
Политически, можно было бы ему поставить в упрек стихотворении «ТВС», где он славословит обер-палача Дзержинского. И, однако… не дай Бог никому дожить до таких похвал! Уж очень правдиво работа «товарища Феликса» изображена:
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы…
Есть, на наш взгляд, у Багрицкого другое, куда худшее стихотворение, ибо сатанинское и богоборческое: «Смерть пионерки». Этот апофеоз атеизма леденит кровь и возмущает душу… не будем о нем говорить. Причины, почему поэт это написал, можно бы искать и угадывать – да не хочется.
Скажем только, что Сатана, как всегда, заплатил черепками. Вот отрывок из мемуаров писателя Сергея Бондарина, бывшего в дружбе с Багрицким («Парус плаваний и воспоминаний», Москва, 1971).
Он рассказывает о судьбе жены Багрицкого и его единственного сына, Всеволода, уже после смерти самого поэта:
«Так вот, Эдуарда Георгиевича уже не было… Потом, когда уже вышел посмертный том стихотворений Багрицкого, уже вышла книга воспоминаний о нем, мы услышали о том, что у Севы не стало и матери. Лидию Густавовну арестовали – произошла тяжелая ошибка…»
Всеволод Багрицкий, и сам подававший надежды молодой поэт, был убит во время Второй мировой войны, как, между прочим, курьезным образом, и единственные сыновья нескольких замечательных, но опальных советских писателей; например, Виктора Кина106 и Макара Буйного107.
Но, во всяком случае, после Эдуарда Багрицкого остались его стихи, и их достаточно, чтобы обеспечить ему место и в истории литературы, и в памяти как нашего, так и будущих поколений.
«Русская жизнь», Сан-Франциско, 24 апреля 1974 г., № 7955, с. 3.




