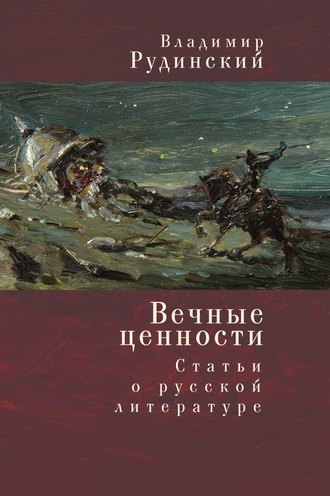
Владимир Рудинский
Вечные ценности. Статьи о русской литературе
М. Волконский. «Темные силы» (Москва, 2008)
Согласно анонсу, князь Михаил Николаевич Волконский83 (1860–1917) был «одним из самых известных беллетристов в начале XX века».
Признаемся, мы о нем никогда, однако, не слыхали.
Два связанные по сюжету романа, «Темные силы» и «Жанна де Ламот» напоминают по манере Дюма, а больше – Эжена Сю.
Демонические тайные общества… переодевания… запутанные наследства… похищения документов… убийства.
Все это хорошим русским языком, от которого мы теперь отвыкли, и, нельзя не признать, в увлекательной форме.
А издано элегантно, в томике в 500 страниц.
Неизбежным образом, психология персонажей очерчена поверхностно; но, опять-таки, у каждого есть свой четко выраженный характер.
Хотя окончание почему-то чересчур свернуто и сокращено.
Любопытно, что один из главных героев, симпатичный алкоголик Орест Беспалов, напоминает mutatis mutandum84 Степку из «Двух сил» И. Солоневича, с которым наши читатели хорошо знакомы.
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 18 апреля 2009 г., № 2865, с. 3.
М. Волконский. «Мальтийская цепь» (Москва, 2007)
Мы уже разбирали книгу Волконского «Темные силы».
В отличие от нее «Мальтийская цепь» и содержащееся в том же томе в 575 страниц «Кольцо императрицы» представляют собою не авантюрные, а исторические романы, близкие по стилю к произведениям Всеволода Соловьева85 и графа Салиаса86. Первый из них даже перекликается с сочинением Салиаса «Служитель Божий» наличием в том и в другом в качестве отрицательного персонажа патера Иосифа Грубера, иезуитского деятеля, погибшего в Петербурге во время пожара.
«Мальтийская цепь» есть романсированная история подлинного лица, итальянца графа Помпея Литты, рыцаря Мальтийского ордена, начавшего свою карьеру корсаром на Средиземном море и завершившего ее блистательным образом, при российском дворе в эпоху императоров Екатерины Второй и Павла Первого.
Правда, события его жизни сами по себе составляют увлекательный и даже на первый взгляд неправдоподобный приключенческий роман! Отметим верное изображение в книге петербургской жизни того времени.
В отличие от многих писателей, включая даже столь блестящих как Алданов87 и Акунин, автор отдает должное «великой жене» (как именовал ее Пушкин) принадлежащей к числу лучших монархов на русском троне, того и другого пола.
Передадим ему слово.
Отметив бодрый вид царицы в ее последние годы, он продолжает: «Благодаря ли этому или вообще вследствие долгой привычки к управлению мудрой государыни, счастье и ум которой покрыли невиданным дотоле блеском Россию – все думали, что так будет вечно, что Екатерина еще долгие годы будет царствовать на славу».
И вот, картина ее похорон:
«Трогательные, за душу хватающие сцены происходили на улицах Петербурга, точно каждый терял более, чем императрицу – любящую мать. Люди всех сословий, пешком, в санях и каретах, встречая своих знакомых, со слезами на глазах, выражали сокрушение о случившемся».
Тогда как при ее жизни:
«Двор Екатерины был самым блестящим двором Европы. Нигде не соблюдался этикет строже, чем при ее дворе, и нигде не было выходов и приемов более торжественных и величественных, но вместе с тем нигде так не веселились, и нигде не было такой искренней непринужденности, разумеется, в строгих границах».
Второй роман, «Кольцо императрицы», рисующий быт и нравы эпохи конца брауншвейгской династии и первых лет царствования Елизаветы Петровны, несколько слабее и сюжет не всегда убедителен.
Отметим, однако, в нем слова канцлера Бестужева, сохраняющие свою актуальность вплоть до наших дней:
«Нам до развития дел Европы нет никакого отношения; мы должны знать родное, русское и оберегать честь России. Вот это – наше дело, а до прочего мы не касаемся».
«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 20 июня 2009 г., № 2870, с. 3.
Монархия и республика
В весьма любопытном романе С. Фонвизина88 «В смутные дни», изданном в Петербурге в 1917 году, главный герой, Артемий Хорват, развивает следующие идеи:
«Я не понимаю, почему, когда мне запрещают кричать “долой самодержавие”, я должен лезть на стену и вопить о насилии, когда же мне запретят кричать “долой республику», я найду это вполне естественным, должен относиться к этому совершенно спокойно. Теперь у нас вешают за попытки к ниспровержению самодержавного строя, тогда будут вешать за такие же попытки по отношению к строю республиканскому. Plus cela change, plus c’est la meme chose…89 С этой стороны глядя, революция – пошлая комедия, которая должна была бы возбуждать один лишь смех, не сопровождайся она потоками крови, превращающими ее в такую же бессмысленную, но кровавую трагедию. Если же господа революционеры стремятся к большему, к социальному перевороту, то есть к изменению существующего вполне естественного и – я на этом не настаиваю – вполне справедливого мирового порядка, по которому все умное, сильное, энергичное, способное, талантливое находится наверху, а все противоположное барахтается на дне, то хорошо понимая стремление “дна” поменяться местами, я, как принадлежащий к “верхам”, относиться сочувственно к этой перемене не могу. Поэтому я и прощаю правительству его злоупотребления насилием, сознавая, что таковые вытекают главным образом из боязни все возрастающего могущества “чумазых”. Я готов терпеть какой угодно гнет правительства, – для порядочного человека, впрочем, мало ощутимый, – лишь бы избавиться от гнета, ожидающего меня в будущем царстве свободы (?), в царстве “пролетариев всех стран… соединяйтесь”».
Нельзя отказать автору, – писателю мало известному и, вроде бы, ни в одном курсе литературы не упоминающемуся, – в даре провидения. Как в воду глядел!
«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 27 июля 1991 г., № 2138, с. 2.
Столкновение героев
Роман «Рыцари гор», изданный в Петербурге в 1911 году, принадлежит к числу лучших вещей В. Немировича-Данченко90 (а он писал много, и на разном уровне), как и некоторые другие о Кавказе, который он любил и хорошо знал. Действие происходит в годы завоевания, и выдержано целиком в традициях Лермонтова и Марлинского: уважения и сочувствия к обеим сторонам. Как мы от того далеки ныне! Теперь даже европейские державы воюют друг с другом в духе тотальной ненависти, а уж об идеологических и гражданских войнах что и говорить!
В те же времена умели сражаться по-рыцарски. Вот сцена допроса пленного черкеса русским полковником: «Ты понимаешь по-русски?» – «Да, господин». – «Как тебя звать?» – «Асланбек». – «Из Канбулатова аула» – приподнялся Вадковский – «Вы в прошлом году напали на Анат Пу?» – «Да, господин». – «Васька! Подай стул… Очень жалею, что при таких печальных обстоятельствах вы являетесь моим гостем». – «Судьба изменчива. Сегодня я, завтра, может быть, вы будете у нас»… – «Не прикажете ли чаю? Капитан, угощайте же своего пленника». Тот же Аслан-бек так формулирует потом свой взгляд: «Да… Каждый из нас служил и служит своему народу. А Бог один знает, где правда».
Автор ничуть не затушевывает ужасы и жестокости борьбы. Мы видим, как черкесы истребляют поголовно захваченный врасплох русский отряд (правда, те отказались сдаться); как позже карательная экспедиция берет штурмом и разрушает горский аул (боеспособные жители запираются в наилучше укрепленном доме и сжигаются заживо, с тем, чтобы и противники похуже пострадали).
Но у бойцов того и другого лагеря наравне царит культ чести и долга. И в этом залог их будущего союза в рамках единой империи, и их совместной работы на общее благо.
Те люди знали, что их судит Бог, и что надо вести себя по совести, согласно унаследованным традициям. А мы живем в мире, утратившем веру, потерявшем нравственность, не имеющем иного закона, кроме угождения грязным, разнузданным страстям и служения зыбким, многообразным теориям. Ни к чему иному, помимо гибели, на таком пути не придешь. Пора бы обернуться на тени великих предков и у них поучиться!
«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 22 ноября 1986 г., № 1895, с. 4.
Ключи несчастья
Нельзя не поражаться либеральности цензуры царской России, читая роман А. Вербицкой91 «Дух времени», написанный в 1907 году и тогда же изданный, с пометкой: «Продается во всех книжных магазинах Москвы и Петербурга»!
Не только главный герой, богатый купеческий сынок Андрей Тобольцев, но и все положительные персонажи сочувствуют революции 1905 года и даже активно в ней участвуют; один из них, Потапов, даже прямо говорит о себе, что он большевик. Хуже того: с живой симпатией описано, как этот Потапов убивает следившего за ним сыщика… Все эти лица во время войны с Японией желают победы врагу и смеются над защитниками Порт-Артура, над морским поражением при Цусиме… Те, кто не приемлет подобных взглядов, учительница музыки Екатерина Федоровна (на которой женится Тобольцев) или купец Капитон (брат Тобольцева), представлены как люди ограниченные и отсталые.
Прогрессивность в политике увязывается и со свободой от буржуазной морали. Тобольцев, доживи он до нынешней сексуальной революции, чувствовал бы себя, верно, как рыба в воде. В ходе действия он соблазняет свояченицу (младшую сестру жены) и жену родного брата, Николая.
Вербицкая известна некоторым эротическим уклоном, включая и в своем самом популярном романе «Ключи счастья». Здесь, как видим, она и в политическом отношении не отстает от века…
Какая судьба была уготовлена героям (и автору), если оные дождались революции? Вряд ли им могло понравиться царство большевизма: оно утонченных и аморальных эстетов не слишком баловало.
А уж народу, который они претендовали спасать и освобождать, – мы знаем, что ему принесли их старания! Для него прежняя жизнь быстро стала утраченным раем, золотым веком изобилия и благоденствия…
«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 28 апреля 1990 г., № 2073, с. 2.
Тайны блока
Некоторые присяжные поклонники Блока время от времени печатно протестуют: всякие, мол, нехорошие «правые» ругают поэта, в творчестве которого они по своей дремучей глупости и полной некультурности ничего не понимают, за то, что он написал «Двенадцать».
Критика, конечно, бывает разная, в отдельных случаях может быть и несправедливая. Но доводы защитников, всегда одни и те же, свидетельствуют как раз о том, что они-то сами не слишком понимают, о чем говорят.
У них все время в дело идет, как решающий довод, ссылка на то, что де Блок сочинял вообще в состоянии наития, как бы в трансе, слышал некую музыку сфер и только ее воспроизводил на бумаге; а потому он и не может нести никакой ответственности за политическое или моральное значение своих стихов.
То, что поэты, да и художники в других областях искусства, творят вроде бы и не сами, а повинуясь непостижимым высшим силам, это, само по себе, весьма возможно и верно. По крайней мере, эта мысль уже неоднократно высказывалась еще до Блока.
Вот, например, А. К. Толстой очень ясно сформулировал именно такую концепцию в стихотворении «Тщетно художник, ты мнишь, что творений твоих ты создатель…»
Но вопрос-то в том, что поэт все же не мертвый инструмент, а живая, и даже, как выражались встарь, мыслящая личность. Если благочестивому человеку откуда-то извне, из пространства, загадочный голос станет диктовать богохульные строфы, то он, вероятно, их не запишет, или, допустим и записав, не опубликует. Или уж, наконец, опубликует, вставив в уста отрицательному персонажу и в какой-либо форме снабдив от себя решительной отповедью.
Блок же никаких оговорок не сделал, ни к «Двенадцати», ни к «Скифам», ни, хуже того, к кощунственным «Итальянским стихам». А значит и отвечает за них вполне.
Что же до политической левизны Блока, не в том дело, чтобы его осуждать за настроения и ошибки, которые он разделял со многими своими современниками. Но правда, что мало кто так зло и скверно отзывался о царской России, и что эти его выпады особенно нелепо звучат в нашу эпоху, когда мы-то видим падение мира в мрак жестокости и произвола по ту сторону Железного занавеса и в безудержный разврат по эту.
Опять-таки, относительно потусторонних влияний в области искусства, эту проблему, пожалуй, что небезынтересно разобрать с двух различных точек зрения, материалистической и мистической. Тут самое любопытное то, что обоими путями можно прийти к сходным выводам.
Не будет ложью сказать, что поэту кажется, мнится, будто он слышит обращенные к нему речи неземных существ, тогда как на самом деле, в нем действует его собственное сознание, питающееся его опытом и образованием, а часто в значительной степени, и литературными влияниями.
Вот почему, между прочим, Гумилев отнюдь не был неправ, – даже принимая как абсолютную истину, рассказ Блока о воспринятых им якобы «голосах и звуках, ветре, доносящимися из миров иных», – предположив, что «Двенадцать» были созданы как претворение чисто литературных мотивов. Одно другому не мешает; одно не исключает другого.
Это – объяснение психологического порядка. Однако, можно то же явление истолковать и иначе. В зависимости от поведения человека и от его внутренних устремлений, он приходит в контакт с разными силами духовного мира, добрыми или злыми, светлыми или темными.
К сожалению, анализ стихов Блока, хотя бы и самый сочувственный, лишь бы он был честный, неизбежно показывает, что силы, с которыми он общался, были мрачного, жуткого свойства. Вот их-то стихия и выразилась в леденящей буре, в волчьем вое, в хулиганском уханье «Двенадцати». Да ведь и не только в них… Те же звуки прорываются и в «Скифах», и в «Снежной маске», да н много еще где.
И впечатлительный человек от таких строк невольно вздрагивает, чувствуя, что стоит на пороге чего-то страшного…
Невольно задаешь себе вопрос: какими путями дошел Блок до подобных соприкосновений?
В памяти встают слова из письма к нему Любы Менделеевой, будущей его жены, а тогда еще и не его невесты, а только предмета его ухаживаний: «Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и… скучно».
На эти вершины ей пришлось потом взойти на свою беду. Скверно, в сущности, сложилась ее жизнь с Блоком, который ведь – и об этом не принято было говорить, но теперь все равно В. Вейдле92 громогласно и откровенно, вплоть до пикантных подробностей, все рассказал в своей брошюре «После “Двенадцати”» (Париж, 1973) никогда так и не стал на деле ее мужем…
Как об этом более деликатно выражается советский литературовед [Б. Соловьев. – ред.] в монументальном труде о творчестве Блока, «Поэт и его подвиг» (Москва, 1971): «Блок принес свою семейную жизнь в жертву древним мифам».
Перед леденящими тайнами этого недоброго и неправедного, нечистого аскетизма, не на нормальной человеческой морали основанного, перо останавливается…
Правильно сказал апостол Павел, что есть вещи, о которых и знать не следует доброму христианину…
«Русская жизнь», Сан-Франциско, 13 июня 1974 г., № 7990, с. 3.
Пара слов в защиту Гумилева
Под занавес, перед крахом нашей культуры, Бог послал России великого поэта, одного и лучших, каких она когда-либо видела: Николая Степановича Гумилева. И одарил его, со всей щедростью, не только талантом, но и мужеством, и высоким благородством; так что был он, перефразируя слова его ученицы Ирины Одоевцевой93, «и герой и поэт». Печать избрания явственно сказалась в тех откровениях иной жизни, какие на каждом шагу вырывались из-под его пера. Как это было с другим гениальным поэтом, его предшественником, душа его помнила музыку рая, откуда вышла, и нет-нет да вырывался у него вздох про
То время, когда мы любили,
Когда мы умели летать
или предчувствие, что, когда придет час, ее
Белоснежные кони ринут
В ослепительную высоту.
Недаром Гумилев сказал однажды:
И ныне есть еще пророки,
Хотя упали алтари.
Пророк, он и встретил судьбу пророка в своем отечестве. Эпоха и общество, где он жил, далеко предпочитали Блока, бывшего ему прямым антиподом.
Очень непохожи эти два поэта, однако, современники и люди в точности той же самой среды: высшей интеллигенции, уходящей корнями в дворянство. С одной стороны – гениальная простота и ясность Гумилева: есть ли у него хоть одна непонятная строчка? С другой – завораживающее косноязычие Блока, почти никогда не выражающегося вразумительно. С одной – рассказы о рае, как бы по личному опыту; с другой – взгляд, обращенный во мрак и в пугающую бездну, даже когда глаза и подняты ввысь. Гумилев, подлинно православный по своим устремлениям, хорошо чувствовал темный, леденящий элемент у Блока. Отсюда, сперва, его сдержанные замечания о блоковском «сомнительном царстве», где живут болотный попик и карлик, убивающий детей, и где правит «Истерия, с ее слугой Алкоголем», а потом, много позже, горькая фраза о том, что Блок, своими «Двенадцатью», заново распял Христа и расстрелял Государя.
Умный и трезвый консерватор Гумилев органически противостоял бездумному и запутанному Блоку; оба были, бесспорным образом, вдохновлены, но – двумя разными стихиями: один – светлой и солнечной, другой – черной как ночь.
Из них двоих, Блоку вполне идет название декадента; но в применении к Гумилеву, а его к нему нередко прилепляют, – это слово звучит вовсе бессмысленно. Как же мыслимо называть «упадочником» человека, провозглашающего, равно в творчестве и в жизни, идеалы смелости и стойкости, служения долгу и веры в Бога, иначе говоря, воплощающего в себе законы рыцарства, в самом истинном значении этого термина?
Весть, с которой пришел к нам Гумилев, завет любви к родине и верности Божьей правде, осталась непонятой. Хотя, впрочем, его личный успех и был отнюдь не мал, особенно среди молодежи. Хотя созданная им школа явила себя куда более благотворной, чем влияние Блока, и произвела много талантливых стихотворцев, а подражатели ему появляются и сейчас, по ту и по эту сторону советских рубежей. Стоило бы еще и отметить ту высокую опенку, какую давали ему поэты столь от него отличные, но по-своему замечательные, как Цветаева и Есенин. Но поняты оказались только формальные приемы, а не суть того, что он имел сказать. Гумилев свою миссию запечатлел тогда кровью: более сильного аргумента не бывает.
Нетрудно угадать, кого из двоих признал бы своим преемником Пушкин, столь высоко ценивший точность описания и прозрачность мысли, или Лермонтов, с кем Гумилева, несомненно, соединяло особое родство духовного строя. В наши дни, мы, русские анти-большевики в СССР и в эмиграции, мало найдем опоры у Блока, – в жизни, впрочем, признавшего большевиков… которые затем ему заплатили, как всегда платит дьявол, разбитыми черепками; умерший в борьбе с коммунизмом, оставил нам самый действенный и яркий призыв к борьбе:
Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.
Продолжение прежней несправедливости: в России сейчас Гумилев под запретом, а Блок заслужил себе почетное место в советском пантеоне. В эмиграции культ Блока благоговейно поддерживается, – хотя, как факт, в хвалебные ему песни здесь врываются нередко диссонансом крики протеста.
О Гумилеве же упорно продолжают молоть чепуху – и какую чепуху!
Болтают, будто он был малообразован. Тогда как вот что о нем сказал беспристрастный современник и знакомый, знаток французской литературы А. Я. Левинсон: «Я смог оценить … обширность знаний Гумилева в области европейской литературы». (Однако тот же Левинсон грубо ошибается, говоря, что Гумилеву не хватало чувства юмора: и забавные эпиграммы на разные случаи, как «Полковнику Белавенцу», и стихотворения, как «Либерия», явно свидетельствуют об обратном).
Этим знаниям, действительно, можно только изумляться. Ведь за строками Гумилева для того, кто способен их понимать, встают целые горы ссылок и намеков на французскую, старую и новую, и английскую литературу, на провансальских трубадуров, на античность, на кельтский и скандинавский эпос… Тут с ним может сравниться лишь Пушкин. Да еще надо прибавить обширные сведения Гумилева в сфере восточных литератур, – арабской, китайской, индийской, – в особенности же во всем, что касается Африки вообще и Абиссинии в частности: здесь он был одним из редких в России специалистов.
Но врут (иного слова не найдешь!) не только об его знаниях, а даже об его наружности, рисуя его чуть ли не уродом. Хотя – сохранились ведь портреты, а главное фотографии, каковые лгать не умеют, и по ним видно, что Гумилев вовсе не был особенно нехорош собою. Впрочем, вот как его описывает его невестка, понятно, близко его знавшая, каким он был в 1900 году:
«Вошел, ко мне молодой человек 22 лет, высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами липа, с большими светло-синими, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми, гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, с необыкновенно тонкими, красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая, и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно».
Что сказать о безобразных карикатурах Гончаровой и Ларионова, которые Г. П. Струве94 приложил к своему изданию Гумилева? Может быть, они были набросаны в порядке дружеского шаржа, но, как источник информации, принимают чуть ли не характер клеветы. Гумилеву на них, между прочим, можно дать лет 70… Тогда как рядом – фотография этого самого времени, в военной форме, где мы видим мужественное, симпатичное лицо, которое трудно не назвать красивым…
О жизни Гумилева толкуют вкривь и вкось, но ничего, достойного осуждения, в ней не найти и в лупу: он вел себя всегда и везде безукоризненным джентльменом.
Стоит ли обсуждать советские и прочие обвинения его в империализме, колонизаторстве, чуть ли не жестокости? Это годится для тех, кто его не читал. Потому что это как раз одна из поражающих в нем вещей: христианская и человеческая жалость к врагу на войне, и умение видеть в любых дикарях, хотя бы в пигмеях и каннибалах Африки, во всем нам равных и близких людей.
Отметим, в заключение нашей статьи, что изо всех благоглупостей о Гумилеве, какие нам довелось читать, самую потрясающую и возмутительную формулировала некая эмигрантская поэтесса Татьяна Гнедич95, заявившая, что «народный разум» де-мол Гумилеву «простил… мятежа бравурную затею!» Глазам трудно поверить… Смеем заверить эту, в остальном нам вовсе неизвестную даму, что нашему народу нечего прощать герою и мученику, погибшему за его честь и свободу, которому когда-нибудь, несомненно, немало памятников воздвигнется на необозримой Руси. Ну, а если верить в существование какого-то особого «советского» народа, неуклонно верного обожаемой компартии, то они как раз Гумилеву не простили и не простят. Для большевиков Гумилев был и остается грозным врагом, тем более страшным, что хотя они его и убили, а он, наперекор им, живет и будет жить.
«Русская жизнь», Сан-Франциско, 5 января 1974 г., № 7882, с. 3.




