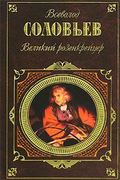Всеволод Соловьев
Последние Горбатовы
V. Задумано – сделано
Это было весною. Занятия в пансионе скоро кончались. Груня сделала маленькую уступку – продолжала ходить в пансион, хотя уже совсем почти не готовила уроков. Она кое-как выдержала переходный экзамен в старший класс, а затем, к концу лета, как-то утром ушла из дому и больше не возвращалась.
Переполох был страшный. Груня оставила записку, в которой очень трогательно благодарила Прыгуновых за все их о ней попечение, уверяла их, что ей очень грустно расстаться с ними, но что она не может поступить иначе, что она должна попробовать свои силы на том поприще, к которому чувствует призвание.
Борис Сергеевич Горбатов был в это время в деревне. Кондрат Кузьмич хотел было пуститься на поиски, но Груня исчезла без всяких следов.
– Да где же?.. Как же? Куда?.. Что такое?!
Прыгуновы совсем потеряли голову и, конечно, не могли найти разгадку, пока не пришло первое письмо от Груни из Казани, где она дебютировала. В этом письме она объясняла многое: она в несколько месяцев мало-помалу устроила дело посредством ловкого и, конечно, влюбленного в нее, хотя без всякой надежды на взаимность, молодого человека, которого встречала в доме одной из своих подруг. Она завела сношения с антрепренером, успела с ним лично познакомиться. Антрепренер поразился ее красотою и бойкостью, заставил ее прочесть несколько сцен и предложил ей условия, показавшиеся ей блестящими. Все было решено. У нее в руках оказался задаток. Она хитростью выманила у Олимпиады Петровны необходимые ей бумаги и уехала в Казань. Вот как все случилось.
Конечно, ее можно было заставить вернуться силой, так как она еще не достигла совершеннолетия. Но Горбатов, к крайнему изумлению Кондрата Кузьмича, отказался вмешиваться в это дело.
– Я получил письмо от Груни и ответил ей, – сказал он на все доводы старого дельца. – Надеюсь, что она не пропадет, и, во всяком случае, она пропадет скорее, если мы станем удерживать ее силой, – это уж такой характер…
– Да, бедовый характер, конечно, – воскликнул Прыгунов, – только как вам угодно, а пропала теперь наша Аграфена, совсем пропала!
– Не каркайте, почтеннейший! – ответил ему старик Горбатов со своей тихой и грустной улыбкой.
Каркать действительно было рано, и Борис Сергеевич доказал, что хорошо понял Груню, не пожелав ей противоречить и стеснять ее.
Дело было так. Когда Груня во что бы то ни стало решилась достигнуть своей цели и, ввиду встреченного ею в семье Прыгунова противодействия, нашла необходимым поступить тайно, она вся была наполнена только одним: добиться своего, все устроить половчее, уехать. Она ни над чем не задумывалась, не обсуждала свои поступки и только действовала.
Цель достигнута, все устроено – она в Казани.
Тут с нею произошло то же, что и тогда, после ее детского преступления в Знаменском. Она очнулась, взглянула на свои поступки сознательно и почувствовала себя не совсем правой, но не перед Прыгуновыми, нет, – как она их ни любила, но все же в своей юной самонадеянности и гордости считала, что судить ее и осуждать – не их ума дело. Она почла себя неправой перед Борисом Сергеевичем. Хотя она и немного его знала, то есть виделась с ним редко, но он играл в ее жизни первую роль. Он казался ей всегда и продолжал казаться каким-то особенным существом. Она благоговела перед ним и в то же время, хотя это, по-видимому, и не согласовалось с ее природой, даже несколько его боялась.
После своего первого дебюта в Казани она собралась с духом и написала ему горячее, искреннее письмо, излила всю свою душу, все свои мечты, планы. Она уверяла его в необходимости для нее отдаться артистическому призванию, без которого она жить не может, просила простить ее, трогательно выражала свою благодарность.
Борис Сергеевич прочел и перечел это письмо, подумал и написал ей в ответ, что хотя она поступила очень легкомысленно и дурно относительно Прыгуновых, но что, если действительно у нее есть призвание, как она пишет, то он готов извинить ей. Он выразил, что призвание это прекрасно и благородно, но что при ее молодости и неопытности она подвергается огромным опасностям. Он просил ее никогда не забывать этого…
Заканчивалось это письмо так: «Я твердо, однако, надеюсь на твою честность, благородство и чистоту. Помни также, что я всегда готов помочь тебе, и во всякую трудную минуту спеши ко мне обратиться – это будет лучшим доказательством того, что ты ценишь то посильное добро, которое я тебе сделал».
Груня несколько часов проплакала над письмом Бориса Сергеевича, и хотя в ней никогда не замечалось сентиментальности, но все же она не могла оторваться от этого листка бумаги и много раз целовала строчки, написанные старческой, уже дрожащей рукою.
Борис Сергеевич чувствовал, что именно так ей написать надо, – и не обманулся. Это письмо было талисманом, охранявшим Груню в ее скитальческой жизни.
Конечно, опасностей было немало, немало испытаний, а разочарований и того еще больше. Конечно, мечты разлетались мало-помалу, и эта новая «волшебная» жизнь оказалась совсем плохою. Груня попала в самое ужасное общество, какое только можно себе представить, в общество провинциальных актеров и провинциальных театралов. Она дебютировала как драматическая актриса и с первого же появления своего на сцене стала любимицей большинства публики. У нее, бесспорно, были проблески настоящего дарования, хотя игра ее отличалась неровностью и на каждом шагу чувствовалось отсутствие школы.
Если считать ее промахи, их в каждой роли набиралось достаточно; но ее молодость, ее всепобеждающая красота действовали одуряюще. Конечно, она сразу очутилась центром всяких исканий со стороны молодых и немолодых театралов. Конечно, она встретилась с завистью подруг, со злобой, клеветой, сплетнями. Она видела грязные и мелкие закулисные интриги, цинизм и разврат, глупость и невежество, но вместе с этим встретила и доброе к себе отношение.
Она на первых же порах сблизилась с пожилой актрисой, женщиной очень хорошей и доброй и даже не имевшей никакого скандального прошлого, честно и добросовестно зарабатывавшей себе кусок хлеба на театральных подмостках. Эта женщина, с которой Груня и поселилась вместе, была ей в большую помощь, но в еще большую помощь оказался «талисман» Бориса Сергеевича в соединении с ее собственным нравом, с ее самолюбием и гордостью. К тому же в ней, наперекор рассудку, жила неизменно детская мечта об едином друге, об едином идеале – Володе. Все это, вместе взятое, спасло ее от грязи, от падения, от непоправимых ошибок.
Борис Сергеевич, Володя и даже добродушная семья Прыгуновых – все эти знакомые образы заставляли ее свысока смотреть на новых людей, с которыми теперь ей приходилось сталкиваться. Эти двусмысленные интриганки-актрисы, эти нахальные ухаживающие за ней молодые и немолодые люди казались ей ничтожными и жалкими, порой смешными, порой гадкими. Они не могли увлечь ее. Она их не понимала, как и они ее, и ей с ними, по большей части, было просто скучно. В ней не было робости, и мало-помалу развивалась осмотрительность. Она поневоле должна была у себя принимать. Она умела быть любезной и милой; в иные минуты, когда молодая, самолюбивая голова кружилась от аплодисментов, даже веселой; но никогда никому не позволяла она ничего лишнего – ни слова, ни движения, и очень искусно останавливала каждого вовремя.
Если бы ей пришлось жить на одном и том же месте долгое время, то ее молодая честность и неприступность сделали бы ей, конечно, непримиримых врагов, и эти, пожалуй, враги так или иначе подставили бы ей ногу. Но Груня в Казани не засиделась. Она вдруг пришла к убеждению, что это «совсем не то». Несмотря на аплодисменты, она сама разочаровалась в своем драматическом таланте и, окончив зимний сезон, уехала в Тифлис, чтобы давать там концерты.
У Груни был сильный, чистый и мягкий контральто, но совсем необработанный. Она с большой душой, с огнем и силой играла на рояли. Но и здесь сказывалось полное отсутствие хорошей школы. Однако она все же дала несколько концертов, и опять ее красота и молодость, ее скромный и в то же время спокойный вид, наконец, какое-то магнетическое обаяние, исходившее от нее, упрочили за нею успех.
Она появилась на водах в Пятигорске и Кисловодске, произвела фурор, а когда направилась в Кутаиси, то повлекла за собою целую толпу «водяных» обожателей.
Она была довольна этим своим летом, но довольна главным образом потому, что провела его в чудной стране, красота которой так согласовалась с ее поэтическими вкусами. Собой же она была опять недовольна. Она мечтала теперь об опере, но сама сознавала, что это только мечты, что ей нужно много учиться. Она почти уже было решилась ехать в Москву и с помощью Бориса Сергеевича поступить в консерваторию.
Между тем подвернулся новый антрепренер и успел уговорить ее сделать большое путешествие по городам южной России. И вот во второй год своего странствования она промелькнула в Киеве, в Харькове, в Одессе.
Но она истомилась, измучилась; фантазии ее уже совсем почти разлетелись. Она еще не потеряла веру в себя, но чувствовала, что находится на ложной дороге.
Она развилась и как будто несколько постарела душевно за это время, в ней исчезли последние неровности.
Эти два года ее не испортили. Но все же дыхание житейской пошлости, атмосфера людей, с которыми жила она, наложили на нее свой неизбежный след, как будто запылили ее. Она решила, что теперь настала именно такая «трудная минута», о которой ей писал Борис Сергеевич, и поехала в Москву за его помощью.
Дорогой в ее горячей, все быстро решавшей и упрямо стоявшей на своих решениях голове созрел новый план. Да, она должна быть певицей и для этого должна учиться; но не в Москве, не в консерватории, а у «источника», на родине всякой музыки и пения, в Италии.
«За границу, за границу! В Италию!» – таков был теперь немолчный крик ее души, и с этим душевным криком она очутилась в домике Прыгуновых.
Ей пришлось провести не особенно приятный день – старики встретили ее сурово, с глубоким убеждением в том, что она – существо пропащее. К тому же они никак не могли забыть нанесенной им ею обиды – ее бегства из их дома.
Однако Груня все же с ними справилась, пустив в ход самые что ни на есть свои кошачьи ужимки. Старики растаяли. Олимпиада Петровна повела ее к себе и заставила перед образами поклясться, что она «в этом омуте вела себя хорошо и никогда не позволяла с собою мужчинам ничего такого…» Когда Груня поклялась в этом торжественно и всячески успокоила старушку, мир был заключен. Но ненадолго. На следующий же день приехал к Прыгуновым Борис Сергеевич, Груня долго с ним беседовала, и кончилась эта беседа тем, что верный себе благодетель согласился на ее поездку в Италию и сказал, что даст ей все нужные средства для исполнения ее планов. Она приняла его помощь, без которой не могла обойтись, но с твердым решением так работать, чтобы скоро иметь возможность снова самой зарабатывать деньги.
Когда Прыгуновы узнали, что она опять «бежит» да еще и за границу, они стали ее всячески упрашивать не губить себя, она не сдалась, и старики расстались с нею, огорченные и сердитые – «лучше бы и совсем не приезжала…»
Пять лет прошло с тех пор – лучшие годы молодости Груни. Она действительно сильно работала, и скоро имя певицы Фиорини (так для сцены она назвала себя) сделалось известным в Италии. В последние два года она с большим успехом пела в Вене, в Берлине, в Лондоне.
Она уже готова была подписать очень выгодный контракт с американцем-антрепренером, когда внезапная и какая-то странная болезнь горла почти лишила ее голоса.
Груня чуть с ума не сошла от отчаяния, советовалась со всеми известными специалистами по горловым болезням: они ничего не понимали, но в один голос решили, что это «нервное, что болезнь может пройти так же внезапно, как и явилась». «Когда же?» – на это они не могли дать ответа. Груня была как в тумане, но в то же время решила не падать духом.
Из Вены она очутилась в Одессе, где случайно узнала, что ее прежний друг, старая актриса, сильно и безнадежно больна в Астрахани. Недолго думая, послушная одному из своих горячих порывов, она помчалась в Астрахань. Оказалось, что актриса уже давно умерла. Потом все случилось как-то само собою: Груня вдруг появилась на сцене в роли Катерины в «Грозе». Восторгам астраханской публики конца не было; но Груня скоро почувствовала, что ведь это – сон, бред какой-то, что надо очнуться, прийти в себя. Если голос действительно пропал, если надо не петь, а играть, то не здесь же.
Ей становилось все тоскливее, все тяжелее. Ее неудержимо, страстно, как пять лет тому назад, потянуло в Москву, захотелось скорее увидеть те немногие милые лица, которые у нее были в жизни.
Она в три дня собралась и очутилась на волжском пароходе. Когда пароход тронулся, Груня, устраивавшаяся в своей каюте, вздохнула полной грудью, будто большая тяжесть спала у нее с плеч; ей показалось, что она вырвалась из неволи, из тюрьмы, что теперь покончены уже все счеты с опротивевшей, пошлой, измучившей ее жизнью. Ей было приятно при мысли, что она уже не будет видеть этих глупых, нахальных, приторных лиц, окружавших ее в это последнее время, окружавших еще за несколько часов перед тем.
Ей даже казалось, что она навсегда наконец избавлена от этих поклонников якобы ее таланта, из которых каждый глядел на нее как на более или менее доступную добычу. И никогда еще с такой ясностью не представлялась ей унизительность положения молодой красивой актрисы, которую, как бы она ни держала себя, никто не признает за честную, достойную уважения женщину.
Кондрат Кузьмич и покойная Олимпиада Петровна были почти правы… Ей стало очень грустно, но мысль о том, что теперь кончено, что через несколько дней она будет в Москве, ее развеселила. Она вышла на палубу и села под навесом, глядя на воду, следя за зыбью.
– Аграфена Васильевна! – раздалось над ее ухом.
Она с изумлением обернулась и увидела перед собою улыбающуюся, франтоватую и неуклюжую фигуру Барбасова.
«Как-таки не кончено! – с ожесточением подумала она. – И здесь опять то же!..»
Барбасов принадлежал к числу самых горячих ее поклонников за последнее время в Астрахани. Правда, он надоедал ей меньше других, но все же его присутствие, напоминавшее именно то, от чего она бежала, было теперь противно.
Барбасов, молодой московский адвокат, уже получивший известность двумя-тремя крупными делами, очутился в Астрахани именно по случаю одного из подобных дел. Окончив его блистательно, то есть набив себе туго карман, он теперь возвращался в Москву.
– Аграфена Васильевна, вот уж не ожидал такого счастья!.. Мы едем вместе! – восторженно произнес он, щуря глаза и шлепая губами.
Она не удержалась.
– Для меня это совсем не счастье, – сказала она. – Я именно бегу от всех вас, господа! От ваших любезностей, комплиментов… Я, право, очень устала, и мне необходимо быть одной… одной.
Он сделал серьезное лицо, насколько это было в его власти, и присел рядом с нею.
– Не гоните меня, – тихо проговорил он, – увидите, что не так черен черт, как его малюют…
И он мало-помалу, заведя интересный разговор, овладел ее вниманием. Он кончил тем, что превратился в очень милого, деликатного и приятного спутника, и Груня даже не замечала, какие по временам он бросал на нее жадные, страстные взгляды. Он исчезал, едва видел в ней малейший признак неудовольствия.
Таким образом, Груня нередко оставалась одна и тогда она начинала раздумывать о Москве. Ей пуще всего надо было увидеть Бориса Сергеевича, она рассчитывала и теперь на его поддержку… И вот его нет – он умер! Вся радость возвращения была отравлена.
Но он написал ей перед смертью, позаботился об ее будущности. Новый талисман имела она от него. И в этих предсмертных строчках старика снова сказывалось его прозорливое сердце.
Он просил ее ни под каким предлогом не тратить оставляемых ей пятидесяти тысяч. «Процентов с этих денег достаточно, чтобы всегда поддерживать тебя, – писал он слабым, дрожащим почерком. – Верю, что ты исполнишь этот завет мой».
Конечно, она его исполнит!.. Но нет его, прекрасного и доброго, не привелось его увидеть…
Она только теперь сознавала ясно, кем он был для нее. Она обвиняла себя за свое долгое отсутствие из России, за эти глупые два месяца в Астрахани и долго-долго не могла заснуть, лежа на узенькой кровати, среди знакомой, бедной и милой ей обстановки.
VI. На Басманной
Борис Сергеевич не ошибся, избрав свою дальнюю родственницу, Клавдию Николаевну Неромскую, для роли воспитательницы своих внучат и руководительницы всего московского дома. Она, как говорил про нее старый Степан, пришлась «ко двору» и в течение четырнадцати лет исполняла свои многосложные обязанности, если не всегда особенно удачно, по независящим от нее обстоятельствам, то, во всяком случае, добросовестно.
Клавдия Николаевна, бездетная вдова, до переезда к Горбатовым чувствовала себя крайне уставшей, хотя, собственно говоря, сама не могла дать себе хорошенько отчета в причинах этой усталости. Ей просто недоставало цели жизни, теперь же цель нашлась. Она была большая идеалистка и даже мечтательница, иногда не особенно ясно представляла себе действительность, видела ее то в чересчур розовом, то в чересчур мрачном свете, согласно состоянию своих нервов.
Ее легко было обмануть и уж особенно в денежном отношении, так что хозяйственная часть у нее всегда немного хромала. Но большие средства Бориса Сергеевича, которыми держался дом, делали эти промахи незаметными.
У Клавдии Николаевны было очень чувствительное сердце. Она любила всех и каждого, всех, кого знала и кого не знала. Ей доставляло большое наслаждение кому-нибудь услужить, помочь, вывести человека из беды. Она именно любила всех, потому что у нее не было ни одной действительно сильной привязанности.
Посвятив себя воспитанию детей Сергея Владимировича, она этим прежде всего доставила самой себе огромное наслаждение, почувствовав, что дети эти действительно без нее не могут обойтись. Она, еще не узнав их и не разглядев совсем, исполнила свое сердце жалостью к ним и симпатией. Говоря о них со своими многочисленными знакомыми, приятелями и приятельницами, она всегда вздыхала, делала грустное лицо и называла их не иначе, как «эти бедные дети». Так они и остались у нее «этими бедными детьми» во все четырнадцать лет.
Разглядев их, она убедилась, что ей предстоит трудная задача, в особенности по отношению к старшей, Соне. Девочка была избалована до последней степени покойною бабушкой, своевольна, заносчива. В тринадцать лет она уже считала себя за какое-то маленькое божество, перед которым все должны были преклоняться. Клавдия Николаевна решила, что перевоспитает Соню. Но это ей не удалось, как потому, что вообще переделать в корень испорченную тринадцатилетнюю девочку нет возможности, так и потому, что ей мешала жалость к «этому бедному ребенку».
Однако все же она сделала все, что могла, и, вероятно, Соня в других руках вышла бы несравненно хуже.
Ладить с Машей было уже легче, она была меньше испорчена, да и натура у нее оказалась совсем другой. Но, как бы то ни было, благодаря стараниям Клавдии Николаевны обе девочки получили, с общепринятой точки зрения, прекрасное воспитание и образование.
Держать дома на подобающей ноге – на это Клавдия Николаевна была мастерица. Она всегда выбирала для девочек очень представительных гувернанток – француженок и англичанок, не особенно строгих, но и не чересчур податливых. Она завела постоянные сношения с лучшими семьями из старого московского дворянства, где у девочек были сверстницы. Одним словом, их детство и отрочество прошли счастливо и весело.
Не забывая учебных занятий, Клавдия Николаевна заботилась, именно вследствие того, что это были «такие бедные дети», об их удовольствиях. Она устроила веселые танцклассы в огромной зале старинного дома, придумывала различные увеселения. Зимой в саду были всегда каток, горки. Летом вся семья обыкновенно уезжала за границу. В Горбатовское почему-то никогда не ездили, и даже сам Борис Сергеевич в течение этих последних четырнадцати лет своей жизни был там всего два раза, да и то на самое короткое время. С Горбатовским теперь соединялось в семье слишком много тягостных воспоминаний.
Когда девочки подросли, к ним были приглашены лучшие учителя. Конечно, образование их было несерьезно, но они знали все, что знать требовалось в их обществе. Они имели элементарные понятия о многих науках, прекрасно говорили на трех языках. При этом Маша очень мило рисовала и сделала пастелью довольно схожий портрет дедушки, Бориса Сергеевича, за который все знакомые ее так расхвалили, что она успокоилась на лаврах и вдруг совсем почти охладела к живописи.
У Сони оказался небольшой музыкальный талант. Музыкант Дюбюк, бывший тогда в Москве в большом ходу как учитель музыки, без особенных угрызений совести объявлял ее за глаза и в глаза чуть ли не самой лучшей своей ученицей. Она также пела тоненьким чистеньким сопрано, и на ее долю выпало немало аплодисментов в московских гостиных. Сама она считала себя необыкновенной музыкантшей и певицей и была уверена, по крайней мере в минуты откровенности признавалась в этом многим, что если бы ее положение позволяло ей поступить на сцену, то, конечно, она затмила бы самых первоклассных артисток.
Она не пропускала ни одного представления итальянской оперы, и Клавдия Николаевна, понемногу старевшая и все больше страдавшая своими нервами, иногда выказывала настоящее самоотвержение, сопровождая ее и возвращаясь домой с мучительной мигренью. Соня тоже иной раз уже позевывала в театре, прикрываясь веером, и с нетерпением ожидала антракта, когда к ним в ложу входили допускавшиеся по выбору Клавдии Николаевны безукоризненные молодые люди. Но не быть в опере аккуратно на каждом представлении своего абонемента и в бенефисы она не могла, желая сохранить репутацию «серьезной артистки».
Никто не слыхал от Сони искреннего восхищения каким-нибудь певцом или певицей, она всегда находила в них недостатки и презрительно пожимала плечами.
Москвичей сводила с ума в те годы madame Арто в роли Маргариты и Розины, но Соня была недовольна и ею. Она у себя дома повторяла ее арии и находила, что исполняет их несравненно лучше «этого урода», которым неизвестно почему восхищаются. Один только тенор Станио снискал было ее милостивое к себе расположение, он даже был ей как-то представлен и даже один раз пел у них в доме. Но избалованный, не особенно благовоспитанный итальянец не сумел достаточно преклониться перед знатной барышней-дилетанткой – барышень он избегал, предпочитая им московских барынь. Он отнесся к Соне, как ей показалось, довольно равнодушно. С этого дня она выбросила из своего альбома его портреты и затем стала находить, что его голос слабеет и портится с каждым новым представлением…
Соня и Маша совсем выросли. Их учебные занятия прекратились. Англичанка и француженка сменились «demoiselle de compagnie»[4], пожилой девицей, баронессой Кнорре из обедневшего, но безукоризненно приличного семейства. Эта баронесса, со своим уже увядшим, но довольно приятным лицом, с прекрасными манерами, образованная, начитанная, представлялась Клавдии Николаевне именно такой особой, какая нужна была в данных обстоятельствах. Она была способна заменить ее в тех случаях, когда мигрень, доведенная до последней степени, заставляла даже «этих бедных детей» превращаться в «этих несносных детей».
Итак, Соня и Маша, шапронируемые[5] то Клавдией Николаевной, то баронессой Кнорре, блистали в лучшем московском обществе. Обе они считались красивыми девушками. Соня вышла совсем похожей на свою бабушку Катерину Михайловну: небольшого роста, стройная и грациозная, белокурая, с нежным румянцем, с томными глазками и щебетаньем птички. Сходство с бабушкой не ограничивалось одной внешностью – она унаследовала от нее и многие свойства характера, только иная эпоха и различные подробности в обстановке и воспитании несколько изменили это родовое сходство. Но у птички, во всяком случае, были острые коготки, а язычок иной раз не знал себе удержу.
Маша была в ином роде. Чуть ли не на голову выше сестры, почти брюнетка, с темно-серыми глазами, с густою каштановой косою, несколько массивная, она, собственно, ни на кого из родни особенно не была похожа, да и лицо ее часто менялось. Иной раз она казалась просто некрасивой: глаза без блеска, какое-то безучастное или неизвестно почему изумленное выражение. Но в минуты оживления и веселья она преображалась: на губах ее появлялась живая, прелестная улыбка, тотчас же ее скрашивавшая и привлекавшая к ней всякого. Это была улыбка ее прабабушки, красавицы Татьяны Владимировны.
Маша оставалась покуда для всех, знавших ее, загадкой.
Клавдия Николаевна, говоря о ней, совсем закрывала глаза, грустно пожимала плечами и шептала:
– Cette pauvre chère enfant – c'est une enigme!.. On ne sait jamais ni ses sentiments, ni ses pensees… Mais elle est bonne… oh, elle est bonne, la pauvre petite!..[6] – прибавляла она, глубоко вздыхая.
Даже московская молодежь – и та признавала Машу иероглифом. На нее иногда находили целые недели какого-то апатичного состояния: она делалась молчаливой, почти ко всему безучастной и даже иной раз отказывалась от выездов, ссылаясь на нездоровье.
Тогда Клавдия Николаевна била тревогу, посылала за доктором. Но доктор уверял, что никакой болезни нет и не предвидится.
«Может быть, скучает барышня или забилось сердечко. Выйдет замуж – повеселеет…»
«Выйдет замуж». Этот вопрос уже начинал не на шутку тревожить Клавдию Николаевну. Вот Соне уже минул двадцать один год. Маше скоро девятнадцать. Выдать их обеих замуж – это было необходимо, этим добросовестная воспитательница должна была завершить доброе дело своей жизни.
Когда она поверяла приятельницам свою заботу, ей обыкновенно объясняли, что в женихах-то у ее воспитанниц не будет недостатка – такое имя, такое богатство и такие хорошенькие!..
– Хорошенькие… да, пожалуй… oui, certainement, elles sont jolies, les pauvres petites…[7] имя… конечно…
Она успокаивалась на короткое время.
О богатстве их она как-то не думала – это уж дело Бориса Сергеевича… Однако женихи, несмотря на красоту и богатство невест, все же заставляли себя ждать.
И Соня, и Маша всегда были окружены, но до сих пор никто еще не решился ясно высказаться, так как они, каждая в своем роде, держали себя чересчур холодно и недоступно.
Наконец Соня пленила сердце некоего юноши, князя, обладателя довольно расстроенного состояния и больших связей, недавно с грехом пополам окончившего университетский курс, служившего у генерал-губернатора и совершенно уверенного в своей блестящей административной карьере. Юноша был очень недурен собой, его разрывали на части в обществе. Он считался в Москве первым женихом.
Соня была к нему милостива.
И вот он сделал ей форменное предложение, в полном расчете на ее согласие. Каково же было его изумление, когда она ему отказала, отказала напрямик, и приняла при этом даже какой-то оскорбленный вид.
Князь не поверил, что это серьезно, и подослал к Клавдии Николаевне одну из своих тетушек.
Клавдия Николаевна спросила Соню.
Та разразилась насмешками над претендентом.
– Как, чтобы я вышла замуж за такого ничтожного человека, за этого мальчишку?! Я еще не сошла с ума… Я удивляюсь даже, как вы об этом можете серьезно со мною говорить.
Клавдия Николаевна изумилась.
– Почему же, друг мой? Он очень приятный молодой человек, любим всеми… с будущностью… из почтенной семьи… Ты бы ничуть себя не уронила… Право, он лучший жених в Москве…
– Очень может быть! – отвечала Соня, нервно передернув плечиком и сделав презрительную минку. – В таком случае желаю ему лучшую московскую невесту. Я же за него выходить замуж не намерена, и, пожалуйста, не будем больше об этом говорить…
– Если желаешь – не будем. Но смотри, потом пожалеешь, пожалуй!
– Не беспокойтесь, не пожалею! – засмеялась Соня.
После «первого» московского жениха «вторые» уж не совались. Соня осталась неизбежным украшением всякого бала в московском обществе, но ее не любили, и эта общая нелюбовь к ней развивалась больше и больше. Сама она, конечно, не замечала этого.
Но она, по крайней мере, отказала лучшему жениху, Маша никому не отказывала, у нее просто женихов не было. Почему так случилось – неизвестно. Эти две красивые, богатые и знатные девушки скоро отчего-то перестали совсем даже и считаться невестами в толпе московских и время от времени наезжавших из Петербурга женихов.