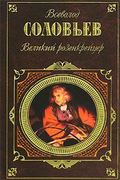Всеволод Соловьев
Последние Горбатовы
XII. Зачем он здесь?
На пороге появилась стройная и грациозная фигура Софьи Сергеевны.
Да, теперь уж это была не Соня, не даже Софи, а Софья Сергеевна. Каждый, взглянув на нее, непременно должен был признать ее красивой, хотя сухая холодная красота ее миниатюрного и тонкого лица много потеряла вместе со свежестью и оживлением первой юности. Эти, по-видимому, спокойные, мирные годы прошли далеко не бесследно.
Софье Сергеевне было теперь двадцать шесть лет. В иные дни, особенно при вечернем освещении, она казалась моложе. Среди оживления бала или в гостиной, со своим тоненьким голоском, с капризными иногда, но, во всяком случае, до тонкости изученными движениями и манерами, она продолжала производить впечатление воздушной ingénue[11].
Но дома, на свободе, без прикрас и эффектов обдуманного туалета, в строгом траурном платье, она теперь появилась такою, какою была на самом деле, то есть слишком даже рано поблекшей девушкой. Ее несколько лет тому назад ослепительный цвет лица принял теперь желтоватый оттенок, щеки были бледны, на лбу и вокруг глаз уже образовались тоненькие нити морщинок, делавшиеся совсем заметными, когда она оживленно говорила или смеялась. Поэтому она, изучившая свое лицо до мельчайших подробностей и давно уже приходящая в ужас от этих морщинок, всеми силами старалась не смеяться и не оживляться, одним словом, ни при каких обстоятельствах не забывать о своем лице. Она уже робко и осторожно, под величайшим секретом от всех, стала даже прибегать к некоторым косметикам, к каким-то средствам вроде lait de beauté[12], от которых тщетно ждала помощи.
Уходящая, и так бессовестно рано, так предательски быстро, молодость – это было теперь несчастье ее жизни. Несчастье для нее настоящее, доставлявшее ей много никому не ведомых страданий. Да, она считала себя глубоко несчастной, жестоко обиженной судьбою и людьми, не умевшими понять и оценить ее. Она искренне чувствовала, что общество страшно виновато перед нею, что она загубила себя в низменной среде.
Прежде всего, конечно, виноваты были родные, начиная с отца, которого, – она даже и не скрывала это, – она и презирала, и почти ненавидела. Виноват был и покойный дедушка, и Клавдия Николаевна, и все, все без исключения. Между тем, если бы спросить ее, в чем именно заключалась их вина, она, конечно, не могла бы ответить.
По семейным обстоятельствам она большее время своей жизни прожила в Москве, но каждое лето уезжала за границу. Две зимы она провеселилась в Петербурге, где для нее строгая отшельница, Марья Александровна Горбатова, даже изменила своим привычкам и сделала все, чтобы доставить удовольствие племяннице. Она отдалась в ее распоряжение и вывозила ее всюду.
У Софьи Сергеевны была одна заветная мечта – и мечта эта осуществилась – ее пожаловали фрейлиной к государыне. Она появлялась на всех придворных балах и собраниях. Но опять-таки это ни к чему не привело. На третью зиму она уже не поехала в Петербург, чувствуя себя почему-то и там оскорбленной всеми. И она почла бы клеветником того человека, который сказал бы ей, что сама она виновата в своей неудаче. Она держала себя так гордо и в то же время при всяком удобном и неудобном даже случае так злословила, так чванилась, что все те, кто сначала заинтересовался было ею, скоро от нее совсем отстали.
У нее явились определенные честолюбивые планы – она наметила единственного человека, которого почла достойным и себе равным. Приняв за основание несколько любезных фраз, ей сказанных, она создала себе самые несбыточные надежды. Она сделала хуже – дала кое-что заметить и понять этому человеку. Он с изумлением отошел и даже стал, видимо, избегать ее.
Она была уверена, что никто ничего не знает, а между тем у нее уже были враги, то есть люди, возмущенные ее чванством и злым языком. Эти враги пустили сплетню и в свою очередь жестоко посмеялись над нею. Поэтому-то она и не вернулась в Петербург на третью зиму.
Конечно, она не любила этого, так неудачно намеченного ею человека; конечно, он ровно ни в чем – ни словом, ни помышлением не был виноват перед нею, но она вообразила, что он дурно с нею поступил, вообразила, что сердце ее разбито, и с этого времени в ней стало развиваться окончательно недовольство жизнью. Характер ее, никогда не бывший приятным, с каждым днем делался теперь невыносимее. Она придиралась ко всему и ко всем, ее ничем нельзя было удовлетворить, и бедная Клавдия Николаевна испивала иногда горькую чашу.
Наконец Софья Сергеевна, убедясь, что прошлого не вернешь, что продолжать думать о том единственном равном ей человеке нечего, решила, что ведь не может же она остаться так, что уж если судьба не дала ей возможности как следует устроиться, то все же должна она выйти замуж. Она готова была теперь принять обыденную долю; если бы теперь тот первый, единственный, ее жених или кто-нибудь в этом роде ей представился, она вышла бы замуж без всяких рассуждений. Она даже вдруг стала снисходить, обращала свое благосклонное внимание то на одного, то на другого.
Но все ее старания пропадали даром: никто не делал ей предложения и, мало того, с ужасом она замечала, что к ней относятся уже не так, как относились прежде, как вообще относятся к молодым девушкам, – к ней относились с большим почтением, и это почтение доводило ее до отчаянья.
А время шло, и проклятые морщинки, несмотря ни на какие «lait de beauté», обрисовывались заметнее и заметнее. У нее задавались теперь целые дни, целые недели глубокой тоски, тем более невыносимой, что не с кем было ею поделиться. Софья Сергеевна скорее бы умерла, чем призналась кому-либо в своих муках…
Теперь она вышла в гостиную бледная и скучающая, с изумлением взглянула на Барбасова, ответила на его почтительный поклон пренебрежительным кивком головы, остановилась было, но затем прошла через гостиную и скрылась.
Владимир вышел за нею и остановил ее:
– Соня, ты куда? – сказал он. – Посиди немного в гостиной, помоги тете, а то у нее сегодня такой вид, что глядеть страшно.
– Это еще что за явление? – вместо ответа проговорила Софья Сергеевна.
– Барбасов? Да ведь ты его знаешь.
– Кажется, знаю, как приходится знать бог знает кого… Но зачем он у нас, этот пестрый и неприличный урод?
– Он мой старый товарищ.
– Мало ли какие у тебя могут быть старые товарищи, но ведь есть же всему предел, и я вовсе не желаю, чтобы наша гостиная превратилась в трактир…
– Однако… раз уж он здесь… ведь ты хозяйка…
– Нет, уволь, уволь меня – некогда!
И она пошла дальше.
Владимир вернулся в гостиную и с удовольствием увидел, что вторая сестра его, Марья Сергеевна, сидит почти рядом с Барбасовым и спокойно с ним беседует.
Теперь более чем когда-либо бросалась в глаза разница между двумя сестрами. Марье Сергеевне шел двадцать четвертый год. Но она, в семнадцать лет казавшаяся старше своего возраста, очень мало с тех пор изменилась, только развилась окончательно, окрепла, совершенно избавилась от своей юной неуверенности, одним словом, очень много выиграла. Ее высокая полная фигура выражала силу и бодрость, румяное лицо дышало здоровьем, ни о каких морщинках не было и помину. Она еще не задумывалась о том, что время уходит. И если бы спросить ее, что думает она о замужестве, она бы прямо ответила, что давно уже находит, что пора ей замуж и что, вероятно, в конце концов и выйдет.
В ее жизни, в первое время ее выездов, был у нее какой-то период колебаний, неясных и неразрешенных вопросов, но этот период давно прошел. Она была довольна жизнью, считала себя почти счастливой. Теперь она никому не казалась загадкой, все ее странности исчезли. Ее организм как бы выдержал какую-то борьбу, быть может, с зародышем какой-нибудь серьезной болезни. Он, может быть, победоносно выбросил из себя находившуюся в нем частицу того самого яда, который превратил ее младшего брата в «дурачка Кокушку».
Каждое новое лето, проведенное ею в путешествиях, на водах, укрепляло ее больше и больше. С каждым новым годом она чувствовала себя бодрее и здоровее, и это здоровье, конечно, отражалось на всем ее миросозерцании. Она никогда не питала в себе неисполнимых планов, не мечтала о невозможном, довольствовалась окружающим. Она очень любила Москву, любила с детства установившийся строй их жизни, любила повеселиться и, если изредка на нее находило нечто подобное прежней апатии, то, в сущности, это было не что иное, как потребность необходимой и полезной перемены, и перемену эту она находила дома, у себя, в физическом отдыхе, в чтении.
С каждым годом она все чаще и чаще начинала жить умственным интересом, следила за общественным движением, всматривалась в то, что делается вне ее обычного круга. Только у нее не было руководителя, она шла одна, ощупью, и немудрено, что иногда сбивалась с дороги…
Войдя теперь в гостиную и заметя Барбасова, она не обратила внимания на его пестрый костюм; напротив, даже очень просто и искренно сказала ему, что рада его видеть, и тотчас же заговорила с ним о последнем выигранном им процессе, который интересовал ее.
Барбасов был на седьмом небе. Он уже стал было чувствовать себя, несмотря на весь свой апломб, не в своей тарелке. Он решительно не знал, как приступить к такому хрупкому, едва-едва держащемуся созданию, как Клавдия Николаевна. Строгое промелькнувшее виденье Софьи Сергеевны окончательно подрезало ему крылья. А тут вдруг очутилась эта любезная и красивая девушка, ласково на него взглянула, начала говорить с ним о предмете ему близком, и он мгновенно расцвел, глазки его под очками блестели, лицо сияло.
Он заговорил с жаром, с увлечением, хотя все же старался поменьше жестикулировать и поменьше плеваться. Войдя в азарт, он всегда говорил хорошо, даже остроумно. Марья Сергеевна несколько раз весело и одобрительно улыбнулась, и кончилось тем, что некрасивое, комичное лицо ее собеседника перестало смущать ее, показалось ей оригинальным и симпатичным.
В соседней комнате послышались громкие шаги, и в гостиную, запыхавшись, весь красный, вбежал Кокушка. Бесцветные глаза его были вытаращены. Он находился в сильном возбуждении, никого не замечая, подбежал к Клавдии Николаевне и пронзительным голосом, захлебываясь, заикаясь и шепелявя, стал кричать:
– Тетя, да… да что же это такое? Я не могу этого больше терпеть… Я ее не трогаю, я к ней даже никогда не вхожу, я… за… чем же она рашпоряжается в моей комнате? Меня не было… Она пришла, штащила мои крашки… ишкал… ишкал – нигде не мог найти… Ка… как она шмеет брать мои вещи!.. Где мои кратки?..
Клавдия Николаевна с отчаянием зажала себе уши.
– Господи! Николай, да успокойся, что такое? Ведь я ничего понять не могу! Кто такой? Какие краски? Кто у тебя?
– Кто? Известно кто… все Софьюшка… фрейлина наша… принцеша…
Клавдия Николаевна безнадежно закрыла глаза.
Между тем Кокушка обернулся и увидел Барбасова. Мгновенно все раздражение, весь его гнев пропали; он спокойно подошел к гостю, протянул ему руку и с улыбкой проговорил:
– А ждравствуй, адвокат, ждравствуй… Как поживаешь… кого обираешь?
Кокушка со всеми мужчинами, с которыми встречался несколько раз, был на «ты». Барбасова он знал уже давно, а с тех пор как имя его стало часто повторяться в газетах, он называл его своим приятелем. Он чувствовал склонность ко всем знаменитостям.
– Кого же я обираю? – улыбаясь, сказал Барбасов.
– На… на то ты и адвокат, чтобы обирать! Вон у Гриневых-то… говорили, что такого мошенника, как ты, еще никогда не было.
Барбасов, несмотря на все свое самообладание, невольно смутился. Марья Сергеевна решительно не знала, куда ей деваться.
Но вдруг Кокушка сразу оборвался, глаза его снова вытаращились, лицо покраснело, и он кинулся к двери, заметив входившую Софью Сергеевну.
– Куда ты девала мои крашки? – закричал он.
– Что такое? Объясни, пожалуйста, Софи, какие краски? – выговорила через силу Клавдия Николаевна.
Софья Сергеевна с презрением взглянула на брата и, обратясь к старушке, сказала:
– Я случайно зашла к нему – и что ж бы вы думали? Он взял из большой гостиной самый лучший кипсек[13] и вздумал его раскрашивать! Уже девять прелестных гравюр совсем испортил… Я и унесла его краски… Ведь это невозможно!.. Il finira par gâter tout!..[14]
– Где мои крашки? – взвизгнул Кокушка. – Как ишпортил?! Я отлично… от… от… лично рашкрашивал!.. Покажи – все скажут… А ра-а-ашкрашивать картинки ты мне не можешь запретить! И отнимать крашки не шмеешь!.. Я… я… ведь не запрещаю тебе рашкрашивать лицо… фре-е-ейлина!..
Софья Сергеевна позеленела, хотела сказать что-то и – не могла. Наконец она собралась с силами, сообразила, что единственное спасенье – заставить Кокушку уйти.
– Твои краски в диванной, в столе, – дрожащим от злобы голосом сказала она.
Кокушка мгновенно выскочил из гостиной. Барбасов понял, что лучше всего теперь удалиться, и стал раскланиваться.
XIII. Адвокат
Барбасов медленно прошел огромным двором, вышел в ворота, а затем остановился и несколько мгновений пристально глядел на неподвижных, строгих львов, уже более столетия стороживших вход в старинное барское жилище. По его лицу скользило что-то неуловимое, что-то очень серьезное, совсем не шедшее к постоянному характеру этой самоуверенной и комичной физиономии.
Перед ним мелькнуло и исчезло далекое-далекое воспоминание. Да, это были эти самые львы! Они когда-то поражали его, маленького ребенка, привезенного в Москву старушкой-барыней, которая после смерти его отца, бедного сельского дьякона, взяла его на воспитание и решилась вывести в люди.
«Тогда – и теперь!» – подумал он еще раз, пристально взглянув на львов, и все лицо его засветилось самодовольством. Он тряхнул головою, осмотрелся и пошел по Басманной.
Свободный час, о котором он говорил Владимиру, давно уже прошел, но дело в том, что он все выдумал. Никто его не ждал на Басманной, никуда ему не нужно было спешить. Он взглянул на часы, кликнул проезжего извозчика и отправился в московский Туринский трактир обедать. Он любил хорошо поесть, и до сих пор желудок его, хотя все же не без помощи некоторых вспомогательных средств, позволял ему это.
Войдя в огромную залу, заставленную, как стойлами, рядами диванчиков, придвинутых спинками друг к другу, он начал оглядываться, ища свободного места. Народу уже было много. Мигом подлетел к нему красавец-половой с удивительно черной бородой, в белоснежной русской рубашке, с салфеткой на плече и, приятно осклабляясь, проговорил скороговоркой:
– Алексей Иванович, сюда-с, сюда-с пожалуйте, вот свободно местечко… я и прислуживать вам буду…
Барбасов протиснулся кое-как между диваном и столиком и не успел еще снять перчатки, как половой уже ставил перед ним графинчики с разными водками и закуску.
– Что прикажете-с к обеду?.. У нас нынче рыбка… такая! Утром только получили с Волги, живехонькая!.. Может, уху стерляжью или так стерлядочку а-ля рюс желательно?..
Барбасов подумал немного и стал заказывать себе основательный обед. Половой слушал его с усиленным вниманием и большим почтением, склонив голову, сморщив брови и даже полузакрыв глаза.
– Вот и все! – наконец сказал Барбасов.
Половой встряхнул черными, уже редеющими и в изобилии напомаженными волосами.
– Слушаю-с, будьте покойны, все в самом лучшем виде… Повару ваш вкус известен довольно.
И он исчез.
Барбасов принялся за водку и закуску; но едва он успел налить себе рюмочку прозрачной, как слеза, очищенной, к нему подошел с протянутой рукой черноватый и франтоватый господин.
– Алексею Ивановичу нижайшее почтение! – не без умиленья произнес он, показывая белые зубы и щуря масляные глазки.
– Здравствуйте, Шельман! – отозвался Барбасов несколько покровительственным тоном.
– Что это вас давно не видать, Алексей Иванович?.. В суде то и дело о вас спрашивают…
– А что же мне там торчать по-пустому?
– Да, оно, конечно, – вздохнул Шельман, – после такого дельца, какое вы завершить изволили, можно и поотдохнуть… А вот мы, бедные, с раннего утра мечемся…
– Ну, уж и бедные! – усмехнулся Барбасов. – И уж особенно вы-то!
– Эх, да что я! Много дел, много, да не дела, а делишки. За последние полгода самое выгодное дело было в десять тысяч. Да что об этом… А вот вы, извольте полюбопытствовать…
Он наклонился к самому уху Барбасова и стал шептать ему:
– Видите, направо… это я, вам скажу, птичка… в черной шляпе с алыми розами… Она здесь со мною… обедаем… И вы думаете, кто это? Представьте – клиентка! Эмансипированная особа и со средствами.
– Значит, вы в двойной роли – ну и прекрасно… спешите же к ней, а то я, чего доброго, отобью ее у вас.
– Закреплено формальнейшим образом! – самодовольно ответил Шельман, но тотчас же отошел от Барбасова и вернулся к своей даме.
Барбасов выпил рюмку, закусил, а тут опять:
– Здравствуйте, Алексей Иванович!
К нему то и дело подходили разные господа всякого возраста и вида. Но на этот раз он был не словоохотлив и даже, по-видимому, тяготился такой своей популярностью в этом храме московского кулинарного искусства.
Наконец его оставили в покое, и он с удовольствием принялся за обед под шум толпы, под звуки не смолкавшего оркестриона.
Окончив обед, он почувствовал, что слишком много съел и, главное, слишком много выпил, а потому поспешил на свежий воздух.
На подъезде к нему со всех сторон кинулись извозчики, он махнул рукою, вскочил в первую попавшуюся пролетку и крикнул:
– На Сивцев Вражек!
– Знаем-с, сударь! – ответил франтоватый извозчик-лихач, дернул вожжами, и застоявшаяся молодая лошадка помчала Барбасова по изрытой мостовой мимо Александровского сада.
Барбасов, весь лоснившийся, с покрасневшим носом и несколько осоловевшими глазами, мутно глядевшими из-за золотых очков, усиленно полоскал себе рот дымом сигары, отдувался время от времени и приятно ухмылялся чему-то. В голове у него немного шумело. С детства знакомые улицы с рядами то больших, то маленьких домов как-то сливались и будто бежали назад.
Наконец пролетка остановилась у небольшого хорошенького дома-особняка. Барбасов совсем очнулся, вылез из экипажа, дернул звонок, потом вынул из портфеля пятирублевую бумажку и дал ее извозчику. Тот снял шапку, крикнул:
– Здорово оставаться, сударь! – и отъехал.
Благообразный лакей в белом жилете и галстуке отпер двери. Барбасов сбросил в светлой передней пальто, прошел довольно обширную залу, уставленную новой, с иголочки, мебелью, обитой атласом цвета boulons d‘or, прошел малиновую бархатную гостиную и отворил дверь в свой кабинет.
На большом письменном столе, тоже совсем новом, но уже треснувшем сбоку, он увидел несколько ожидавших его писем. Он распечатал одно из них, пробежал его, до остальных не коснулся и направился в противоположную сторону комнаты, к низенькому турецкому дивану.
Вдруг он остановился и пробурчал:
– Черт знает что!
На диване в грациозной позе лежала и, очевидно, мирно спала молоденькая, хорошенькая и очень нарядная женщина. Он подошел к ней ближе и глядел на нее. Темно-синее платье из легкой шелковой материи красиво обрисовывало ее стройные формы. Немного бледное, немного уставшее, но правильно очерченное лицо эффектно рисовалось на темном фоне подушек дивана.
Он наклонился, прислушался – она действительно спала. Тогда он вернулся к письменному столу, свернул из только что прочитанного письма тоненькую трубочку, подошел тихонько к молодой женщине и стал щекотать ей трубочкой ноздри. Она вздрогнула, открыла совсем еще бессмысленные большие черные глаза, вскочила с дивана и громко зевнула.
– Ах, это ты, Леня! – сказала она, наконец очнувшись. – Бессовестный! Я ждала, ждала – и вот заснула… Который же час? Ведь уже семь… я с голоду умираю… Скорей, скорей, едем куда-нибудь обедать!
– Фью! – присвистнул он. – Обедать?! Я, мать моя, уж отлично пообедал и теперь мне и говорить-то об еде тошно.
Она встревожилась и вспыхнула.
– Обедал?! А я-то как же? Что же это такое?.. Ведь это называется свинство!.. Ведь ты же сам назначил мне в пять часов быть у тебя и весь день мы должны были провести вместе…
– Забыл, совсем забыл, – сказал он, – из головы вон… Ну, прости…
Но она была оскорблена не на шутку.
– А, так вы уж забывать начинаете!.. Вы уж меня голодом морить начинаете! Прощайте!!!
– Остановись и не кипятись! – флегматически сказал он. – У меня от всяких дел голова идет кругом и, главное, ведь я же попросил прощения…
– Да, ведь я голодна, наконец, поймите!..
– Бери мою коляску и отправляйся обедать куда угодно, а затем возвращайся…
– Как? Одна?!
– На сей раз одна, ибо, говорю тебе, мне об еде противно и думать… Ты будешь передо мною есть, а я этого не вынесу.
Он раскрыл свой портфель.
– Вот тебе сто рублей. Довольно? Отправляйся и возвращайся после обеда…
Она приняла сторублевую бумажку, аккуратно сложила ее и спрятала в карман.
– Ну, хорошо, на этот раз прощаю! – проговорила она в то время, как он звонил, чтобы приказать подать экипаж. – Только после обеда я вернусь к себе и чтобы я вас застала уже там! Мы отправимся в Петровский парк, я хочу нынче цыган слушать. Слышите?
– Хорошо, хорошо!.. – рассеянно проговорил Барбасов.
Экипаж оказался уже заложенным, и через минуту молодая женщина надевала шляпку.
– Ну-с, прощайте! Да ты не разоспись, смотри, через полтора часа будь у меня непременно… а я только-только пообедаю… Что ж ты думаешь, одной весело, что ли, обедать? Эх, добра я слишком, не стоишь ты.
– Не стою! – согласился он.
Она подошла к нему и подставила ему щеку. Он, очевидно, нехотя ее чмокнул, а затем, оставшись один в кабинете, упал на диван и принялся зевать. Но спать ему все же не хотелось, небольшой хмель совсем прошел. Он велел подать себе сельтерской воды и, прихлебывая ее, лежал, предаваясь своим мыслям…