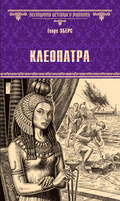Георг Эберс
Дочь фараона
XVI
Подобно тому как за золотой утренней зарей следует дождливый день, радостное ожидание нередко предшествует грустным событиям.
Нитетис так искренно обрадовалась этому письму, а оно должно было отравить сладость ее счастья горечью полыни.
Точно по мановению волшебства, оно уничтожило прекрасную часть ее внутренней жизни – радостное воспоминание о милом отечестве и о тех, которые были участниками беззаботного счастья ее детства.
Пока она сидела, облеченная в пурпурные одежды, и заливалась слезами, она думала только о печали своей матери, о несчастье своего отца и о болезни сестры. Радостная будущность, которая предрекала ей счастье, могущество и любовь, вдруг исчезла из ее глаз. Невеста Камбиса, отличенная им среди всех, забыла об ожидавшем ее возлюбленном; будущая персидская царица не думала ни о чем, кроме несчастий, постигших египетский царствующий дом.
Солнце уже давно возвестило о наступлении полудня, когда служанка Нитетис, Мандана, снова вошла в комнату, чтобы окончательно привести в порядок ее наряд.
«Она спит, – подумала девушка, – можно дать ей отдохнуть четверть часа; церемония жертвоприношения, вероятно, утомила ее, а ей следует явиться на пир в полном сиянии свежести и красоты, чтобы своим блеском затмить всех, как месяц затмевает звезды».
Она удалилась неслышными шагами из комнаты, из окон которой открывался дивный вид на висячие сады, на громадный город, на плодородную вавилонскую долину и на неизмеримую даль.
Не оглядываясь, бросилась она к клумбе с цветами, чтобы нарвать розанов. Ее глаза были устремлены на новый браслет, на котором сверкали лучи полуденного солнца, и она не заметила богато одетого человека, который, вытянув шею, заглядывал в окно той комнаты, где Нитетис обливалась слезами. Застигнутый за своим занятием шпион, как только заметил девушку, воскликнул писклявым голосом, точно принадлежавшим какому-нибудь мальчику:
– Приветствую тебя, прекрасная Мандана!
Девушка перепугалась и, узнав начальника евнухов Богеса, сказала:
– Нехорошо с твоей стороны, господин мой, так пугать бедную девушку! Клянусь Митрой, что я упала бы в обморок, если бы увидала тебя прежде, чем услыхала твой голос. Женские голоса не пугают меня, а мужчина в этом уединении такая же редкость, как лебеди в пустыне!
Богес добродушно улыбнулся, хотя прекрасно понял насмешливый намек на его голос, и отвечал, потирая свои мясистые руки:
– Разумеется, молодой очаровательной птичке невесело томиться в таком уединении; но имей терпение, голубушка моя! Вскоре твоя госпожа сделается царицей и найдет тебе молоденького муженька, с которым ты, вероятно, скорее согласишься жить в уединении, чем с твоей прекрасной египтянкой, не так ли?
– Моя госпожа прекраснее, чем этого желали бы многие, а я никому не поручала приискивать мне мужа, – отвечала она презрительно. – Уж его-то я найду и без тебя.
– Кто станет в этом сомневаться? Такая хорошенькая рожица служит столь же лакомой приманкой для мужчин, как червяк для рыбы.
– Я не ловлю мужчин, а менее всего таких, как ты!
– Охотно, очень охотно верю этому, – смеясь проговорил евнух, – но скажи мне, мое сокровище, отчего ты так сурова со мной? Разве я сделал тебе что-нибудь неприятное? Разве не я доставил тебе твое настоящее прекрасное место? Разве я не соотечественник твой, не мидянин?
– И разве мы оба – не люди? И у нас обоих не по десяти пальцев на руке? И наши носы не сидят посреди лица? Здесь половина населения – мидийцы; если бы все они только потому, что они мои соотечественники, были моими друзьями, то я завтра могла бы сделаться царицей. А место у египтянки доставил мне совсем не ты: я обязана этим местом верховному жрецу Оропасту, рекомендовавшему меня великой Кассандане! Нам здесь, наверху, нет дела до тебя!
– Что это ты говоришь такое, моя милашка! Разве ты не знаешь, что без моего согласия не назначается сюда ни одна прислужница.
– Это я знаю не хуже тебя, но…
– Но вы, женщины, – существа неблагодарные, недостойные нашей доброты!
– Не забывай, что ты говоришь с девушкой из хорошего семейства!
– Знаю, моя овечка! Твой отец был маг, а твоя мать – дочь мага. Оба умерли рано и передали тебя дестуру[70] Иксабату, отцу верховного жреца Оропаста, который вырастил тебя вместе со своими детьми. Когда ты надела серьги, то в твою розовую рожицу влюбился Гаумата, брат Оропаста; нечего тебе краснеть – это очень хорошее имя – и, несмотря на свои девятнадцать лет, хотел жениться на тебе. Гаумата и Мандана! Как хорошо звучат вместе эти два имени! Мандана и Гаумата! Если бы я был певец, то моего героя я назвал бы Гауматой, а его возлюбленную – Манданой!
– Я прошу тебя оставить эти насмешки! – воскликнула девушка, мгновенно вспыхнув и топнув ногой.
– Разве ты недовольна, что я нахожу ваши имена подходящими одно к другому? Сердись скорее на гордого Оропаста, который отправил своего юного брата в Рагэ, а тебя – ко двору, для того чтобы вы забыли друг друга.
– Ты клевещешь на моего благодетеля!
– Пусть отсохнет мой язык, если я говорю не истинную правду. Оропаст разлучил тебя со своим братом, потому что он имеет на красавца Гаумату совершенно иные виды, чем его женитьба на бедной сироте незначительного мага. Амитис или Менише были бы гораздо приятнее ему в качестве невесток; а подобная тебе девушка, всем обязанная его благотворительности, может только оказаться препятствием при осуществлении его планов. Между нами будь сказано, ему хотелось бы управлять государством в качестве наместника во время войны с массагетами и он дорого бы дал, чтобы каким бы то ни было образом вступить в родство с Ахеменидами. В его лета уже не приходится помышлять о новых женах; но у него есть брат, юноша и красавец, и, как говорят, даже похожий на царевича Бартию…
– Это справедливо! – воскликнула Мандана. – Представь себе, когда мы ехали навстречу нашей госпоже и я в первый раз увидела Бартию у окна станционного дома, то я сперва приняла его за Гаумату. Они похожи друг на друга, точно близнецы, и могут назваться самыми красивыми в нашем государстве!
– Как ты покраснела, моя роза! Но сходство не до такой степени обманчиво. Когда я сегодня утром приветствовал брата верховного жреца…
– Гаумата здесь? – прервала евнуха Мандана со страстным увлечением. – Ты действительно видел его или хочешь только выведать что-нибудь у меня и затем обмануть?
– Клянусь Митрой, моя голубка, я сегодня целовал его в лоб и принужден был многое рассказать ему о его возлюбленной; кроме того, я хочу сделать невозможное возможным для него, так как я слишком слаб, чтобы противостоять этим очаровательным голубым глазкам, этой златокудрой головке и этим щечкам, пушистым, как персик. Побереги свой румянец, мой миленький гранатовый цветочек, пока я еще не рассказал тебе всего. На будущее время ты не станешь относиться столь сурово к бедному Богесу и убедишься, что у него доброе сердце, исполненное расположения к Мандане, его маленькой, миленькой, плутоватой соотечественнице.
– Я не верю тебе, – прервала Мандана, – и твоим нежным комплиментам! Меня предупреждали относительно твоего льстивого языка, и я даже не знаю, чем могла заслужить твое участие.
– Узнаешь ли ты это? – спросил евнух, подавая девушке белую ленту с искусно вышитыми на ней золотыми огоньками.
– Последний подарок, который я вышивала для него! – воскликнула Мандана.
– Этот знак я выпросил у Гауматы. Я очень хорошо знал, что ты не будешь питать ко мне доверия. Да и бывали ли примеры, чтобы узник любил своего тюремщика?
– Скорей, скорей говори мне, что требует от меня товарищ моих игр! Смотри, вон уже на западе показывается розовый оттенок в небе. Дело идет к вечеру, и я должна одеть свою госпожу для пиршества.
– Я постараюсь не терять времени, – сказал евнух, внезапно сделавшийся таким серьезным, что Мандана испугалась. – Если ты не желаешь верить, что я из расположения к тебе подвергаю себя опасности, то считай, что я помогаю вашей любви из желания смирить гордость Оропаста, который грозит лишить меня расположения царя. Вопреки всем интригам верховного начальника магов, ты должна сделаться женою твоего Гауматы, и это так же верно, как то, что меня зовут Богесом! Завтра вечером, когда взойдет звезда Тистар[71], тебя посетит твой милый. Я сумею удалить всех сторожей для того, чтобы ему можно было без помехи прийти к тебе и остаться у тебя в течение часа, но помни, – не более одного часа. Твоя госпожа – я знаю это наверное – сделается любимою женою Камбиса. Впоследствии она станет сильно содействовать твоему браку с Гауматой, так как она любит тебя и не находит достойной похвалы, чтобы выразить степень твоей верности и ловкости. Завтра вечером, когда взойдет звезда Тистар, – продолжал он, впадая в прежний, свойственный ему шутливый тон, – воссияет солнце твоего счастья. Ты опускаешь глаза и молчишь? Благодарность смыкает твой маленький ротик? Прошу тебя, голубка моя, не будь такою молчаливою, когда со временем дело дойдет до того, что тебе придется с похвалой упомянуть твоей могущественной госпоже о бедном Богесе. Передать ли мне поклон прекрасному Гаумате? Можно ли мне сказать ему, что ты не забыла его и с радостью ждешь его? Ты колеблешься? О горе, ведь уже начинает темнеть! Мне надобно отправиться взглянуть, все ли женщины одеты, как подобает для великого пира. Еще одно: Гаумата должен послезавтра покинуть Вавилон; Оропаст опасается, как бы он не увиделся с тобою, и приказал ему возвратиться в Рагэ немедленно по окончании праздника. Ты все еще молчишь? Хорошо, в таком случае я не могу помочь ни тебе, ни бедному мальчику. Я и без вас достигну своей цели, а ведь в конце концов будет гораздо лучше, если вы позабудете о своей любви! Прощай!
В душе девушки происходила тяжелая борьба. Предчувствие подсказывало ей, что Богес хочет обмануть ее; внутренний голос нашептывал ей, чтобы она отказалась от свидания со своим возлюбленным; доброе начало и осторожность брали верх в ее сердце, но только она хотела воскликнуть: «Скажи ему, что я не приму его», – как ее взгляд упал на ленточку, которую она когда-то вышила для прекрасного мальчика. Отрадные картины детства, краткие мгновения одуряющих восторгов любви с быстротой молнии промелькнули в ее памяти; любовь, необдуманность, влечение к любимому человеку одержали верх над добродетелью, предчувствиями, осторожностью, и, прежде чем Богес докончил свою прощальную фразу, она бросилась к дому, как спугнутая лань, почти невольно крикнув:
– Я буду ждать его!
Быстрыми шагами шел Богес через цветущие аллеи висячих садов. У парапета высокого здания он остановился и осторожно отворил неприметную дверь. Она вела на потайную лестницу, которую хозяин здания, вероятно, велел сделать для того, чтобы прямо с берегов реки проходить незаметно в жилище своей жены через одну из огромных колонн, поддерживавших сады. Дверь легко вращалась на своих петлях, и после того, как Богес снова затворил ее и разбросал у ее нижнего обреза несколько пригоршней речных раковин, покрывавших аллеи сада, ее трудно было бы разглядеть даже тому, кто стал бы специально отыскивать ее. Евнух, по своей привычке, весело потирал свои унизанные кольцами руки и бормотал про себя:
– Теперь это должно удаться! Девушка попалась в ловушку, ее возлюбленный послушается моего намека, на старую лестницу можно пробраться; Нитетис заливается горькими слезами в этот радостный для всех день, голубая лилия расцветет завтра ночью… да, да, мой маленький план должен удаться! Прекрасная египетская кошечка, твои бархатные лапочки завтра запутаются в силках, которые поставит тебе бедный, презренный евнух, не имеющий права ничего приказывать тебе.
При этих словах злобный огонек сверкнул в глазах надзирателя гарема.
На большой садовой лестнице он встретился с евнухом Нериглиссаром, который жил в висячих садах в должности главного садовника.
– Что поделывает голубая лилия? – спросил он у него.
– Она распускается великолепно! – воскликнул садовник, с восторгом вспоминая о своем любимом детище. – Завтра, как только взойдет звезда Тистар, она, как я уже говорил тебе, будет красоваться во всем великолепии своего цветения! Моя госпожа, египтянка, будет несказанно обрадована, так как она любит цветы, и я прошу тебя сообщить также царю и Ахеменидам, что своими неусыпными трудами я довел это редкое растение до полного расцвета. В течение десяти лет цветок только одну ночь является в полном блеске своей красоты. Сообщи это благородным Ахеменидам и приведи их ко мне.
– Твое желание будет исполнено, – с улыбкой проговорил Богес. – На посещение царя тебе, разумеется, нечего рассчитывать, так как я предполагаю, что он не покажется в висячих садах до бракосочетания с египтянкой; но некоторые из Ахеменидов явятся непременно. Они такие пламенные любители садоводства и цветов, что не захотят лишить себя столь редкого зрелища. Может быть, мне удастся привести сюда и Креза; он не такой знаток цветоводства, как персы, помешанные на цветах, но зато самый усердный ценитель всего приятного для глаз.
– Ты уж только приведи его, – воскликнул садовник, – он будет благодарен тебе, так как моя царица ночи прекраснее всех цветов, когда-либо взращенных в царских садах! Ты ведь видел среди гладкого, как зеркало, бассейна бутон, окруженный венком из зеленых листьев; распустившись, он имеет вид голубой розы громадных размеров. Мой цветок…
Вдохновенный садовод хотел продолжать свой хвалебный гимн, но Богес, любезно раскланявшись, распростился с ним, спустился вниз по лестнице, сел в двухколесную колесницу, ожидавшую его, и приказал ожидавшему погонщику своих коней, увешанных кистями и колокольчиками, везти себя как можно скорей к воротам сада, окружавшего большое здание царского гарема.
Особенного рода суетливая жизнь кипела сегодня в гареме Камбиса. Богес приказал, чтобы все придворные женщины, для большей красоты и свежести, были перед началом пиршества отведены в баню; поэтому начальник женщин немедленно отправился в тот флигель дворца, где находились женские бани.
Уже издали до него доносился смешанный гул голосов, крикливых, смеющихся, болтающих. В огромной зале, нагретой до последней степени, среди густого облака влажного пара, двигалось более трехсот женщин. Точно туманные видения, мелькали полунагие фигуры, стройные формы которых вполне обрисовывались под тонкой шелковой тканью пропитанных влажностью накидок. Все это в пестром беспорядке двигалось по мраморным плитам бани, с потолка которой падали на пол теплые капли, разлетаясь в мелкие брызги.
Тут лежали, весело болтая, группы из десяти или двадцати роскошнотелых женщин, а там две царские жены ругались, точно избалованные дети. Одна красавица, в которую попала туфля, брошенная ее соседкой, громко вскрикнула; другая лежала в тяжелом раздумье, точно труп на горячем сыром полу. Шесть армянок стояли в ряд одна возле другой и звонкими голосами пели задорную любовную песню на своем родном языке, между тем как несколько белокурых персиянок выбивались из сил, возводя на бедную Нитетис такую клевету, что тот, кому пришлось бы подслушать это, несомненно вообразил, что прекрасная египтянка есть нечто вроде тех уродливых чучел, которыми пугают детей.
Среди этой суматохи расхаживали нагие рабыни, разносившие на головах хорошо нагретые покрывала, и набрасывали их на купавшихся. Крики евнухов, которые, охраняя двери залы, принуждали женщин торопиться, визгливые голоса, звавшие рабынь, нескоро являвшихся, и резкие благовония, смешанные с горячим водяным паром, – все это превращало пеструю толкотню в действительно ошеломляющее зрелище.
Спустя четверть часа жены царя представляли вид вполне противоположный описанному выше.
Точно розы, смоченные водой, лежали они, спокойные, но не спящие и охваченные сладкой негой, на мягких подушках, окружавших длинные стены громадной залы. Благовонная влага еще висела в виде капель на их распущенных, не просохших волосах, между тем как проворные рабыни вытирали малейшие следы глубоко проникавшей в поры влаги мягкими мешочками из верблюжьей шерсти.
Прекрасные утомленные тела прикрывались шелковыми одеялами, и толпа евнухов наблюдала за тем, чтобы ни одна особа не нарушала покоя отдыхавшего полчища женщин.
Впрочем, необыкновенная тишина, господствовавшая в этот день среди залы, предназначенной для дремоты и отдохновения, была редким явлением, вызванным никак не присутствием евнухов: было объявлено, что нарушительница мира будет в наказание исключена из числа участниц большого пиршества.
Целый час пролежали женщины в молчаливой полудремоте, когда звук удара в металлическую доску снова преобразил картину.
Отдыхавшие фигуры соскочили со своих подушек, толпа рабынь ворвалась в залу, мази и духи полились на красавиц, роскошные волосы были заплетены и искусно убраны драгоценными каменьями; дорогие уборы, шерстяные и шелковые платья всех цветов радуги, башмаки, твердые от покрывавших их жемчугов и драгоценных камней, надевались на нежные ножки, и богатые золотые пояса обвивались вокруг талий.
Туалеты большинства женщин, которые в общей сложности представляли собой стоимость целого государства, были уже окончены, когда Богес вошел в залу.
Многоголосый визгливый крик радости встретил новоприбывшего. Двадцать женщин, схватившись за руки, стали танцевать вокруг своего улыбающегося надсмотрщика, напевая сочиненную в гареме безыскусную хвалебную песнь его добродетелям. В этот день царь имел обыкновение исполнять какую-нибудь незначительную просьбу каждой из своих жен, поэтому, когда цепь танцующих распалась, толпа просительниц набросилась на Богеса, чтобы, гладя его по лицу и целуя его мясистые руки, шепнуть ему на ухо самые различные требования и упросить, чтобы он их исполнил.
Улыбающийся женский деспот заткнул уши и, шутя и смеясь, отталкивал от себя назойливых просительниц; он обещал мидянке Амитис, что финикиянка Эсфирь будет наказана, а финикиянке Эсфири, что накажут мидянку Амитис; обещал Пармисе более драгоценный убор, чем у Паризатис, а Паризатис – более драгоценный, чем у Пармисы, и, наконец, когда уж был не в силах отбиваться от просительниц, приложил к губам золотой свисток, резкий звук которого магическим образом подействовал на толпу женщин. Поднятые руки мгновенно опустились, топавшие ножки стали спокойными, раскрытые губы сжались, и шум сменила мертвая тишина.
Та, которая не послушалась бы звука этого свистка, равнявшегося по своему значению предупреждению закона или фразе «Именем царя», наверное, подверглась бы строгому наказанию. Теперь этот резкий звук подействовал особенно поразительно. Богес заметил это с самодовольной улыбкой, обвел всю толпу благодушным, выражавшим удовольствие взглядом и в цветистой речи обещал поддержать перед царем просьбы всех своих милых, белых голубок и, наконец, приказал своим подчиненным встать в два длинных ряда.
Женщины послушались и подверглись осмотру, словно солдаты со стороны начальника или рабы со стороны покупателя.
Богес остался доволен нарядом большинства; но некоторым он приказал прибавить лишний слой румян, другим – смягчить слишком здоровый цвет лица белым порошком, выше поднять волосы, посильнее начернить брови или получше накрасить губы.
После осмотра он вышел из залы и отправился к Федиме, которая в качестве первой жены Камбиса, как все его законные жены, жила отдельно от наложниц.
Отвергнутая фаворитка, униженная дочь Ахеменидов, уже давно ожидала евнуха.
Она была одета в высшей степени роскошно и даже чересчур обременена украшениями. С ее маленькой женской шапочки ниспадала густая вуаль из легкой материи, затканной золотом, а вокруг самой шапочки была обвита синяя с голубым повязка, как отличительный знак рода Ахеменидов. Ее нельзя было не назвать красавицей, хотя в ней уже замечалась излишняя полнота форм, которой подвержены все восточные женщины вследствие неподвижной гаремной жизни. Чуть ли не слишком обильные золотисто-белокурые волосы, переплетенные серебряными цепочками и небольшими золотыми монетами, спускались из-под ее шапочки и плотно прилегали к вискам.
Когда Богес вошел в комнату, она с трепетом бросилась ему навстречу, взглянула сначала в зеркало, а потом на евнуха и спросила с величайшим волнением:
– Нравлюсь ли я тебе? Понравлюсь ли я ему?
Богес улыбнулся, как всегда, и отвечал:
– Мне ты нравишься всегда, моя золотая пава, да и царю понравилась бы наверное, если бы ему пришлось увидеть тебя такой, какой вижу я. Когда ты сейчас воскликнула: «Понравлюсь ли я ему», – то ты была действительно хороша: страсть заставила твои голубые очи потемнеть так сильно, что они казались столь же черными, как ночь Анграманью, и ненависть особенным образом раскрыла твои губы и показала мне два ряда зубов, превосходящих своею белизною снега Демавенда!
Видимо польщенная, Федима принудила себя бросить еще один подобный взгляд и воскликнула:
– Отправимся скорее на пир, так как я говорю тебе, Богес, что мои глаза еще сильнее потемнеют, а мои зубы сверкнут еще ослепительнее прежнего, когда я увижу египтянку на том месте, которое должно принадлежать мне!
– Недолго она останется на этом месте!
– Итак, твой план удастся? О, говори, Богес, не скрывай от меня своих дальнейших намерений! Я буду нема, как мертвая, и помогу тебе…
– Я не могу и не должен ничего разглашать, но скажу, для услаждения горечи предстоящего тебе вечера, что все идет отлично, что уже вырыта пропасть, в которую мы хотим низвергнуть ненавистную нам женщину, и что я надеюсь скоро восстановить мою золотую Федиму на ее прежнем месте или даже вознести выше, если она будет слепо повиноваться мне.
– Скажи, что мне делать? Я готова на все.
– Прекрасно сказано, моя храбрая львица! Слушай меня, и тогда все удастся… Если я потребую от тебя чего-нибудь трудного, тем значительнее будет твоя награда. Не противоречь мне, так как нам нельзя терять ни минуты! Сейчас же сними с себя излишнее убранство и надень только ту цепь, которую царь подарил тебе на свадьбу. Вместо этих светлых одежд ты должна надеть темные и совершенно простые. После коленопреклонения перед Кассанданой, матерью царя, ты смиренно поклонишься египтянке.
– Ни за что!
– Без противоречий! Скорее, скорее, сбрасывай с себя все наряды, прошу тебя! Вот так хорошо! Мы можем быть уверены в успехе только в том случае, если ты послушаешься. Шея самой белейшей из пери[72] черна в сравнении с твоей!
– Но…
– Когда настанет твоя очередь просить чего-нибудь у царя, то ты скажешь, что твое сердце перестало желать с тех пор, как твое солнце отвратило от тебя свои лучи.
– Хорошо.
– Когда твой отец спросит тебя – как ты поживаешь, тебе следует заплакать.
– Я буду плакать.
– Ты заплачешь так, чтобы все Ахемениды увидели тебя плачущей.
– Какое унижение!
– Это не унижение, а самое верное средство возвыситься! Поскорее сотри со своих щек яркий румянец и набели их как можно белее.
– Я буду иметь нужду в белой краске, чтобы скрыть румянец, который загорится на моих щеках. Ты требуешь от меня ужасных вещей, Богес, но я послушаюсь тебя, если ты сообщишь мне свой план…
– Служанка! Принеси поскорее новые темно-зеленые одежды твоей госпожи!
– Я буду походить на рабыню.
– Настоящая прелесть бывает привлекательна даже в лохмотьях.
– Как затмит меня египтянка!
– Все должны видеть, что ты далека от мысли соперничать с нею. Все станут задавать себе вопрос: «Не была ли бы Федима так же прекрасна, если бы нарядилась подобно этой высокомерной женщине?»
– Но я не могу склониться перед ней!
– Ты должна это сделать!
– Ты хочешь погубить и унизить меня!
– Близорукая и глупая женщина! Выслушай мои доводы и повинуйся! Мы должны рассчитывать на то, чтобы восстановить Ахеменидов против нашей неприятельницы. Как будет разгневан твой дед Интафернес, в какое бешенство придет твой отец Отанес, когда они увидят тебя во прахе перед иноземкой! Оскорбленная гордость сделает их нашими союзниками; и если они, по их словам, слишком «благородны» для того, чтобы самим предпринять что-нибудь против женщины, то все-таки в том случае, если я буду иметь в них нужду, они скорее станут помогать, нежели противодействовать мне. Когда египтянка будет погублена, то, если ты послушаешься меня, царь вспомнит о твоих бледных щеках, о твоем смирении, о твоем бескорыстии. Ахемениды и даже маги станут просить его, чтобы он сделал царицей знатную женщину из своего рода; а какая женщина из Персии может похвалиться более высоким происхождением, чем ты, и кому другому может достаться пурпур, как не тебе, моей пестрой райской птичке, моей прекрасной розе Федиме? Не следует опасаться падения с лошади, когда желаешь выучиться верховой езде, как не следует и отступать перед унижением, если дело идет о том, чтобы одержать полную победу!
– Я буду слушаться тебя! – воскликнула дочь Ахеменидов.
– Ну, так мы победим! – отвечал евнух. – Теперь твои глаза снова светятся настоящей темной чернотою! Такой я люблю тебя, моя царица, такой должен увидеть тебя Камбис, когда собаки и птицы станут насыщаться нежным мясом египтянки, и я в первый раз после многих месяцев, среди ночной тишины, отопру ему твои комнаты. Эй, Арморгес, прикажи женщинам, чтобы они были готовы и садились в носилки; я отправлюсь вперед, чтобы указать им их места.
Большая зала пиршества была ослепительно освещена тысячами светильников, пламя которых отражалось на золотых полосах, покрывавших стены. Неизмеримо длинный стол стоял посреди залы, представляя сказочно-великолепное зрелище, поражая богатством покрывавшей его посуды – кубков, тарелок, мисок, чаш, ваз для фруктов и курильниц.
– Царь скоро явится! – воскликнул старший стольник, знатный придворный, обращаясь к виночерпию царя, благородному родственнику Камбиса. – Наполнены ли все бокалы и опорожнены ли меха, присланные Поликратом?
– Все готово! – отвечал виночерпий. – Вон то хиосское вино превосходит качеством все, что я пивал до сих пор, и даже затмило сирийский виноградный сок. Попробуй-ка!
С этими словами он одной рукой взял изящный золотой маленький кубок, а другой – ковшик из того же металла, высоко поднял ковшик и стал наливать благородный напиток длинной струей в небольшое отверстие кубка, и так ловко, что ни одна капля не пролилась. Затем он взял сосуд кончиками пальцев и с изящным поклоном передал его стольнику.
Этот последний, медленно и причмокивая языком, вкусил драгоценную влагу и воскликнул, передавая сосуд виночерпию:
– Право, этот благородный напиток оказывается вдвое вкуснее, когда его так мило подают пьющему, как умеешь это делать только ты. Иностранцы правы, удивляясь персидским виночерпиям как искуснейшим в мире.
– Благодарю тебя, – сказал виночерпий, целуя своего друга в лоб, – я горжусь своей должностью, которую великий царь предоставляет только своим друзьям. Но мне, однако, она кажется невыносимо тягостной среди этого раскаленного Вавилона; когда же мы, наконец, отправимся в летние резиденции, в Экбатану или Пасаргадэ?
– Я сегодня говорил об этом с царем. По случаю войны с массагетами он было не хотел никуда переезжать, а прямо из Вавилона отправиться в поход; но если, что весьма вероятно после прибытия сегодняшнего посольства, война не состоится, тогда мы через четыре дня после свадьбы царя, то есть через неделю, отправимся в Сузы.
– В Сузы? – удивился виночерпий. – Но там не многим прохладнее, да и кроме того, ведь старый дворец Мамнона перестраивается.
– Сатрап Суз известил царя, что новый дворец уже готов и превосходит блеском и великолепием все прежние. Едва услыхав это, Камбис воскликнул: «В таком случае мы через три дня после свадебного пира отправимся туда! Я хочу показать египетской царевне, что мы, персы, столь же сведущи в архитектуре, как и ее предки. Она, как жительница берегов Нила, привыкла к знойным дням и будет чувствовать себя хорошо в прекрасных Сузах».
– Кажется, царь сильно привязался к этой красавице.
– Да. Он из-за нее отшатнулся от всех остальных жен и скоро возведет ее в сан царицы.
– Это было бы несправедливо. Федима, как происходящая из рода Ахеменидов, имеет более давние и законные права.
– Это несомненно, но чего желает царь, то и должно быть хорошо.
– Вот это умно сказано. Каждый из нас, истинных персов, должен радоваться, лобызая руку своего владыки, даже если бы она была обагрена кровью наших собственных детей.
– Камбис приказал казнить моего брата, но я не имею против него никакой неприязни, как против божества, лишившего меня моих родителей. Эй, вы, слуги, отдерните занавеси: гости приближаются. Да поворачивайтесь, собаки, и глядите в оба! Будь здоров, Артабазос; нам предстоит жаркая ночь!