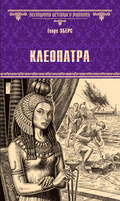Георг Эберс
Дочь фараона
IV
Весть о том, что случилось и что готовится, разнеслась по всему Вавилону прежде, чем солнце достигло полудня. Улицы кишели людьми, которые нетерпеливо хотели видеть редкое зрелище наказания неверной супруги царя. Биченосцы должны были пустить в дело все свои внушительные полномочия, чтобы сдержать напор зевак. Но когда позже распространился слух о предстоящей казни Бартии и его друзей, возбуждение народа, опьяненного пальмовым вином, которое щедро было раздаваемо в день царского рождения и в следующие дни, приняло другой характер. Пьяные, люди толпились на улицах с криком: «Бартия, добрый сын Кира, будет убит!» Женщины, заслышав такие крики, выбегали из уединения, ускользали от стражей, забывали обычные покрывала и спешили на улицу с воплями, следом за разгоряченными мужчинами. Не лишенное радости желание видеть, как смирят гордость неверной царицы, исчезало перед горем предстоявшей казни народного любимца. Мужчины, женщины, дети вопили, кричали, проклинали и возбуждали друг друга к новым, еще более гневным протестам. Все мастерские опустели, купцы заперли свои склады, а школьники и слуги, которым по случаю дня рождения царя обыкновенно давалось восемь свободных дней, воспользовались своей свободой, чтобы на просторе погорланить вдоволь, хотя они сами хорошенько не знали о чем.
Наконец суматоха сделалась так велика, что биченосцы не могли более сохранять спокойствие; явился отряд телохранителей, чтобы очистить улицы. Как только показались блестящие латы и длинные копья, народ отступил и заполонил смежные улицы, но едва солдаты прошли мимо, снова собрался толпами.
Самая большая давка была в так называемых воротах Ваала, к которым выходила улица, обращенная к западу: носился слух, что так как через эти ворота египтянка въезжала в Вавилон, то через них же будет и вывезена с позором. На этом же месте был поставлен и особенно многочисленный отряд биченосцев, обязанность которого состояла в очищении дороги для проходивших в ворота людей. Впрочем, в этот день немногие выходили из города: любопытство оказалось сильнее всяких деловых нужд и желания подышать чистым воздухом; но те, кто прибывал из-за города, почти все оставались у ворот, когда узнавали, какое зрелище предстоит собравшейся там толпе.
Уже солнце стояло высоко на небе, и немного оставалось времени до позорного шествия Нитетис на осле, когда к воротам быстро приблизился дорожный поезд. Впереди ехала так называемая гармамакса на четырех лошадях, потом двухколесная повозка, наконец, повозка с поклажей, запряженная мулами. В первой повозке сидели красивый, видный мужчина лет пятидесяти в персидском придворном наряде и старик в длинной белой одежде; повозку занимало множество невольников в простых рубахах и широкополых поярковых шляпах на коротко остриженных головах. Рядом с последними ехал старик в одежде персидских слуг. Возница первого экипажа с большим трудом пролагал путь через толпу народа для своих лошадей, увешанных кистями и бубенчиками. Перед самыми воротами он был вынужден остановиться и подозвать нескольких биченосцев.
– Очисти нам дорогу! – кричал он начальнику стражи, который со своими людьми подошел к экипажу. – Царская почта не может терять время, а я везу знатного господина, каждая минута промедления которого будет тебе стоить дорого!
– Потише, друг, – возразил начальник стражи. – Видишь сам – сегодня легче выехать из Вавилона, чем въехать в него. Кого ты везешь?
– Знатного господина, который имеет вид на свободный проезд от самого царя. Скорее место нам!
– Гм… поезд-то выглядит не совсем царским!
– Что тебе за дело? Пропускной вид…
– Я должен его посмотреть прежде, чем впущу вас в город! – возразил страж, обращаясь отчасти к путешественникам, которых осматривал внимательно и недоверчиво, отчасти к вознице.
Пока человек, одетый в персидское платье, искал пропускной вид в рукаве своей одежды, биченосец обратился к подошедшему к нему товарищу и сказал, указывая на незначительную свиту путешественника:
– Видал ли ты когда-нибудь такой удивительный поезд? Не называй меня Гивом, если за этими пришельцами не скрывается что-нибудь особенное. Самый обыкновенный расстилатель ковров при дворе царя имеет в путешествии вчетверо большую свиту, чем этот человек, который обладает пропускным видом от самого царя и носит одежду царского сотрапезника.
Заподозренный человек подал стражу шелковый, пропитанный запахом мускуса свиток, на котором виднелись царская печать и несколько букв.
Биченосец взял его и посмотрел на печать. «Печать подлинная», – пробормотал он. Потом он начал разбирать буквы, но лишь только разобрал первые из них, как стал всматриваться в путешественника пристально и, наконец, схватил лошадь за поводья с криком: «Сюда, люди, окружить его: это обманщик!»
Убедившись, что путешественникам ускользнуть невозможно, он опять подошел к чужеземцу и сказал:
– Ты везешь пропускной вид, который не принадлежит тебе. Гигес, сын Креза, за которого ты себя выдаешь, сидит в темнице и сегодня должен быть казнен. Ты на него вовсе не похож и раскаешься в своем самозванстве. Выходи и следуй за мной.
Путешественник и не думал повиноваться этому приказанию, на ломаном персидском языке просил начальника стражи сесть к нему в повозку, так как он имеет сообщить ему нечто важное. Тот с минуту колебался, но, видя, что приближается еще отряд биченосцев, сделал им знак остаться у лошадей, нетерпеливо бьющих копытами, и сел в гармамаксу.
Чужеземец, усмехаясь, посмотрел на начальника стражи и спросил его:
– Похож ли я на обманщика?
– Нет, потому что хотя язык твой болтает неправду, то есть ты вовсе не перс, но все-таки у тебя благородная наружность.
– Я эллин и явился сюда, чтобы оказать Камбису неоценимую услугу. Пропускной вид моего друга Гигеса был одолжен мне им, еще когда он находился в Египте, на случай моего приезда в Персию. Я готов оправдаться перед самим царем и мне страшиться нечего, – а за известия, которые я привез, я могу даже ожидать большой милости. Вели отвести меня немедленно к Крезу, если того требует твоя обязанность. Он поручится за меня и отошлет к тебе обратно твоих людей, в которых ты сегодня, по-видимому, нуждаешься. Раздай им это золото да расскажи мне, в чем провинился мой бедный друг Гигес и вообще что означают эти вопли и суматоха?
Чужеземец говорил хоть и на плохом персидском языке, но с внушающим уважение достоинством и самоуверенностью, притом и подарок его был так щедр, что слуга деспотов, привыкший к унижению, почувствовал себя сидящим в присутствии владетельного лица, почтительно скрестил руки и, оправдываясь своими многочисленными занятиями, начал рассказывать вкратце. В прошлую ночь он стоял на страже в большой зале и потому мог сообщить чужеземцу о происшедшем с достаточной точностью. Грек с большим вниманием слушал рассказчика и часто с сомнением покачивал своей красивой головой, особенно когда речь шла о вероломстве дочери Амазиса и сына Кира. Смертные приговоры, особенно приговор Крезу, казалось, глубоко поразили его; но скоро сострадание исчезло с живого лица грека, уступив место глубокой задумчивости, а вслед за тем – радости, которая показала, что ему пришла в голову хорошая мысль. Суровое достоинство сразу слетело от чужеземца. Весело смеясь и потирая правой рукой высокий лоб, левой он взял руку удивленного перса, пожал ее и спросил:
– А ты будешь рад, если Бартия спасется?
– Невыразимо!
– Хорошо, так я тебе ручаюсь, что ты получишь, по крайней мере, два таланта, если доставишь мне возможность переговорить с царем прежде, чем будет исполнен первый из смертных приговоров.
– Но как могу я, ничтожный человек…
– Ты должен, ты должен!
– Я не могу!..
– Знаю, что чужеземцу трудно, почти невозможно добиться разговора с вашим повелителем; но мое посольство не терпит ни малейшей отсрочки, так как я в состоянии доказать невинность Бартии и его друзей. Слышишь ли, я могу это сделать! Понимаешь ли теперь, что ты должен доставить меня к царю?…
– Но как это сделать?
– Не спрашивай, а действуй! Ты ведь сказал, что и Дарий в числе осужденных?
– Да.
– Я слышал, что отец его – человек высокопоставленный.
– Он первый в царстве после детей Кира.
– Веди меня сейчас же к нему. Он примет меня дружески, когда узнает, что я могу спасти его сына.
– Диковинный чужеземец, в твоих словах столько самоуверенности, что я…
– Что ты склонен мне верить? Скорее доставь нам людей, которые раздвинули бы толпу и проводили нас во дворец.
Кроме сомнения, ничто другое так быстро не сообщается, как надежда на выполнение заветного желания, особенно если эту надежду подают нам с неподдельной уверенностью.
Начальник стражи поверил странному путешественнику, он выскочил, размахивая бичом, из повозки и крикнул своим подчиненным: «Этот благородный господин прибыл для того, чтобы доказать невинность Бартии; его должно сейчас же отвести к царю. Следуйте за мною, друзья, и очищайте ему дорогу!»
В эту минуту показался отряд конных телохранителей. Сотник поспешил навстречу их начальнику и, при одобрительных криках толпы, просил проводить чужеземца во дворец.
Между тем путешественник вскочил на лошадь своего слуги и последовал за персами, которые расчищали ему путь.
Быстрее ветра облетела громадный город исполненная надежды новость. Чем дальше продвигались всадники, тем охотнее раздвигались толпы народа, тем откровеннее выражалась радость толпы, тем более поездка чужеземца становилась похожей на триумфальное шествие.
Через несколько минут всадники очутились у ворот дворца. Еще не открылись перед ними медные ворота, как показался второй поезд, во главе которого медленно ехал седой Гистасп, в черной, разодранной траурной одежде, на коне, выкрашенном голубой краской, с остриженными гривой и хвостом. Он явился умолять царя о помиловании сына.
Начальник биченосцев чрезвычайно обрадовался, заметив благородного старца; он бросился на колени перед его лошадью и, сложив руки, сообщил Гистаспу, какую надежду вселил в них чужеземец.
Гистасп сделал знак путешественнику, который, оставаясь на лошади, грациозно ему поклонился и подтвердил ему слова биченосца. С этого времени он обрел дополнительную уверенность, просил чужеземца следовать за ним, привел грека во дворец, велел старшему жезлоносцу провести себя, Гистаспа, к царю, а греку приказал подождать у двери царского покоя.
Бледный как смерть лежал Камбис на своем пурпурном диване, когда его престарелый родственник вошел в комнату. У ног царя стоял на коленях виночерпий, который старался подобрать черепки драгоценного египетского стеклянного сосуда, нетерпеливо брошенного царем к ногам потому, что ему не понравился содержавшийся там напиток. Многочисленные придворные в почтительном отдалении окружали раздраженного повелителя. На лице каждого из них было написано, что он боится гнева властелина и старается держаться от него сколько можно дальше. Глубокая тишина наполняла обширную комнату, через открытое окно которой врывались ослепительный свет и удушливый зной вавилонского летнего дня. Большая собака хорошей эпирской породы была единственным существом, которое осмеливалось прерывать глубокое молчание своим повизгиванием. Камбис сильным ударом ноги оттолкнул ласкавшееся животное. Прежде чем жезлоносец ввел Гистаспа, царь вскочил с места. Он не мог более выносить ленивый покой; скорбь и гнев душили его. Визг собаки вновь возбудил быстроту мысли в его измученном, алчущем покоя мозгу.
– На охоту! – вскричал он устрашенным царедворцам. Ловчие, конюшие и главный надзиратель псарни поспешили повиноваться приказанию повелителя. Последний крикнул им:
– Я хочу ехать на невыезженном жеребце Рекше. Приготовьте соколов, спустите всех собак, зовите каждого, кто умеет владеть копьем! Мы поочистим заповедник!
Тут Камбис снова лег на диван, как будто эта вспышка совершенно истощила его могучее тело. Он не заметил вошедшего Гистаспа: мрачный взор властелина беспрерывно следил за пылинками, которые неслись в лучах света, проникавшего через окно.
Отец Дария не смел говорить с раздраженным царем, но встал к окну, посреди летавших пылинок, и таким образом обратил на себя внимание повелителя.
Камбис взглянул на Гистаспа и на его разодранные одежды сначала с неудовольствием, потом с горькой усмешкой и спросил:
– Что тебе нужно?
– Победа царю! Твой бедный слуга и дядя пришел воззвать к милосердию своего властелина!
– Встань и уходи! Ты знаешь, что для клятвопреступников и лжесвидетелей у меня нет милосердия. Лучше мертвый, чем такой бесчестный сын!
– Но если бы Бартия оказался невинным, то и Дарий…
– Ты осмеливаешься возражать против моего приговора?
– Далеко от моих мыслей поступать так. Все, что ни делает царь, хорошо и не терпит противоречия, однако…
– Молчи! Не хочу, чтобы снова касались этих мрачных злодеяний. Ты достоин сожаления, как отец; но и мне последние часы не принесли радости; жалею тебя, старик; но наказание твоего сына точно так же не могу отменить, как ты не можешь сделать его преступление несовершившимся.
– Но если бы Бартия все-таки оказался невиновным, если боги…
– Не думаешь ли ты, что небожители покровительствуют обманщикам и клятвопреступникам?
– Нет, государь! Но явился новый свидетель, который…
– Новый свидетель? Право, я охотно отдал бы полцарства, если бы мог убедиться в невинности многих людей, столь близких моему дому!
– Победа моему владыке, оку государства! У дворца ждет один эллин, который, судя по его виду и осанке, принадлежит к числу знатнейших лиц своего племени. Он утверждает, что может доказать невинность Бартии.
Царь горько усмехнулся и вскричал:
– Эллин! Быть может, родственник той красавицы, которой Бартия выказал такую верность? Что может знать чужеземец о событиях в моем доме? Но мне хорошо известны эти ионийские бродяги! Они смело и бесстыдно вмешиваются повсюду и думают нас одурачить своими хитростями и коварством. Сколько ты заплатил новому свидетелю, дядя? У греков ложь так же легко сходит с языка, как у магов слова благословения; я хорошо знаю, что за деньги они способны на все. Любопытно мне видеть твоего свидетеля! Позови-ка его! Но если он намерен мне лгать, то пусть лучше остается там, где он теперь, и не забывает, что, где падает голова сына Кира, там мало будет тысячи греческих голов.
При этих словах глаза царя гневно сверкнули; Гистасп велел позвать эллина.
Не успел последний вступить в залу, как царские жезлоносцы перевязали ему рот платком и велели пасть ниц перед царем. С благородным видом подошел грек к царю, устремившему на него проницательный взор, и, согласно персидскому обычаю, распростерся перед ним, целуя землю.
Приятный вид и красивая осанка чужеземца, который спокойно и скромно выносил взгляды царя, по-видимому, понравились Камбису: он не дал ему долго лежать на земле и спросил без всякой неприязни:
– Кто ты?
– Я благородный эллин. Мое имя Фанес, моя родина – Афины. Десять лет без славы служил я начальником греческих наемников Амазиса.
– Не ты ли тот человек, искусному предводительству которого египтяне обязаны победой над киприотами?
– Я самый.
– Что привело тебя в Персию?
– Блеск твоего имени, Камбис, и желание посвятить твоей службе мой меч и мои знания.
– Только это? Будь правдив и помни, что малейшая ложь может стоить тебе жизни. У нас, персов, другие понятия о справедливости, чем у вас, эллинов.
– Мне ложь столько же отвратительна уже потому, что она мне кажется безобразной, как искажение и извращение естественного, то есть истины.
– Итак, говори!
– Правда, меня привело в Персию еще нечто третье, о чем тебе я сообщу позже. Это третье касается предмета чрезвычайной важности, для обсуждения которого нужно много времени; теперь же…
– Сегодня-то именно я и хочу слышать что-нибудь новое. Сопровождай меня на охоту! Ты явился кстати: никогда развлечение не было мне так необходимо, как теперь.
– Я охотно буду тебя сопровождать, если ты…
– Царю условий не ставят. Ты ловок на охоте?
– Я убил не одного льва в ливийских пустынях.
– Так следуй за мной!
В мыслях об охоте царь, казалось, стряхнул свое изнеможение и хотел уже оставить залу, как Гистасп снова бросился к его ногам и, подняв руки, воскликнул:
– Неужели мой сын и твой брат умрут невинно? Заклинаю тебя душой твоего отца, который называл меня своим вернейшим другом, выслушать этого благородного чужеземца.
Камбис остановился. Его лоб опять нахмурился, голос зазвучал угрозой, а глаза блеснули молнией; протягивая руку к греку, он вскричал:
– Говори, что известно тебе, но знай, что с каждым несправедливым словом ты произносишь собственный смертный приговор!
Фанес спокойно выслушал его и, с достоинством поклонившись, сказал:
– От солнца и от царя ничто не может скрыться. Как мог бы бедный смертный утаить правду от столь могущественного властителя? Благородный Гистасп говорит, что я могу доказать невинность твоего брата; но я могу только надеяться и желать, чтобы мне удалось столь великое и правое дело. Во всяком случае, боги доставили мне такую нить, которая может повести к новому взгляду на вчерашние события. Суди сам, слишком ли смелы мои надежды, слишком ли опрометчивы подозрения; помни только, что мое желание служить тебе искренно, моя ошибка, если я ошибаюсь, простительна; помни, что на свете нет ничего верного и каждый обыкновенно называет безошибочным даже то, что считает только правдоподобным.
– Ты говоришь красиво и своими словами напоминаешь мне о… Проклятый! Говори – да короче! На дворе уже лают собаки!
– Я находился еще в Египте, когда туда прибыло твое посольство, чтобы везти Нитетис в Персию. В доме моей прекрасной, знаменитой соотечественницы и подруги, Родопис, познакомился я с Крезом и его сыном, но твоего брата и его друзей видел только мимоходом. Несмотря на это я хорошо запомнил красивое лицо царственного юноши; когда впоследствии я посетил мастерскую великого ваятеля Феодора в Самосе, то тотчас же узнал его черты.
– Ты встречался с ним в Самосе?
– Нет! Феодору заказана была Алкмеонидами для нового дельфийского храма голова бога солнца, и он украсил ее лицом твоего брата, которое твердо удержалось в его памяти.
– Твой рассказ начинается не очень правдоподобно. Возможно ли так верно изобразить лицо, которого не имеешь перед собой?
– Феодор выполнил это образцовое произведение и, если ты одобришь его искусство, охотно сделает и для тебя второе изображение твоего брата.
– Я не желаю этого. Рассказывай дальше!
– На пути сюда, совершенном мной благодаря превосходным порядкам, заведенным при твоем отце, в невероятно короткое время, меняя лошадей на каждой четвертой миле…
– Кто позволил тебе, чужеземцу, пользоваться почтовыми лошадьми?
– Выданный на имя сына Креза пропускной вид, который случайно достался мне в распоряжение, когда Гигес, чтобы спасти мне жизнь, заставил обменяться с собой одеждами.
– Лидиец обманет лисицу, сириец – лидийца, а иониец – их обоих, – пробормотал царь и в первый раз усмехнулся: – Крез рассказывал мне эту историю. Бедный Крез! – При этих словах лицо Камбиса омрачилось, а рука попыталась расправить складки на лбу; афинянин же рассказывал далее:
– Я сначала беспрепятственно продолжал свое путешествие; но сегодня утром, в первом часу пополуночи, был задержан странным происшествием.
Царь слушал все внимательнее и торопил афинянина, который с трудом объяснялся по-персидски.
– Мы находились, – продолжал тот, – между последней и предпоследней станциями перед Вавилоном и надеялись при восходе солнца достигнуть города. Я думал о своем бурном прошлом, о неотомщенных преступлениях и не находил сна, между тем как старик-египтянин, который ехал со мной, мирно спал, убаюканный однообразным звоном бубенчиков на конской упряжи, однообразным стуком лошадиных подков и шумом волн Евфрата. Ночь была изумительно прекрасная и тихая. Лучи месяца падали на дорогу и, соединяясь с блеском звезд, освещали дремлющую окрестность почти дневным светом. Ни повозки, ни пешехода, ни всадника не встречалось нам уже с час времени; все население окрестностей Вавилона, как нам сказали, находилось в городе, на празднестве дня твоего рождения, чтобы посмотреть на великолепие царского двора и воспользоваться твоей щедростью. Наконец, моих ушей достигло неравномерное постукивание копыт и звон колокольчиков, а спустя несколько минут явственно послышались крики о помощи. Я быстро велел сойти с лошади сопровождавшему меня слуге-персу, вскочил в его седло, приказал вознице, который правил повозкой с моими невольниками, не щадить лошаков, выхватил саблю и меч, дал лошади шпоры и помчался туда, откуда слышались крики о помощи. Не больше как через минуту я сделался свидетелем ужасного зрелища. Трое людей дикого вида сбили с лошади юношу в белой одежде мага, оглушили его ударами и готовы были бросить свою жертву в Евфрат, который в этом месте омывает корни пальмовых и фиговых деревьев, окаймляющих дорогу. Я испустил свой эллинский боевой клич, который заставлял трепетать уже многих врагов, и решительно бросился на убийц, которые – трусы, как все подобные люди, – обратились в бегство, лишь только увидели одного из своих товарищей с раскроенным черепом! Я не преследовал негодяев и наклонился над тяжело раненным юношей. Кто опишет мой ужас, когда в нем узнал я твоего брата Бартию! Да, я видел то самое лицо, которое видел в Наукратисе и в мастерской Феодора…
– Удивительно! – прервал рассказчика Гистасп.
– Может быть, даже слишком удивительно, чтобы быть правдоподобным, – прибавил Камбис, – остерегись, эллин, и не забывай, что моя рука достает далеко! Я расследую, справедлив ли твой рассказ!
– Я привык, – возразил афинянин, низко кланяясь, – следовать учению мудрого Пифагора, слава которого, может быть, достигла и тебя: всегда, прежде чем начинаю говорить, я спрашиваю себя, не придется ли мне впоследствии раскаиваться в своих словах?
– Это звучит прекрасно и исполнено мудрости, но, клянусь Митрой, я знал существо, у которого часто было на языке имя этого самого учителя и которое в своих действиях оказалось верной последовательницей Анграманью. Ты знаешь изменницу, которая сегодня будет стерта с лица земли, как ядовитая гадина?
– Простишь ли ты меня, – спросил Фанес, заметивший глубокую скорбь, выразившуюся в чертах царя, – если я скажу тебе другое изречение нашего великого учителя?
– Говори!
– Всякое добро можно утратить так же скоро, как приобрести его; поэтому, если боги посылают тебе горе, то переноси его с терпением. Не ропщи, а обдумай, что никому боги не посылают бремени, превышающего его силы. Если у тебя есть душевная рана, то касайся ее так же редко, как ты прикасаешься к страждущему глазу. Против душевных страданий есть только два лекарства: «Надежда и терпение!»
Камбис вслушивался в слова, заимствованные из золотых изречений Пифагора, и горько улыбнулся, услыхав слово «терпение». Но речь афинянина понравилась ему, и он просил его рассказывать дальше.
– Мы отнесли, – продолжал Фанес с низким поклоном, – бесчувственного юношу в мою колесницу и отвезли его в ближайший станционный дом. Хозяин этого станционного дома стоял около нас; поэтому, чтобы не выказать поддельность своего вида, по которому я должен был получить новых лошадей, и не возбудить в этом человеке подозрения, я оказался вынужденным выдать себя за Гигеса, сына Креза. Раненый, по-видимому, знал того, за кого я желал быть принятым, так как, услыхав мои слова, покачал головой и прошептал: «Ты не тот, за которого выдаешь себя». Затем он снова закрыл глаза и впал в жестокую лихорадку. Тогда мы раздели его, пустили ему кровь и перевязали его раны. Мой слуга, перс, видевший Бартию при дворе Амазиса, где он служил надсмотрщиком над конюшнями, при содействии старика-перса оказал юноше большую помощь и непрестанно повторял, что раненый есть не кто иной, как твой высокорожденный брат. Также и хозяин станционного дома поклялся, когда мы смыли кровь с лица юноши, что подвергшийся нападению – младший сын твоего великого отца. Между тем мой египетский провожатый вышел, и из дорожной аптеки, без которой египтяне редко покидают родину, достал питье и подал его больному. Капли подействовали так удивительно, что воспламененная кровь больного успокоилась через несколько часов, и юноша, на закате солнца, открыл глаза. Тогда мы все собрались вокруг него и стали спрашивать, не желает ли он быть перенесенным в вавилонский дворец. Он раздраженно отверг это и уверял, что он не тот, за которого мы принимали его, а…
– Кто может быть до такой степени похож на Бартию? Говори! Мне весьма любопытно узнать это! – прервал царь рассказчика.
– Он утверждал, что он брат твоего верховного жреца, что его зовут Гаумата и что его имя можно найти на открытом листе, спрятанном в рукаве его жреческой одежды. Хозяин дома нашел упомянутый документ и, будучи грамотным, подтвердил показание больного, которым снова овладел припадок лихорадки и который во время этого припадка говорил бессвязные речи.
– Понял ты их?
– Да, он повторял все одно и то же. Казалось, все его мысли были заняты висячими садами. Должно быть, он только что избегнул какой-нибудь великой опасности и имел там любовное свидание с женщиной по имени Мандана.
– Мандана, – пробормотал Камбис, – Мандана!.. Если я не ошибаюсь, так зовут первую служанку дочери Амазиса.
Эти слова не ускользнули от тонкого уха грека. На один момент он впал в безмолвную думу, затем улыбнулся и вскричал:
– Освободи заключенных друзей, царь; ручаюсь тебе моей головой в том, что Бартия не был в висячих садах!
Царь посмотрел на смелого собеседника с удивлением, но ласково. Свободная, непринужденная, приятная манера, с которой держал себя по отношению к нему этот афинянин, была для него новостью и действовала на него подобно свежему дыханию морского воздуха, обвевающего лоб человека в первый раз. Между тем как его вельможи и даже ближайшие родственники осмеливались говорить с ним не иначе как согнув спину, грек стоял перед ним прямо и стройно; между тем как персы каждое слово, обращаемое ими к своему владетелю, приправляли цветистыми фразами и льстивыми оборотами речи, афинянин говорил просто и без прикрас. При этом он сопровождал свою речь такими грациозными движениями и выразительными взглядами, что, несмотря на недостаточное владение персидским языком, царь понимал речь грека лучше, чем большую часть украшенных сравнениями докладов своих подданных. Только в отношении Нитетис и этого иностранца он мог забыть, что он царь. Здесь стоял человек перед человеком, здесь гордый самодержец забыл, что он говорит с существом, жизнь или смерть которого зависит от его каприза. Так могущественно действуют даже на сурового деспота достоинство человека, самосознание личности, чувствующей свое право на свободу и свое превосходство в образованности. Но было еще нечто другое, что так быстро возбудило в Камбисе симпатию к афинянину. Этот человек, по-видимому, явился для того, чтобы возвратить ему драгоценнейшее сокровище, которое он считал потерянным и даже более чем потерянным. Но могла ли жизнь этого чужеземного искателя приключений служить залогом за жизни сыновей первейших персов? Однако же предложение Фанеса вовсе не разгневало царя. Он только улыбнулся смелости эллина, освободившегося, в своем увлечении, от платка, закрывавшего его рот и бороду, и вскричал:
– Клянусь Митрой! Мне сдается, что ты желаешь принести нам добро, эллин! Я принимаю твое предложение. Если заключенные окажутся, несмотря на твое уверение, виновными, то ты обязан будешь всю свою жизнь оставаться при нашем дворе в качестве моего слуги; если же ты в самом деле сумеешь доказать то, чего жаждет мое сердце, то я сделаю тебя богатейшим из твоих соотечественников.
Фанес уклончиво улыбнулся и спросил:
– Позволишь ли ты мне задать тебе и твоим царедворцам несколько вопросов?
– Говори и спрашивай, как и что хочешь!
В эту минуту в залу вошел главный ловчий и возвестил, что все готово для охоты.
– Подождать! – приказал царь своим сотрапезникам, выбившимся из сил в своем усердии, с которым они старались ускорить все приготовления. – Я не знаю даже, будем ли мы охотиться сегодня. Где сотник биченосцев, Бишен?
Датис, так называемый глаз царя, то есть в переводе на современный язык министр полиции, быстро вышел из комнаты и явился с требуемым лицом через несколько минут, которые Фанес употребил на то, чтобы расспросить присутствовавших вельмож о разных важных для него подробностях.
– Что делают узники? – спросил Камбис лежавшего у его ног сотника биченосцев.
– Победа царю! Они ждут смерти спокойно, так как сладко умереть по твоей воле.
– Слыхал ли ты их разговоры?
– Да, мой повелитель.
– Признаются ли они друг другу в своей виновности?
– Один Митра умеет заглядывать в сердце, но ты, мой государь, так же как я, твой жалчайший раб, поверил бы в невинность этих осужденных, если бы слышал их разговоры.
Сотник биченосцев боязливо смотрел на царя, так как опасался, что эти слова возбудят его гнев, но Камбис ласково улыбнулся вместо того, чтобы разгневаться. Вдруг тревожная мысль омрачила его лицо, и он едва внятно спросил:
– Когда казнен Крез?
Сотник задрожал при этих словах: холодный пот выступил у него на лбу и его губы едва могли пробормотать слова:
– Он… он был… мы думали…
– Что вы думали? – прервал его Камбис, в душе которого мелькнула новая надежда. – Разве вы не исполнили тотчас же моего приказания? Неужели Крез еще жив? Говори, рассказывай, я хочу знать полную правду!
Сотник извивался как червь у ног своего повелителя и, наконец, простирая к нему руки с мольбой, пробормотал:
– Пощади, пощади, властитель! Я бедный человек и имею тридцать детей, из которых пятнадцать…
– Я хочу знать, жив он или нет!
– Он жив! Я думал, что не сделаю ничего дурного, если позволю ему, которому я обязан всем, пожить одним часом более, чтобы он…
– Довольно! – вскричал царь с глубоким вздохом облегчения. – На этот раз твое непослушание останется не наказанным, и так как ты имеешь много детей, то казначей наш выдаст тебе два таланта. Отправляйся теперь к узникам, призови Креза сюда и скажи другим, что если они невиновны, то пусть будут спокойны.
– Ты, государь, – светило мира и океан милосердия!
– Бартия и его друзья более не должны сидеть в уздилище! Пусть они, под вашей охраной, походят по дворцовому двору; ты, Даис, отправляйся немедленно в висячие сады и прикажи Богесу отложить исполнение казни над египтянкой. Затем послать в станционный дом, указанный афинянином, и привезти сюда находящегося там раненого, под достаточной охраной.