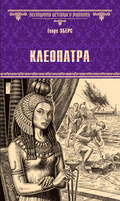Георг Эберс
Дочь фараона
XI
За три дня до назначенного отъезда Нитетис у Родопис собралось много гостей, между которыми находились Крез и Гигес, приглашенные в Наукратис.
Влюбленные, под покровом ночи и охраной рабыни, должны были встретиться в саду во время вечернего пира. Когда Мелита убедилась, что застольный разговор находится в полном разгаре, она отперла калитку, впустила царевича в сад и провела его к девушке. Затем она удалилась, обещая предупреждать влюбленную чету хлопаньем в ладоши о каждом непрошеном подслушивателе.
– Только три дня осталось мне видеть тебя рядом, – прошептала Сапфо. – Знаешь ли, иногда мне кажется, что я тебя увидала вчера в первый раз; обыкновенно же я чувствую, точно я целую вечность слушаю тебя и люблю тебя с самого начала моей жизни.
– Мне тоже кажется, что я целую жизнь свою обладал тобой, так как не могу представить себе, что я жил когда-нибудь без тебя.
– Только бы кончилось поскорее время разлуки! – воскликнула Сапфо.
– Верь мне, оно пройдет скорее, чем ты думаешь. Разумеется, ожидание покажется нам долгим, очень долгим; но когда мы встретимся снова, я думаю, нам будет казаться, что мы только что попрощались. Я испытываю это чувство каждый день. С каким нетерпением ждал я утра и свидания с тобою; но когда утро наступало и ты сидела возле меня, то мне казалось, что я не отпускал тебя от себя и твоя рука еще со вчерашнего дня покоится на моей голове. И, однако же, мною овладевает какое-то неведомое прежде опасение, когда я подумаю о часе разлуки.
– Я не так боюсь его. Конечно, мое сердце обольется кровью, когда ты скажешь мне «прости», но я знаю, что ты ко мне возвратишься и не забудешь меня. Мелита спрашивала оракула, останешься ли ты мне верным; она хотела также идти к одной старухе, только что прибывшей из Фригии и умеющей ворожить посредством вытягивания ниток ночью; при этом она, для очищения, употребляет ладан, стираксу, лунообразные печенья и листья дикого терновника; но я отказалась от всего этого, так как мое сердце лучше, чем пифия, веревки и жертвенный дым, знает, что ты останешься мне верен и не перестанешь любить меня.
– И твоя уверенность не обманывает тебя!
– Но я все-таки не была избавлена от страха. Подобно другим девушкам, я сто раз дула на маковый лист и ударяла по нему; когда он щелкал, я радовалась, так как это значило: «он не забудет тебя!» Когда же листок разрывался без всякого шума, то я беспокоилась. Но он почти всегда производил желаемый звук, и я гораздо чаще радовалась, чем печалилась.
– И так должно остаться!
– Да! Но говори потише, мой милый, чтобы нас не заметил Кнакиас, который вон там идет за водою к Нилу.
– Хорошо, я буду говорить тихо. Вот так! Я откидываю твои шелковистые волосы и шепчу тебе на ушко: «Я люблю тебя!» Ты поняла?
– Мы легко понимаем то, что нам приятно слышать, как говорит моя бабушка. Но если бы ты даже сказал мне на ухо: «Я ненавижу тебя!» – твой взгляд сказал бы мне тысячью радостных голосов, что ты меня любишь. Безмолвные губы, глаза красноречивее всех голосов на свете.
– Если бы я умел говорить, как ты, на прекрасном языке эллинов, то я бы…
– О, я радуюсь, что ты не говоришь лучше. Если бы ты мне мог сказать все, что чувствуешь, то, я думаю, ты не смотрел бы так нежно мне в глаза. Что значат слова? Слышишь ли вон там пение соловья? Он лишен дара слова, и, однако же, мне кажется, что я понимаю его.
– Не скажешь ли ты мне по секрету – что он поет? Мне очень хотелось бы знать, о чем «бюль-бюль», как называем соловья мы, персы, толкует там в розовых кустах со своей возлюбленной. Можешь ли ты выдать тайну птички?
– Я скажу тебе об этом потихоньку. Филомела поет своему супругу: «Я люблю тебя!» А послушай-ка, что отвечает он: «Итис, ито, итис».
– А что значит: «Ито, ито»?
– Я принимаю это, я принимаю это!
– А что значит «итис»?
– Чтобы понять это как следует, приходится обратиться к фигуральному толкованию. «Итис» – значит «круг»; меня учили, что круг – значит вечность, потому что он не имеет ни начала, ни конца. Поэтому соловей поет: «Я принимаю это на целую вечность!»
– А если я скажу: я люблю тебя?
– Я отвечу тебе радостно, как певица ночи: я принимаю это на сегодня, на завтра, на целую вечность!
– Какая ночь, как все молчит и покоится! Я даже не слышу более соловья. Он теперь сидит там, в ветвях акации, цветы которой разливают такой приятный аромат. Вершины пальм отражаются в Ниле, а между ними мерцает отражение луны, подобное белому лебедю.
– И ее лучи опутывают серебряными нитями все живущее. Поэтому целый мир, подобно узнику, лежит в глубоком молчании и не шевелится. При всем моем радостном настроении, я теперь не могла бы смеяться, а тем более говорить громко.
– Так шепчи или пой!
– Ты прав. Дай мою арфу. Благодарю тебя. Позволь мне склонить голову на твою грудь и пропеть тебе тихую, мирную песенку. Ее сочинил в честь тихой ночи Алкман, лидиец, живший в Спарте. Слушай же меня, так как эта нежная, убаюкивающая песня должна выходить из уст тихим веянием. Не целуй меня, нет, прошу тебя, не целуй, пока я не кончу; а потом я сама потребую от тебя поцелуя в награду:
Спят высоких гор вершины,
Спят ущелья в темной мгле,
Волны дремлющей пучины
И червяк в сырой земле.
В дебри зверь зайдя глухие,
Грезит в чутком полусне,
И чудовища морские
Спят в соленой глубине,
Листьев шепот, пчел жужжанье
Стихли; спит глубоким сном
Птичка, резвое созданье,
В теплом гнездышке своем.
– Теперь, милый мой, – поцелуй!
– Я ради песни забыл о поцелуе, как прежде ради поцелуя забыл о песне.
– А ведь моя песенка прекрасна?
– Прекрасна, как все, что ты поешь.
– И что сочиняют великие эллинские певцы?
– Я отдаю тебе справедливость и в этом.
– А у вас в Персии нет певцов?
– Как можешь ты задавать такой вопрос? Разве какой-либо народ может похвалиться благородными чувствами, если он презирает песню?
– Но вы имеете такие дурные нравы.
– Именно?
– Вы берете так много жен в супружество!
– Милая Сапфо…
– Пойми меня как нужно. Видишь ли, ты мне так дорог, что я не желаю ничего другого, как только видеть тебя счастливым и разделять с тобою все твое существование. Если ты, взяв только меня одну себе в жены, совершишь этим проступок против нравов твоей родины, если тебя станут за твою верность презирать или только порицать (так как кто смеет презирать моего Бартию?), то бери себе и других жен; но прежде только два, три года позволь мне совершенно одной обладать тобою нераздельно. Согласен ли ты на это, Бартия?
– Согласен.
– А затем, когда время мое пройдет и ты принужден будешь покориться обычаям твоей страны, – так как ты не женишься ни на ком другом по любви, – то позволь мне быть твоею первою рабою. О, как я великолепно представляю себе это! Когда ты отправляешься на войну – я надеваю шлем на твои кудри, опоясываю тебя мечом, даю тебе копье в руки. Когда ты возвращаешься победителем – я первая увенчиваю тебя. Едешь ты на охоту – я наряжаю и умащиваю тебя, и обвиваю твой лоб и плечи венками из роз. Если ты ранен, то я лечу тебя; болен – я не отхожу от твоей постели; если ты счастлив, то я отхожу от тебя и издали любуюсь твоей славой, твоим благополучием. Может быть, тогда ты призовешь меня и твой поцелуй скажет мне, что ты доволен своей Сапфо, что ты все еще любишь меня.
– О, Сапфо! Если бы ты была уже теперь моею женою! Кто обладает таким сокровищем, каким я обладаю в тебе, тот будет его хранить и не станет стремиться к другим, которые в сравнении с ним так жалки! В моем отечестве, правда, существует обычай многоженства, но оно только дозволено, а вовсе не вменено мужчинам в обязанность. Мой отец тоже имел сто невольниц, но истинную, настоящую жену – только одну, нашу мать Кассандану.
– И я буду твоею Кассанданой?
– Нет, моя Сапфо, ни для одного мужчины его жена не была тем, чем ты будешь для меня!
– Когда ты приедешь за мною?
– Как только будет можно!
– Я буду ждать терпеливо.
– И я получу от тебя известие?
– Я буду писать тебе длинные, длинные письма и с каждым ветром посылать тебе привет…
– Хорошо, моя дорогая, а что касается писем, то отдавай их гонцу, который время от времени будет привозить Нитетис известия из Египта.
– Где я найду его?
– Я оставлю в Наукратисе человека, который позаботится обо всем, что ты велишь передать ему. О подробностях я поговорю с Мелитой.
– Мы можем положиться на нее, так как она умна и верна; но у меня есть еще один друг, который любит меня больше, чем все, за исключением тебя, и которого я тоже люблю больше всех после тебя.
– Ты говоришь о своей бабушке Родопис?
– Да, о ней, моей попечительнице и воспитательнице.
– Это благородная женщина. Крез считает ее превосходнейшей из женщин, – а он знает людей, как лекарь знает травы и коренья. Ему известно, что в таком-то растении таится сильный яд, а в другом – капли целительного бальзама; и Родопис, как часто говорит Крез, похожа на розу, которая источает благоухание и изливает освежительный елей для слабых больных даже тогда, когда она, поблекнув, теряет лист за листом и ждет только ветра, который развеет их совершенно.
– Да продлится ее жизнь! Милый мой, исполни еще одну мою большую просьбу.
– Исполню, хотя еще и не знаю, в чем она состоит.
– Когда ты меня увезешь на свою родину, не оставляй Родопис в Египте. Она должна сопровождать нас. Она так добра и любит меня так искренно, что мое счастье делает и ее счастливой, и все дорогое моему сердцу кажется и ей достойным любви.
– Она будет первой гостьей в нашем доме.
– Как ты добр! Теперь я вполне довольна и успокоена. Да, добрая моя бабушка нуждается во мне. Она не может жить без меня. Я своим смехом прогоняю ее мрачные заботы, и когда она, уча меня, сидит возле, поет мне песни, учит меня писать, ударяет по струнам лютни, тогда лицо ее сияет чистым светом и все морщины ее, проведенные горем, сглаживаются, ее кроткие глаза смеются и она забывает о многих прошлых бедственных днях, весело наслаждаясь настоящим.
– Прежде чем мы расстанемся, я спрошу ее, последует ли она за нами в мое отдаленное отечество.
– Как я рада! И знаешь ли: первое время разлуки мне вовсе не кажется страшным. Тебе, как моему мужу и господину, я могу говорить все, что меня печалит и радует, но перед другими я должна быть молчаливою. Знай же, мой милый, что в то время, когда вы поедете на свою родину, мы в свой дом ожидаем двух маленьких гостей. Это – дети дорогого Фанеса, того человека, ради спасения которого твой друг, сын Креза, совершил такой благородный поступок. Я всегда, как мать, буду заботиться об этих малютках и, когда они будут умницами, я буду напевать им прекрасную песенку о царевиче, могучем герое, который женился на простой девушке, и когда я буду описывать наружность этого царевича, то ты будешь стоять перед моими глазами и я опишу тебя с ног до головы, причем моя парочка не будет и подозревать, о ком идет речь. Мой герой имеет твой высокий рост, твои голубые глаза; его украшают твои золотистые кудри; царственное великолепие твоей одежды облегает его блистательную фигуру; твое благородное сердце, твой верный правдивый характер, твое благоговение к богам, твоя храбрость, твой высокий геройский дух, – словом, все, что я люблю и ценю в тебе, будет уделом и героя моей песни. Дети будут слушать меня. И когда они воскликнут: «Как любим мы царевича, как он прекрасен и добр; ах, если бы мы могли видеть этого благородного юношу!» – я с любовью прижму их к моему сердцу и поцелую их, как я целовала тебя, и тогда исполнится также и желание детей, так как ты царствуешь в моем сердце, а следовательно, живешь во мне, вблизи их, и когда они обнимают меня, то обнимают и тебя вместе со мною!
– А я пойду к моей сестре Атоссе и расскажу ей обо всем, что я видел во время своего путешествия. И когда я стану хвалить привлекательных греков, блеск их дел и красоту их женщин, то я буду изображать твое очаровательное существо, как портрет Афродиты. Я буду много рассказывать ей о твоей добродетели, красоте, скромности, о твоем пении, которое даже соловья заставляет слушать себя; о твоей любви, о нежности твоего сердца. Но все эти качества твои я буду переносить на божественный образ Киприды и стану целовать мою сестру, когда она воскликнет: «О, Афродита, если бы я могла тебя видеть!»
– Слушай, что это?
Мелита хлопает в ладоши.
– Прощай, мы должны расстаться. До скорого свидания!
– Еще один поцелуй!
– Прощай!
Мелита, одолеваемая усталостью и немощью преклонных лет, заснула на своем посту. Вдруг она была пробуждена громким шумом. Она тотчас захлопала в ладоши, чтобы предупредить влюбленную чету и призвать Сапфо, так как судя по звездам близилось утро.
Когда старуха приближалась с девушкой к дому, она заметила, что разбудивший ее шум произвели гости, приготовлявшиеся разойтись.
Торопя испуганную девушку, она провела ее через заднюю дверь дома, в спальню, и только что хотела раздевать ее, как вошла Родопис.
– Ты еще не ложилась, Сапфо? – спросила она. – Что это значит, дитя мое?
Мелита задрожала и готова была сказать какую-нибудь небылицу, но Сапфо бросилась на грудь своей бабки, нежно обняла ее, поцеловала ее с полной искренностью и без утайки рассказала ей всю историю своей любви.
Родопис побледнела.
– Оставь нас! – приказала она рабыне. Затем она стала против своей внучки, положила руки ей на плечи и сказала:
– Посмотри мне в лицо, Сапфо! Можешь ли ты еще смотреть на меня так же весело, с такою же детской ясностью, как и до прибытия этого перса?
Девушка, радостно улыбаясь, посмотрела на бабушку; тогда Родопис привлекла ее к себе на грудь и поцеловала, говоря:
– С той поры, как ты сняла с себя детские башмаки, я старалась сделать тебя достойной девушкой и охранить от любви. Я желала в скором времени выбрать для тебя приличного мужа и отдать тебя ему в жены по эллинским обычаям; но богам было угодно устроить иначе. Эрос посмеялся над всеми преградами, которые замыслы людей думали противопоставить ему. Эолийская кровь, текущая в твоих жилах, потребовала любви, бурное сердце твоих лесбосских предков бьется также и в твоей груди. Случившегося нельзя изменить. Сохрани же радостные часы этой чистой первой любви твоей, как драгоценную собственность в доме твоего воспоминания, так как настоящее каждого человека рано или поздно делается так бедно и пустынно, что он нуждается в этих сокровищах памяти, чтобы не иссохнуть от тоски. Думай в тишине о прекрасном юноше, попрощайся с ним, когда он будет возвращаться на родину, но остерегайся надежды на новое с ним свидание. Персы легкомысленны и непостоянны, все новое прельщает их, для всего чужеземного они открывают свои объятия. Твое очарование привлекло царевича. Он теперь пылает любовью к тебе, но он молод и прекрасен, за ним ухаживают со всех сторон, и притом он перс. Откажись от него, чтобы он не отказался от тебя!
– Как могу я сделать это, бабушка! Разве я не поклялась ему в верности на целую вечность?
– Вы, дети, играете этой вечностью, точно она не более как одно мгновение! Что касается до твоей клятвы, то я не порицаю тебя, а радуюсь, что ты так крепко держишься за все, так как мне ненавистна преступная поговорка, что будто бы Зевс не слышит клятв влюбленных. Почему на клятву, данную относительно самого святого чувства в человеке, божество будет обращать меньше внимания, чем на присягу, данную по поводу ничтожных вопросов о моем и твоем? Сохрани же свой обет, не забывай никогда о своей любви, но приучайся к мысли, что ты должна отказаться от своего возлюбленного.
– Никогда, бабушка! Разве Бартия сделался бы моим другом, если бы я не могла быть в нем уверена? Именно потому, что он – перс, что правдивость он называет своею прекраснейшей добродетелью, я могу твердо надеяться, что он будет помнить свою клятву и, вопреки нелепым обычаям азиатов, сделает меня своею единственной женою.
– А если он забудет свою клятву, то ты станешь горестно оплакивать свою молодость и, с отравленным сердцем…
– Добрая, милая бабушка, перестань говорить такие ужасные вещи! Если бы ты знала его, как я, то ты радовалась бы вместе со мной и согласилась бы, что скорее иссякнет Нил, скорее обрушатся пирамиды, чем Бартия забудет меня!
Девушка говорила эти слова с такой радостной уверенностью и убедительностью, ее темные, наполненные слезами глаза сияли выражением такой теплоты, такого блаженства, что и лицо Родопис прояснилось.
Сапфо еще раз обвила руками шею своей бабки, рассказала ей от слова до слова все, что говорил ей Бартия, и кончила свою исповедь восклицанием:
– Ах, бабушка, я так счастлива! И если ты поедешь с нами в Персию, то мне не останется ничего более просить у бессмертных.
– Но тебе слишком скоро придется снова простирать к ним руки, – вздохнула Родопис. – Они завистливо смотрят на счастье смертных и отмеривают нам дурное щедрыми, а хорошее – скупыми руками. Ступай теперь в постель, мое дитя, и молись со мною вместе, чтобы все это пришло к хорошему концу. Ребенку я принесла сегодня мое утреннее приветствие, взрослой девушке я желаю спокойной ночи; о, если бы, будучи женою, ты предоставляла свои губки для поцелуя так же радостно, как теперь! Завтра я поговорю о тебе с Крезом. От его совета будет зависеть разрешение вопроса: смогу ли я позволить тебе ждать возвращения перса, или же я должна заклинать тебя забыть царевича и сделаться женою какого-нибудь эллина, по моему выбору. Спи спокойно, мое дитя; твоя старая бабка бодрствует за тебя.
Сапфо заснула в сладостных грезах, а Родопис не смыкала глаз и, не то с улыбкой, не то задумчиво, хмурила чело при свете восходящего солнца и ясного дня.
На следующее утро Родопис послала просить Креза уделить ей один час для беседы с нею.
Она рассказала старику без обиняков, что случилось с ее внучкой, и заключила свой рассказ следующими словами:
– Я не знаю, каких качеств требуют персы от супруги владетельной особы, но могу сказать тебе, что Сапфо мне кажется достойной самого лучшего из царей. Она происходит от благородного свободного отца, и я слышала, что, по вашим законам, происхождение ребенка определяется только по отцу. В Египте тоже дети рабыни пользуются одинаковыми правами с детьми царской дочери, если те и другие родились от одного и того же отца.
– Я выслушал тебя молча, – отвечал Крез, – и должен сказать, что в настоящую минуту знаю так же мало, как и ты – следует ли мне радоваться или печалиться из-за этой любви. Камбис и Кассандана, мать Бартии, еще до нашего отъезда намеревалась женить царевича. Сам царь до сих пор не имеет никакого потомства. Если он умрет бездетным, то единственная надежда на продолжение рода его отца Кира будет возложена на Бартию, так как великий основатель персидской державы имел только двух сыновей: Камбиса и друга твоей внучки. Этот последний служит предметом гордости для всех персов, он любимец всего двора и страны, надежда всех сановников и подданных. В Персии желают, чтобы царские сыновья брали себе жен из рода Ахеменидов; но персы имеют беспредельное пристрастие ко всему чужеземному и, обвороженные красотой твоей внучки, снисходительно отнесутся к любви Бартии, извинят проступок против старых обычаев, тем более что всякое действие, одобренное царем, не допускает никакого возражения со стороны подданных. Притом иранская история представляет достаточно примеров того, что даже от рабынь происходили цари. Мать властителя Персии, пользующаяся почти таким же авторитетом, как он сам, не станет мешать счастью своего младшего и любимого сына. Когда она увидит, что Бартия не в силах отказаться от Сапфо, когда она заметит, что смеющееся лицо ее обожаемого сына, похожего как две капли воды на ее великого покойного мужа, омрачилось, она, чтобы только доставить ему радость, позволит ему жениться хоть на скифке. Камбис тоже не откажет в своем согласии, если его мать обратится к нему в удобную минуту с настоятельной просьбой.
– Значит, все трудности могут быть устранены? – радостно воскликнула Родопис.
– Меня заботит не брак, а его последствия.
– Не хочешь ли ты сказать, что Бартия…
– С его стороны я не боюсь ничего. Он чист сердцем и так долго оставался чужд любви, что, однажды покоренный ею, будет любить горячо и постоянно.
– Но…
– Но ты должна принять в соображение, что, если бы даже все мужчины приняли с радостью очаровательную жену своего любимца, в женских покоях персидских вельмож есть тысяча праздных женщин, которые поставят себе в обязанность вредить молодой, возвысившейся из незнатного рода девушке всевозможными кознями и интригами, – женщин, для которых высшим наслаждением будет погубить неопытного ребенка.
– Ты имеешь очень дурное мнение о персиянках.
– Они ведь женщины и будут завидовать сопернице, сумевшей понравиться человеку, на которого они имели виды для себя или для своих дочерей. В праздности и скуке гарема зависть легко переходит в ненависть, и удовлетворение ее должно служить для этих бедных созданий вознаграждением за отсутствие любви и свободы. Повторяю тебе: чем прекраснее Сапфо, тем более она вызовет против себя неприязни, и, даже если Бартия будет искренно любить ее и в первые годы не возьмет себе другую жену, она все-таки испытает такие тяжкие минуты, что я решительно не знаю, могу ли я поздравить тебя с блистательной, по-видимому, будущностью твоей внучки.
– Я чувствую то же самое, – сказала Родопис.
– Простой эллин был бы для меня желательнее этого благородного сына великого царя.
В этот момент в комнату вошел Бартия, введенный Кнакиасом. Он умолял Родопис не отказывать ему в руке ее внучки, описал свою горячую любовь к девушке и уверял, что Родопис удвоит его счастье, если отправится с ним в Персию. Затем он схватил руку Креза, извинился перед ним в том, что так долго таил от него, которого чтил как отца, счастье своего сердца, и умолял его поддержать его сватовство.
Старик с улыбкой выслушал страстные слова юноши и сказал:
– Как часто я предостерегал тебя против любви, мой Бартия! Любовь – это всепожирающий огонь.
– Но ее пламя ярко и светозарно.
– Она причиняет горе.
– Но это горе приятно.
– Она помрачает ум!
– Но укрепляет сердце!
– О, эта любовь! – воскликнула Родопис. – Разве вдохновленный Эросом мальчик не говорит так, как будто он всю свою жизнь провел в школе под руководством аттического учителя красноречия?
– Однако же, – возразил Крез, – я называю влюбленных самыми непокорными из учеников. Вы можете им доказывать с убедительной ясностью, что любовь есть яд, огонь, глупость, смерть, а они, несмотря на то, станут утверждать: «но она сладостна», – и будут продолжать любить по-прежнему.
В эту минуту в комнату вошла Сапфо. Белое праздничное платье с пурпурно-красными вышитыми краями и широкими рукавами охватывало ее нежный стан свободными складками, которые в талии были собраны золотым поясом. В ее волосах блистали свежие розы, а грудь была украшена сверкающей звездою, первым подарком ее возлюбленного.
С грациозной застенчивостью она поклонилась старику, который надолго остановил на ней свой взгляд. И чем дольше Крез смотрел на это девственное, очаровательное лицо, тем приветливее становилось чело лидийца. Из глубины его души перед ним восстали воспоминания; на одну минуту к нему возвратилась его молодость; он невольно приблизился к девушке, с любовью поцеловал ее в лоб, взял ее за руку, подвел к Бартии и сказал:
– Возьми ее, хотя бы против нас восстали все Ахемениды!
– Значит, мне нечего больше и говорить? – спросила Родопис, улыбаясь сквозь слезы.
Бартия взял правую, а Сапфо левую руку матроны, и две пары умоляющих глаз смотрели ей в лицо. Наконец она, выпрямившись во весь рост, воскликнула с видом прорицательницы:
– Да охранит вас Эрос, который вас соединил, да защитят вас Зевс и Аполлон! Я вижу вас подобными двум розам на одном стебле, любящими и счастливыми в весеннюю пору жизни; что принесут вам лето, осень и зима – это сокрыто в мыслях богов. Пусть ласково улыбнутся тени твоих родителей, моя Сапфо, когда эта весть о тебе дойдет до них в жилища преисподней.
Через три дня после этой сцены пристань Саиса снова была заполнена густыми толпами. Народ собрался, чтобы сказать последнее «прости» дочери фараона, отправлявшейся на чужбину. В этот час казалось, что египтяне, несмотря на подстрекательства жрецов, питали искреннюю любовь к царскому дому.
Когда Амазис и Ладикея со слезами на глазах обняли Нитетис в последний раз; когда Тахот, на виду у всех саитян, на большой, спускавшейся к Нилу лестнице, всхлипывая, бросилась на шею к своей сестре; когда лодка, увозившая невесту персидского царя, со вздутыми парусами отчалила от берега, – глаза почти всех зрителей были увлажнены слезами.
Только жрецы смотрели сурово и холодно, как всегда, на эту трогательную сцену.
Наконец, когда корабли увозивших египтянку чужеземцев тоже пошли под дуновением южного ветра, за ними понеслось множество проклятий и криков ненависти; но Тахот еще долго махала своим покрывалом вслед удалявшимся. Она плакала беспрерывно. К кому относились эти слезы: к подруге ее детских лет или же к прекрасному и столь любимому ею царевичу?
Амазис, на виду у всего народа, обнял свою жену и дочь. Он высоко поднял маленького Нехо, своего внука, при виде которого египтяне разразились громкими криками восторга. Псаметих, отец ребенка, стоял молча и с сухими глазами возле царя, который, по-видимому, не обращал на него внимания. Наконец, к нему подошел Нейтотеп. Верховный жрец подвел упиравшегося царевича к отцу, положил его руку в руку царя и громко произнес благословение богов царскому дому.
Во время его речи египтяне стояли на коленях, с руками, воздетыми к небу. Амазис привлек сына к своей груди и шепнул верховному жрецу, когда тот окончил свою молитву:
– Будем жить в мире ради нас самих и ради египтян.
– Получил ли ты то письмо Небенхари?
– Самосский корабль морских разбойников преследует трирему Фанеса.
– Там, в отдалении, беспрепятственно плывет дочь твоего предшественника, законная наследница египетского престола.
– Постройка эллинского храма в Мемфисе будет приостановлена.
– Да ниспошлет нам Исида мир, да распространится счастие и благоденствие над Египтом!
Жившие в Наукратисе эллины устроили празднество в честь отправлявшейся на чужбину дочери своего покровителя Амазиса.
На алтарях греческих богов множество жертвенных животных были преданы закланию и, когда нильские барки прибыли в гавань, раздалось громкое «айлинос!».
Девушки в праздничных нарядах поднесли Нитетис золотую повязку, которая, в качестве свадебного венка невесты, была обвита множеством душистых фиалок.
Эту повязку должна была поднести Сапфо, как самая красивая девушка в Наукратисе.
Принимая подарок, Нитетис поцеловала ее в лоб. Затем она вошла в дожидавшуюся ее трирему.
Гребцы принялись за свою работу и запели «Келейсмуму»[55]. Южный ветер наполнил паруса, и тысячекратное «айлинос» раздалось снова. Бартия с палубы царского корабля сделал последний знак любовного привета своей нареченной. Сапфо тихо молилась Афродите Эвплойа, покровительнице моряков. Слезы текли по ее щекам, но на губах ее играла улыбка надежды и любви, между тем как старая Мелита, державшая зонтик девушки, плакала навзрыд. Однако же, когда с венка, украшавшего голову ее питомицы, случайно упало несколько листков, она на минуту забыла свое горе и тихо прошептала, наклонившись к Сапфо:
– Да, сердце мое, видно, что ты любишь: все девушки, которые теряют лепестки из своих венков, ранены стрелами Эроса.