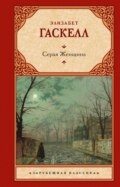Элизабет Гаскелл
Крэнфорд
II. Банкротство
В тот самый четверг, когда мистер Джонсон должен был показывать свои модные товары, почтальонша принесла к нам два письма. Я сказала: «почтальонша», но должна бы сказать: жена почтальона. Он был хромой башмачник, очень опрятный, честный человек, весьма уважаемый в городе, но никогда сам не разносил писем, кроме чрезвычайных случаев, как, например, в день Рождества или в великую пятницу; и в эти дни письма, которые должны бы получиться в восемь часов утра, не являлись прежде двух или трех часов пополудни; все любили бедного Томаса и ласково принимали его в этих торжественных случаях. Он обыкновенно говорил, что сыт по горло, потому что в трех или четырех домах непременно хотели накормить его завтраком, и едва окончив последний завтрак, он приходил к какому-нибудь другому приятелю, который уж начинал обед; но как ни сильны были искушения, Томас всегда был трезв, вежлив и с улыбкой на лице; и как мисс Дженкинс обыкновенно говорила, это был олицетворенный урок терпения, который, она не сомневалась, должен вызвать это драгоценное качество во многих людях, у которых, не будь Томаса, оно дремало бы. Конечно, терпение находилось в состоянии весьма сильной дремоты у мисс Дженкинс. Она вечно ожидала писем, и всегда барабанила по столу, покуда не приходила или не проходила почтальонша. В Рождество и в великую пятницу она барабанила от чая до обедни, от обедни до двух часов, до тех пор, пока не нужно было помешать в камине, и непременно роняла кочергу и бранила за это мисс Мэтти. Но также непременен был ласковый прием и хороший обед для Томаса; мисс Дженкинс расспрашивала про его детей, что они делают, в какую школу ходят, делая ему упреки, если неравно еще новое чадо должно было появиться на свет; но всегда посылая ребятишкам шиллинг и сладкий пирожок, с пол кроной прибавки для отца и матери. Почта совсем не составляла особенной важности для милой мисс Мэтти; но ни за что на свете не уменьшила бы она ни приветствий, ни подарков Томасу, хотя я примечала, что она несколько стыдилась этой церемонии, на которую мисс Дженкинс смотрела как на торжественный случай для падания советов и благодеяний своим ближним. Мисс Мэтти совала деньги разом в его руку, как будто стыдясь себя самой. Мисс Дженкинс отдавала каждую монету особенно, с словами: «Вот! это для тебя… это для Дженни», и так далее. Мисс Мэтти всегда манила Марту из кухни, покуда он ел свой обед; и однажды, как мне известно, она отвернулась, когда он быстро сунул свой завтрак в синий бумажный носовой платок. Мисс Дженкинс журила его, если он не дочиста съедал с блюда, как бы полно оно ни было наложено, и давала ему наставления с каждым куском.
Я далеко уклонилась от рассказа о двух письмам, ожидавших нас на столе в этот четверг. Письмо ко мне было от батюшки, к мисс Мэтти печатное. Письмо батюшки было совершенно мужское письмо; я хочу сказать, что оно было очень скучно и говорило только о том, что он здоров, что у них были сильные дожди, что торговля почти совсем остановилась и что ходят слухи весьма неприятные. Он также спрашивал, знаю ли я, есть ли еще у мисс Мэтти акции в городском купеческом банке, так как о нем ходили весьма неприятные слухи, которые, впрочем, он всегда предвидел и давно уже предсказывал мисс Дженкинс, когда она отдавала туда все свое достояние – единственный, сколько ему известно, неблагоразумный шаг, сделанный во всю жизнь этой умной женщиной (единственный поступок, на который она решилась, вопреки его советам, как мне было известно). Однако, если что-нибудь пойдет дурно, разумеется, я не должна покидать мисс Мэтти, если могу ей сколько-нибудь быть полезной, и проч.
– От кого ваше письмо, душенька? А ко мне очень вежливое приглашение, подписанное Эдвин Уильсон, явиться на очень важное собрание акционеров городского купеческого банка в Дрёмбль, в четверг 25-го числа. Это с их стороны весьма любезно, что они вспомнили обо мне.
Мне не понравилось известие об этом «очень важном собрании», хотя я мало понимала дела; я опасалась, что это подтверждало слова батюшки, однако я подумала: дурные вести приходят всегда слишком рано, и потому решилась не говорить ничего о моем опасении, а сказала только, что батюшка здоров и посылает ей поклон. Она долго восхищалась своим письмом. Наконец сказала:
– Я помню, что они прислали Деборе точно такое, но я этому не удивлялась, потому что все знали, как она была умна. Я боюсь, что мало буду им полезна; право, если они начнут считать, я совсем смешаюсь, потому что никогда не в состоянии сделать счет в уме. Дебора, я знаю, желала ехать и даже заказала себе новую шляпку; но когда настало время, она сильно простудилась и они прислали ей очень вежливый отчет о том, что было сделано. Кажется, выбирали директора. Как вы думаете, они приглашают меня, чтоб помочь им выбрать директора? Я тотчас выбрала бы вашего отца.
– У батюшки нет акций в этом банке, сказала я.
– Так, нет! я это помню. Он очень отсоветовал Деборе, когда она их покупала; но она была совершенно деловая женщина и всегда сама все решала; а ведь вы знаете, они все эти года платили по восьми процентов.
Для меня это был предмет весьма неприятный: я ждала недоброго; потому я переменила разговор, спросив, в какое время, она думает, лучше нам идти смотреть модные материи.
– Ну, душенька, сказала она: – вот в чем дело: этикет не позволяет идти до двенадцати; но тогда весь Крэнторд будет там и не каждому приятно расспрашивать при всех о нарядах, уборах, чепцах. Показывать любопытство в таких случаях неприлично людям благовоспитаным. У Деборы была привычка всегда смотреть так, как будто бы последние моды ничего не значат для неё; это она переняла от леди Арлей, которая, знаете, видала всегда все новые моды в Лондоне. Поэтому, я думаю, мы сегодня утром выйдем вскоре после завтрака – мне нужно полфунта чаю, а потом можем пойти и рассмотреть все вещи на свободе и посмотреть, как нужно сделать мое новое шелковое платье, а потом, после двенадцати, можем идти снова, уже нисколько не думая о нарядах.
Мы начали говорить о новом шелковом платье мисс Мэтти. Я узнала, что она выбирает в первый раз в жизни что-нибудь важное для себя самой; мисс Дженкинс, каков бы ни был её вкус, была всегда более решительного характера, и удивительно, как такие люди овладевают другими простой силою воли. Мисс Мэтти заранее так восхищалась видом шелковистых складок, как будто бы на пять соверенов, отложенных для покупки, могла скупить все шелковые материи из лавки, и (припоминая, как я потеряла два часа в игрушечной лавке прежде, чем решила, на что издержать три пенса) я была рада, что мы пойдем рано, чтоб милая мисс Мэтти могла на свободе насладиться нерешимостью.
Если попадется материя голубоватая, платье будет голубоватое; если нет, она решилась на синее, а я на серое, и мы рассуждали о количестве полотнищ, покуда не дошли до лавки. Мы должны были купить чай, выбрать материю, а потом вскарабкаться на витую железную лестницу, ведущую туда, что было некогда чердаком, а теперь превратилось в выставку мод.
Молодые приказчики мистера Джонсона, нарядные, в лучших галстуках, вертелись у прилавка с изумительною деятельностью. Они предложили тотчас провести нас наверх; но, придерживаясь правила, что дела прежде, а удовольствие после, мы остановились купить чай. Тут рассеянность мисс Мэтти изменила ей. Если она знала, что пила зеленый чай в какое бы то ни было время, то считала обязанностью не спать потом целую ночь (я знаю, что она несколько раз пила зеленый чай, не зная того, и не чувствовала подобных последствий), следовательно зеленый чай был запрещен в её доме; а сегодня она сама спросила этот зловредный предмет, воображая, что говорит о шелковой материи. Однако ошибка скоро была поправлена и потом материи в самом деле были развернуты. В это время лавка наполнилась; был рыночный день в Крэнфорде, и многие из мызников и окрестных крестьян пришли, поглаживая волосы и робко поглядывая из-под опущенных ресниц, желая нетерпеливо рассказать об этом необыкновенном зрелище дома, своей хозяйке или девушкам, и чувствуя, что они тут не на месте между щегольскими приказчиками, красивыми шалями и летними ситцами. Один из них однако пробрался до прилавка, у которого мы стояли, и смело попросил взглянуть на шали. Все другие деревенские жители ограничились бакалейным товаром; но наш сосед очевидно был слишком исполнен доброжелательных намерений относительно хозяйки, жены или дочери, чтоб быть робким; и я скоро предложила себе вопрос: кто, мисс Мэтти или он, дольше продержит приказчика. Каждая вновь подаваемая шаль казалась ему лучше прежней, а мисс Мэтти улыбалась и вздыхала над каждой приносимой новой кипой; один цвет служил прекрасным оттенком другому и вся кипа вместе, как она говорила, пристыдила бы самую радугу.
– Я боюсь, сказала она, колеблясь: – что бы я ни выбрала, я буду жалеть, зачем не взяла другое. Посмотрите на эту хорошенькую малиновую: как это было бы тепло зимою. Но наступает весна… знаете, мне хотелось бы иметь по платью для всякого времени года, сказала она понизив голос: – как делали все мы в Крэнфорде, когда говорили о чем-нибудь таком, чего желали, да не могли себе позволить. Впрочем, продолжала она громче и веселее: – было бы с ними много хлопот, поэтому я думаю купить себе только одно… но которое же, душенька?
Она имела виды на лиловое с желтыми крапинками, а я указывала на темно-зеленое, совершенно пропадавшее между более яркими цветами, но между тем бывшее все-таки в своем смиренном виде очень хорошей материей. Внимание наше было привлечено на нашего соседа. Он выбрал шаль в тридцать шиллингов; лицо его просияло от надежды приятного сюрприза, который он сделает Молли или Дженни; он вытащил кожаный кошелек из кармана панталон и подал двадцатипятифунтовый билет за шаль и за какой-то узел, который принесли ему с бакалейного прилавка; именно в эту-то минуту привлек он наше внимание. Приказчик рассматривал билет с смущенным, сомнительным видом.
– Городской банк! Я не знаю наверное, сэр, но, кажется, мы получили только сегодня утром предостережение против билетов этого банка. Я сейчас спрошу мистера Джонсона, сэр; но я боюсь, мне придется побеспокоить вас просьбой: заплатить монетой или билетом другого банка.
Я никогда не видела более внезапного смущения и изумления. Почти жаль было видеть такую быструю перемену.
– Чтоб их тут!.. сказал он, ударив кулаком по столу, как бы затем, чтоб попробовать, который крепче. – Парень говорит, как будто бумажки и золото валяются по полу.
Мисс Мэтти забыла свое шелковое платье из-за участия к этому человеку. Не думаю, чтоб она расслышала имя банка; в моей слабонервной трусости я дрожала, чтоб она не услыхала его, и начала любоваться лиловым платьем, которое осуждала за минуту перед тем. Но это нисколько не помогло.
– Какой это банк?… Я хочу сказать, из какого банка ваш билет?
– Городского.
– Покажите мне, сказала она спокойно приказчику, тихо взяв у него из рук, когда он принес билет назад к мызнику.
Мистеру Джонсону было очень прискорбно, но, по полученному им уведомлению, билеты этого банка были ни чем не лучше простой бумаги.
– Не понимаю, сказала мне мисс Мэтти – ведь это наш банк? городской?
– Да, сказала я: – эта лиловая материя как раз идет к лентам на вашем новом чепце. Мне кажется, продолжала я, развертывая складки, чтоб заслонить свет и желая, чтоб мызник ушел поскорее… но вдруг новая мысль мелькнула у меня в голове: благоразумно ли и справедливо ли допустить мисс Мэтти сделать такую значительную покупку, если дела банка до такой степени дурны, как показывал отказ взять билет?
Мисс Мэтти приняла кроткий и благородный вид, ей свойственный, и, ласково взяв меня за руку, сказала:
– На несколько минут оставим материи, душенька. Я не понимаю вас, сэр, сказала она, обращаясь к приказчику, ожидавшему от мызника денег – разве это билет фальшивый?
– О нет-с! билет настоящий; но видите ли-с, носятся слухи, что банк этот скоро рушится. Мистер Джонсон только исполняет свою обязанность, как, верно, известно мистеру Добсону.
Но мистер Добсон не мог отвечать на вопросительный поклон улыбкой согласия. Он рассеянно вертел в руках билет, мрачно смотря на сверток, содержащий выбранную шаль.
– Это тяжело для бедного человека, который добывает каждую копейку в поте лица, сказал он. – Впрочем, чем тут поможешь? Возьмите назад вашу шаль; Лидзи обойдется покамест и плащом. А винные ягоды для ребятишек, я им обещал… и возьму их, но табак и другие вещи…
– Я дам вам пять соверенов за ваш билет, мой милый, сказала мисс Мэтти. – Я полагаю, что тут есть какая-нибудь ошибка; я ведь одна из акционеров, и наверно они уведомили бы меня, если б дела не были в порядке.
Приказчик прошептал через прилавок несколько слов мисс Мэтти. Она взглянула на него с недоумением.
– Может быть, сказала она – но я не имею притязания знать толк в делах; я только знаю, что если банк обанкротится и честные люди должны лишиться своих денег, потому что принимали наши билеты… Я не ясно выражаю мою мысль, прибавила она, вдруг приметив, что пустилась в длинную речь и что ее слушают четверо – только я разменяю на золото этот билет, если хотите, заключила она, обращаясь к мызнику – и вы можете отнести шаль вашей жене. Только с платьем мне надо повременить несколько дней, сказала она мне: – тогда, я не сомневаюсь, все разъяснится.
– Но если разъяснится в худую сторону? сказала я.
– Ну, что ж? я только, значит, поступила честно, как акционерка, отдав деньги этому доброму человеку. Я совершенно понимаю это в моих мыслях; но, вы знаете, я никогда не могу говорить так понятно, как другие; вы должны отдать мне ваш билет, мистер Добсон, если хотите сделать покупки на эти соверены.
Мызник посмотрел на нее с безмолвной признательностью, не умея выразить ее словами, но попятился назад, комкая свой билет.
– Мне не хочется заставить другого потерять вместо себя, если надо потерять; только видите: пять фунтов – деньги большие для человека семейного; а как вы говорите, можно побиться об заклад, что через два-три дня билет будет приниматься по той же цене, как золото…
– Не надейтесь, мистрисс, сказал приказчик.
– Тем больше причины мне взять его, сказала спокойно мисс Мэтти.
Она подвинула свои соверены к мызнику, который нерешительно вручил ей билет.
– Благодарствуйте. Я подожду дня два покупкой шелковой материи; может быть, у вас будет тогда большой выбор. Душенька, пойдемте наверх.
Мы рассматривали модные фасоны с таким мелочным и любопытным участием, как будто бы платье, которое должно было сшиться по них, было куплено. Я не приметила, чтоб маленькое происшествие в лавке хоть сколько-нибудь уменьшило любопытство мисс Мэтти насчет того, как делаются рукава и юбки. Она несколько раз выражала мне свое удовольствие о том, что мы так свободно и уединенно можем рассматривать шляпки и шали; но я все время не была уверена, чтоб наше посещение было совершенно уединенно, потому что мне мелькнула фигура, выглядывавшая из плащей и мантилий и, торопливо обернувшись, очутилась лицом к лицу с мисс Поль, которая, тоже в утреннем костюме (главная черта которого состояла в том, что она была без зубов и в вуали, чтоб скрыть их недостаток), пришла с тем же намерением, как и мы. Но она тихо отправилась домой, потому что, как говорила, страдала сильной головною болью и чувствовала себя не в состоянии поддерживать разговор.
Возвращаясь назад через лавку, мы нашли вежливого мистера Джонсона, ожидавшего нас; он узнал о размене билета на золото и с большим чувством и с истинной добротой, но с маленьким недостатком такта, пожелал выразить свое участие к мисс Мэтти и рассказать ей настоящее положение дела. Я могла только надеяться, что до него дошли преувеличенные слухи, потому что он сказал, будто её акции стали хуже, чем ничего, и что банк не может заплатить даже шиллинга за фунт. Я была рада, что мисс Мэтти, казалось, не совсем этому верила; но я не могла сказать, действительно ли она не верила, или притворялась, с тем уменьем владеть собою, которое было свойственно дамам в положении мисс Мэтти в Крэнфорде, дамам, полагавшим, что они компрометируют свое достоинство малейшим выражением удивления, смущения или тому подобного чувства, в присутствии низшего им по званию, или в публичном месте. Однако домой шли мы молча. Стыдно сказать, что мне было и неприятно и досадно, зачем мисс Мэтти так решительно взяла себе билет. Мне так хотелось, чтоб у ней было новое шелковое платье, которое, к сожалению, так было ей нужно; вообще она была так нерешительна, что всякий мог переуверить ее во всем; но тут я чувствовала, что напрасно будет покушаться на это и тем не менее была раздосадована.
Как бы то ни было, после двенадцати мы обе признались, что насмотрелись досыта на моды, что чувствовали некоторую усталость (которая в действительности была унынием) и решились не идти туда опять. Но все-таки мы ничего не говорили о билете, как вдруг что-то побудило меня спросить мисс Мэтти: неужели она считает обязанностью давать соверены за все билеты городского банка, которые ей попадутся? Я хотела бы прикусить себе язык, только что успела это выговорить. Она взглянула на меня несколько грустно, как будто я бросила новое недоумение в её уже измученное сердце и несколько минут не говорила ничего. Потом сказала: – о моя милая мисс Мэтти – без тени упрека в голосе:
– Душенька! я никогда не находила в своем уме большой, как говорится, остроты; и часто мне довольно трудно решить, что я должна делать. Я была очень рада, очень рада, что сегодня утром увидела прямую свою обязанность, когда этот бедный человек стоял передо мною; но для меня очень тяжело все думать-и-думать о том, что я должна делать, когда случится то-то или то-то; и я полагаю, мне лучше ждать и посмотреть что будет; я не сомневаюсь, что мне тогда помогут, если я не стану тревожиться и беспокоиться заранее. Вы знаете, милочка, я не похожа на Дебору. Будь жива Дебора, я не сомневаюсь, она не допустила бы их дойти до такого положения.
Никто из нас не имел большего аппетита за обедом, хотя мы старались весело разговаривать о посторонних предметах. Воротясь в гостиную, мисс Мэтти открыла бюро и начала пересматривать свои счетные книги. Я так раскаивалась в том, что сказала утром, что не хотела взять на себя смелости предположить, будто могу ей пособить; я предоставила ей заниматься одной; с нахмуренными бровями следовала она взором за пером, бегавшим взад и вперед по странице. Потом она закрыла книгу, заперла бюро и придвинула ко мне свое кресло; я сидела в угрюмой печали перед камином. Я протянула ей руку, она сжала ее, но не сказала ни слова. Наконец, проговорила с принужденным спокойствием в голосе:
– Если дела этого банка кончатся дурно, я потеряю сто сорок девять фунтов тринадцать шиллингов и четыре пенса в год; у меня останется только тринадцать фунтов годового дохода.
Я сжала крепко её руку, но не знала что сказать. Я почувствовала (было темно, я не могла видеть её лица), как её пальцы судорожно зашевелились в моей руке, и угадала, что она сбирается с духом, чтоб продолжать. Мне слышались рыдания в её голосе, когда она сказала:
– Надеюсь, что это не грех, если скажу, но я… но, о, я так рада, что бедная Дебора избавилась от этого: она никогда не могла бы перенести унижения… у ней была такая благородная, высокая душа.
Вот все, что она сказала о сестре, настоявшей на том, чтоб отдать их маленькое состояние в этот несчастный банк. В тот вечер мы еще позже, чем обыкновенно, зажгли свечи и сидели безмолвные и грустные.
Однако мы принялись за работу после чая с какой-то принужденной веселостью (которая скоро сделалась искреннею), разговаривая о помолвке леди Гленмайр. Мисс Мэтти почти начала находить это делом хорошим.
– Я не намерена отрицать, чтоб мужчины не были помехой в доме. Я не могу судить о неисчерпаемой новости по собственному-опыту, потому что отец мой был олицетворенной опрятностью и всегда, возвращаясь домой, вытирал башмаки так же старательно, как женщины; но все-таки мужчина понимает, как должно поступать в затруднительных обстоятельствах, и очень приятно иметь человека под рукою, на которого можно положиться. Вот хоть бы леди Гленмайр, вместо того, чтоб колебаться и не знать, где ей поселиться, будет иметь дом среди общества приятных и добрых людей, каковы, например, наши добрые мисс Поль и мистрисс Форрестер. А мистер Гоггинс ведь, право, видный собой мужчина; ну, а что касается до его обращения, то если оно не слишком изящно, я скажу, что знала людей с прекрасным сердцем и преумных, которые хотя не могли похвалиться тем, что некоторые считают светскостью, но отличались и благородством и добротой.
Она предалась нежной мечтательности о мистере Гольбруке и я не прерывала ее, будучи занята соображением одного плана, который занимал мои мысли уже несколько дней, но который угрожающее банкротство привел к кризису. В этот вечер, когда мисс Мэгги улеглась спать, я вероломно опять зажгла свечу и села в гостиной сочинять письмо к Аге Джонкинсу, письмо, которое должно было тронуть его, если он был Питер, и показаться простым изложением сухих фактов, если это человек посторонний. Церковные часы пробили два прежде, чем я кончила.
На следующее утро явились известия и официальное и частное, что городской банк прекратил платежи. Мисс Мэтти была разорена.
Она пыталась говорить со мной спокойно; но когда дошла до обстоятельства, что должна жить только пятью шиллингами в неделю, не могла удержать нескольких слез.
– Я плачу не о себе, душенька, сказала она, утирая их: – я полагаю, что плачу о той глупой мысли, как огорчилась бы матушка, если б это знала; она заботилась о нас гораздо больше, чем о себе самой. Но сколько бедных людей имеют еще меньше; а я, слава Богу, не очень расточительна: когда выдам Марте жалованье, расплачусь за баранину и за наем квартиры, то не останусь должна ни одной копейки. Бедная Марта! думаю, ей будет жаль меня оставить.
Мисс Мэтти улыбнулась мне сквозь слезы и как будто хотела показать мне только улыбку, а не слезы.