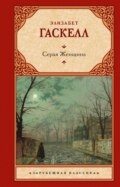Элизабет Гаскелл
Крэнфорд
Мисс Мэтти не могла говорить от слез, когда прочитала эту записку. Она подала мне ее в молчании, потом встала и отнесла в самые сокровенные ящики своей спальни, боясь, чтоб, как-нибудь случайно, не была она сожжена.
– Бедный Питер! сказала она: – он всегда попадался в беды; он был слишком легковерен. Завлекут его в дурное, а потом и поставят в тупик; но он был слишком большой охотник до проказ; никак не мог удержаться, чтоб не подшутить. Бедный Питер!
Часть вторая
I. Бедный Питер
Карьера бедного Питера развертывалась перед ним очень приятно, устроенная добрыми друзьями, но Bonus Bernardus non videt omnia тоже в этом начертании. Он должен был приобрести почести в Шрюсбюрийской Школе, увезти их с собою в Кембриджский Университет, а после его ожидало пасторское место – подарок крестного отца сэра Питера Арлея. Бедный Питер! доля его в жизни была весьма различна от того, чего надеялись и чего ожидали его друзья. Мисс Мэтти все мне рассказала и я думаю, что это было для неё большим облегчением.
Он был любимцем матери, которая хвалила до безумия всех своих детей, хотя, может быть, несколько страшилась высоких сведений Деборы. Дебора была любимицей отца, и когда он разочаровался в Питере, она сделалась его гордостью. Единственная почесть, привезенная Питером из Шрюсбюри, была репутация самого доброго мальчика на свете и школьного зачинщика в шалостях. Отец разочаровался, но решился поправить дело по-мужски. У него не было средств отдать Питера к особому учителю, но он мог учить его сам, и мисс Мэтти много мне говорила о страшных приготовлениях насчет словарей и лексиконов, сделанных в кабинете отца в то утро, когда Питер начал курс.
– Бедная матушка! сказала она. – Я помню, что она обыкновенно оставалась в зале так близко от кабинетной двери, чтоб уловить звуки батюшкиного голоса. Я могла угадать в минуту по её лицу, если все шло хорошо. И долго все шло хорошо.
– Что наконец пошло дурно? сказала я: – верно эта скучная латынь.
– Нет, не латынь. Питер был в большой милости у батюшки, потому что работал хорошо. Но ему вдруг вздумалось подшутить над Крэнфордцами и настроить разных проказ, а им это не понравилось; не понравилось никому. Он всегда надувал их; «надувал» не совсем приличное слово, душенька, и я надеюсь, вы не скажете вашему батюшке, что я его употребила; мне не хочется, чтоб он думал, будто я не разборчива в выражениях, проведя жизнь с такой женщиной, как Дебора. И наверно вы никогда не употребляете такого слова сами. Не знаю, как оно сорвалось у меня с языка, разве только потому, что я думаю о добром Питере, а он всегда так выражался. Он был преблагородным мальчиком во многих отношениях. Он походил на любезного капитана Броуна во всегдашней готовности помочь старику или ребенку, однако любил подшутить и наделать проказ; он думал, что старые крэнфордские дамы поверят всему. Тогда здесь жило много старых дам, и теперь, по большей части, мы все дамы, но мы не так стары, как те дамы, которые жили здесь, когда я была девочкой. Мне смешно, когда я подумаю о шалостях Питера.
– Мисс Дженкинс знала об этих шалостях? спросила я.
– О, нет! это показалось бы слишком оскорбительно для Деборы. Нет! никто не знал кроме меня. Мне бы хотелось всегда знать о намерениях Питера, но иногда он мне не говорил их. Он обыкновенно говорил, что старым дамам в городе всегда нужно о чем-нибудь болтать; но я этого не думаю. Они получали сен-джемскую газету три раза в неделю, точно так, как мы получаем теперь, и у нас есть о чем поговорить; я помню, какой всегда начинался страшный шум, когда дамы собирались вместе; но верно школьные мальчишки болтают больше дам. Наконец, случилось ужасно-прискорбное обстоятельство.
Мисс Мэтти встала, подошла к двери, отворила ее – там никого не было. Она позвонила в колокольчик, и когда пришла Марта, приказала ей сходить за яйцами на мызу, на другой конец города.
– Я запру за тобою дверь, Марта. Тебе не страшно идти – нет?
– Совсем нет, сударыня; Джим Гэрн будет так рад проводить меня.
Мисс Мэтти выпрямилась и как только мы остались одни, пожелала, чтоб у Марты было побольше девической скромности.
– Затушите свечку, душенька. Мы можем говорить также хорошо и при каминном огне.
Ну вот видите, Дебора уехала недельки за две; день был очень тихий и спокойный, как я помню; сирени были все в цвету, стало-быть это было весной. Батюшка вышел навестить каких-то больных; я помню, что видела, как он вышел из дому в своем парике, шляпе и с тростью. Что сделалось с нашим бедным Питером – не злого; у него был предобрейший характер, а между тем, он любил досаждать Деборе. Она никогда не смеялась над его шалостями, считала его ne comme il faut, недовольно заботящимся об улучшении своего разума, и это ему было досадно. Ну, вот, пошел он в её комнату, оделся в её старое платье, шаль и шляпку: именно в те вещи, которые она обыкновенно носила в Крэнфорде и которые везде были известны; из подушки сделал куклу… Вы точно знаете, что заперли дверь, душенька, я не хотела бы, чтоб кто-нибудь это слышал… Сделал… крошечного ребенка в белом длинном платье. Это только затем, как он сказал мне после, чтоб заставить поговорить о чем-нибудь в городе: он никогда не думал оскорбить этим Дебору. Вот и пошел он прогуливаться взад и вперед по Фильбертской аллее… полуприкрытой решеткой и почти-невидной, и обнимал свою подушку, точь-в-точь как ребенка, и говорил ей разные глупости. Ах душенька! а батюшка-то и шел в это время по улице своим всегдашним величественным шагом и увидал толпу людей, человек этак двадцать, уставившихся на что-то сквозь решетку. Он сначала подумал, что они смотрят на новый рододендрон, бывший тогда в полном цвете и которым он очень гордился, и пошел медленнее, чтоб дать им время налюбоваться; думал даже не написать ли ему диссертацию по этому случаю, предполагая, может быть, что между рододендрами и полевыми лилиями было какое-нибудь соотношение. Бедный батюшка! Подойдя ближе, он начал удивляться, что никто не видит; но головы всех были так тесно прижаты друг к другу и они так пристально глядели! Батюшка вошел в середину толпы, намереваясь, говорил он, сказать, чтоб они пошли в сад вместе с ним налюбоваться вдоволь прелестным растительным произведением, когда… о, душенька! я дрожу, когда подумаю об этом… он сам посмотрел сквозь решетку и увидел… Не знаю право, что он подумал, но старый Клер говорил мне, что лицо его позеленело от гнева, а глаза так и засверкали из-под нахмуренных черных бровей. Он заговорил… да, как страшно!.. приказал им всем оставаться там, где они стояли… ни одному не уходить, ни одному не двинуться с места, и быстрее молнии очутился у садовой калитки, в тилбертской аллее, схватил бедного Питера, сорвал с него шляпку, шаль, платье и бросил подушку к народу через решетку, да так рассердился, так рассердился, что при всем народе поднял трость да и приколотил Питера! Душенька, эта шалость, в такой солнечный день, когда все было тихо и хорошо, разбила сердце матушки и изменила батюшку на всю жизнь, да, изменила. Старый Клер говорил, что Питер был так же бледен, как батюшка, и принимал удары безмолвно, как статуя. Когда батюшка остановился, чтоб перевести дух, Питер сказал: «Довольны ли вы, сэр?» совершенно хриплым голосом, и все стоя совершенно спокойно. Не знаю, что сказал батюшка… и сказал ли он, что-нибудь; но старый Клер говорит, что Питер обернулся к народу и сделал низкий поклон величественно и важно, как дворянин, и потом медленно пошел к дому. Я помогала матушке в кладовой делать настойку из скороспелок. Я не могу теперь терпеть ни настойки, ни запаха цветов: мне делается от них дурно, как в тот день, когда Питер вошел с таким высокомерным видом, как мужчина… право как мужчина, а не как мальчик. «Матушка!» сказал он, «я пришел вам сказать, Бог да благословит вас навсегда». Я видела, как губы его дрожали при этих словах и мне кажется, он не осмелился сказать ничего более нежного, по причине намерения, которое было на его сердце. Она посмотрела на него с испугом и удивлением и спросила, что это значит? Он не улыбнулся, не сказал ни слова, но обвил ее руками и поцеловал так, как будто не знал, как ее оставить; и прежде, чем она успела спросить его опять, он ушел. Мы толковали об этом и не могли понять; она приказала мне пойти спросить батюшку, что такое случилось. Он ходил взад и вперед с видом величайшего неудовольствия. «Скажи матери, что я прибил Питера и что он совершенно это заслужил». Я не смела делать никаких расспросов. Когда я сказала матушке, она опустилась на стул, и с минуту ей было дурно. Я помню, что через несколько дней, я видела, как бедные, увядшие цветы были выброшены в навоз, завяли и поблекли там. В этот год не делалось у нас этой настойки… да и после никогда, Тотчас матушка пошла к батюшке. Я подумала о королеве Эсфири и короле Ассуре, потому что матушка была очень хороша собой и пренежного сложения, а батюшка казался тогда так страшен, как король Ассур. Спустя несколько времени, они пришли вместе и тогда матушка сказала мне, что случилось и как она ходила в комнату Питера, по желанию батюшки – хотя не должна была сказывать Питеру об этом – чтоб с ним переговорить. Но Питера не было там. Мы искали по всему дому; нет Питера, да и только! Даже батюшка, который не хотел сначала сам искать, вскоре начал нам помогать. Дом пасторский был очень старый, весь в лестницах и вверх, и вниз. Сначала матушка звала тихо и кротко, затем, чтоб успокоить бедного мальчика: «Питер! милый Питер! это только я»; но, мало-помалу, когда слуги воротились, батюшка разослал их в разные стороны, чтоб узнать, где Питер. Когда мы не нашли его ни в саду, ни на сеннике и нигде, крики матушки становились все громче и сильнее: «Питер! Питер мой дорогой! где ты?» Она чувствовала и понимала, что его долгий поцелуй означал грустное «прости». День проходил… матушка все искала и искала без отдыха во всех возможных местах, которые осматривали уже раз двадцать прежде. Батюшка сидел закрыв лицо руками и не говорил ни слова; только когда посланные возвращались, не принося известия, он поднимал голову с грустным выражением и приказывал идти опять по какому-нибудь новому направлению. Матушка все ходила из комнаты в комнату из дому и в дом, тихо и неслышно, но все не переставая. Ни она, ни батюшка не могли оставить дома, бывшего сборным местом для всех посланных. Наконец (было уже темно) батюшка встал и взял матушку за руку, когда она ходила дикими, грустными шагами от одной двери к другой. Она вздрогнула от прикосновения руки его, потому что забыла все на свете, исключая Питера. «Молли!» сказал он «а я не думал, что все это может случиться». Он посмотрел ей в лицо для успокоения, в её бедное, расстроенное, бледное лицо; ни она, ни батюшка не смели признаться, какой ужас был в их сердце; не наложил ли Питер руки на себя? Батюшка не видел сознательного взгляда в горячих, сухих глазах жены; он не встретил сочувствия, которое всегда встречал, и этот твердый человек, видя немое отчаяние на лице её, заплакал горько; но, когда она это увидела, кроткая печаль блеснула в её глазах и она сказала: «Милый Джон! не плачь, пойдем со мной, мы найдем его», почти также весело как будто знала, где он. Она взяла огромную руку батюшки своей нежной ручкой и повела его – а слезы так и капали – без отдыха из комнаты в комнату, по дому и по саду. О! как я желала, чтоб приехала Дебора! Я не имела времени плакать, потому что теперь все лежало на мне. Я написала к Деборе, чтоб она воротилась, тайно послала человека в дом того самого мистера Голбрука, и бедного мистера Гольбрука!.. Вы знаете о ком я говорю. Я не хочу сказать, чтоб я послала прямо к нему, но я отправила человека, на которого могла положиться, узнать не там ли Питер. В то время мистер Голбрук бывал у нас часто… вы знаете, что он был кузен мисс Поль; он обращался так ласково с Питером, учил его удить рыбу; он был ласков ко всем и я подумала, что Питер, может быть, у него; но мистера Гольбрука не было дома, а Питера никто не видал. Наступила уже ночь, но двери были открыты настежь и батюшка с матушкой ходили взад и вперед; прошло уж больше часу, как он стал искать Питера с нею вместе, и не думаю, чтоб они говорили друг с другом во все это время. Я развела в столовой огонь и служанка приготовила чай: мне хотелось, чтоб они согрелись, когда старый Клер попросил позволения говорить со мной. «Я взял невод от мельника, мисс Мэтти. Закинуть ли нам в пруд сегодня или подождать до завтра?» Помню, что я уставилась ему в лицо и не понимала, что он хочет сказать, а когда поняла, я громко захохотала. Ужас этой новой мысли… наш милый дорогой Питер, холодный, окоченелый и мертвый! Помню еще теперь звук моего собственного смеха. На следующий день Дебора была дома, прежде чем я пришла в себя. Она была не так слаба, как я; мои крики (мой страшный смех кончился рыданиями) пробудили мою нежную, милую мать, расстроенные мысли которой пришли в порядок, как только её дитя почувствовало необходимость в попечениях. Они с Деборой сидели у моей кровати; я узнала по их лицу, что известий о Питере не было и никакой ужасной страшной вести, чего я больше всего боялась в моем смутном состоянии между сном и бодрствованием. Тот же самый результат всех розысков таким же точно образом облегчил матушку, которую, я уверена, мысль, что Питер, может быть, висит где-нибудь мертвый, заставляла вчера без устали искать его. Её кроткие глаза сделались совсем другими после этого; в них навсегда осталось беспокойное, алчущее выражение, как будто они отыскивали того, чего не могли найти. О! это было страшное время, вдруг разразившееся громовым ударом в спокойный ясный день, когда сирени были в полном цвете.
– Где мистер Питер? спросила я.
– Он отправился в Ливерпуль; тогда была там война; королевские корабли стояли в мерсейском устье; там обрадовались, что такой славный малый (пяти футов и девяти дюймов он был) сам предложил вступить в службу. Капитан написал к батюшке, а Питер написал к матушке. Постойте! эти письма должны быть где-нибудь здесь.
Мы зажгли свечу и нашли письма капитана и Питера. Нашли также умоляющее письмецо от мистрисс Дженкинс к Питеру, адресованное в дом старого школьного товарища, куда, она вздумала, может быть он пошел. Они возвратили письмо нераспечатанным, нераспечатанным оно оставалось с-тех-пор, положенное невзначай вместе с другими письмами того времени. Вот оно:
«Любезнейший Питер,
Ты, верно, не думаешь, как мы огорчены, а то, конечно, не оставил бы нас. Отец твой сидит и вздыхает, так что сердце больно сжимается. Он не может с горя поднять головы; однако, он сделал только то, что считал справедливым. Может быть, он был слишком строг, может быть, и я не была довольно ласкова, но Богу известно, как мы тебя любим, наш милый, единственный мальчик. Старый Дон (собака) так печалится о тебе: воротись и осчастливь нас, мы так много тебя любим. Я знаю, что ты воротишься».
Но Питер не воротился. Весенний день был последним, в который он видел свою мать. Та, которая написала письмо, последняя, единственная особа, видевшая, что там было написано, умерла давно, а я, посторонняя, даже не родившаяся в то время, когда случилось это происшествие, только одна распечатала его.
Письмо капитана призывало отца и мать в Ливерпуль немедленно, если они хотят видеть сына. По какой-то странной и частой случайности в жизни, письмо капитана было задержано где-то, как-то.
Мисс Мэтти продолжала:
– Это было время скачек, и все почтовые лошади в Крэнфорде отправились на скачки; но батюшка с матушкой сели в свою собственную одноколку… Ах! душенька, они приехали слишком поздно… корабль ушел! А теперь, прочтите письмо Питера к матушке.
Оно было исполнено любви, грусти и гордости. Гордился он своим новым званием. В письме заметно было болезненное чувство от посрамления в глазах крэнфордского народа; но кончалось оно горячей мольбой, чтоб мать приехала и повидалась с ним прежде, нем он уедет из Марселя: «Матушка! мы, может быть, пойдем в сражение. Я надеюсь, что мы пойдем колотить французов, но я должен вас увидеть до тех пор».
– А она приехала слишком поздно! сказала мисс Мэтти: – слишком поздно!
Мы сидели безмолвно, обдумывая полное значение этих грустных, грустных слов. Наконец я просила мисс Мэтти рассказать мне, как мать это перенесла.
– О! сказала она: – она была олицетворенное терпение. Она никогда не была слишком крепка, а это ослабило ее страшно. Батюшка часто сидел, пристально смотря на нее, гораздо грустнее, нежели она. Казалось, что он не может смотреть ни на что другое, когда она тут… (затушите свечку, душенька, я лучше могу говорить в темноте) матушка была женщина слабая, неспособная перенести такой страх и потрясение; однако она улыбалась ему и успокаивала его не словами, но взглядами и голосом, которые были всегда веселы, когда он был тут. И она говорила, что Питер может сделаться скоро адмиралом, он такой храбрый и умный; она думает, что увидит его в флотском мундире и желает знать, какого рода шляпы носят адмиралы; и как ему гораздо скорее пристало быть моряком, нежели пастором, и все таким образом, только затем, чтоб заставить батюшку думать, будто она совершенно рада, что так кончилось несчастное утреннее происшествие. Но, ах, душенька! как она горько плакала, когда оставалась одна; и наконец, делаясь все слабее, она не могла уже удерживать слез ни при Деборе, ни при мне, и давала нам поручения за поручениями к Питеру (корабль его ушел в Средиземное Море, или куда-то туда, а потом велено ему было плыть в Индию: тогда не было еще туда сухого пути). Но она все говорила, что никто не знал, где ожидает нас смерть и что мы не должны думать, что её смерть близка. Мы этого не думали, но знали, потому что видели, как она таяла. Ну, душенька, как это глупо с моей стороны, когда, по всей вероятности, я так скоро ее увижу. Только подумайте, душенька, на другой день после её смерти – она прожила не больше года после отъезда Питера – на другой день пришла ей посылка из Индии от её бедного мальчика. Это была большая, мягкая, белая индийская шаль, с узеньким бордюрчиком кругом, совершенно по вкусу матушки. Мы думали, что это пробудит батюшку; он сидел целую ночь, держа покойницу за руку. Дебора принесла к нему и шаль и письмо Питера и все. Сначала он не обратил на это внимания, и мы вздумали начать маленький разговор о шали, развернули ее и начали восхищаться. Он вдруг вскочил: «Ее надо похоронить с ней» сказал он – «Питеру это будет утешением, а ей было бы приятно». Ну, может быть, это было безрассудно, но что мы могли сделать или сказать? Огорченным всегда предоставляешь волю поступить по-своему. Он взял шаль в руки и ощупал ее. «Точно такая, какую она желала иметь, когда выходила замуж, и какой мать ей не дала. Я узнал это после, а то купил бы ей; но все равно, она получит ее теперь». Матушка была так мила мертвая! Она была всегда хороша, а теперь казалась прелестной, белой, как воск, и молодой… моложе Деборы, когда та стояла дрожа и трепеща возле неё. Мы завернули ее в длинные, мягкие складки шали; она лежала с улыбкой, будто это было ей приятно; и люди приходили… весь Крэнфорд приходил… попросить на нее взглянуть, потому что они очень ее любили и по справедливости; а деревенские женщины принесли цветов; жена старого Клера принесла белых фиалок и просила положить к ней на грудь. Дебора сказала мне в день похорон матушки, что если б у неё было сто женихов, она никогда не выйдет замуж и не оставит батюшки. Невероятно, чтоб у ней было их так много; не знаю даже, был ли хоть один, но тем не менее эти слова делают ей честь. Она была такою дочерью для батюшки, что не думаю, была ли другая такая прежде или после. Глаза стали у него слабы; она читала ему книгу за книгой и писала и переписывала и всегда была к его услугам по всякому приходскому делу. Она могла делать гораздо больше, чем делала бедная матушка; она даже один раз написала за батюшку письмо к епископу. Но он больно тосковал по матушке, весь приход это замечал. Не то, чтоб он стал меньше деятелен: я думаю, напротив, больше и терпеливее помогал каждому. Я делала все, что могла, чтоб дать Деборе свободу оставаться с ним; я знала, что не на многое гожусь и могу только услуживать другим и оставлять их на свободе. Но батюшка совершенно изменился.
– А мистер Питер возвращался ли когда-нибудь домой?
– Да, один раз. Воротился к нам лейтенантом, в адмиралы-то не вышел. И как они были дружны с батюшкой! Батюшка возил его ко всем – так им гордился. Мы всегда гуляли под руку с Питером. Дебора стала улыбаться (не думаю, чтоб мы когда-нибудь смеялись после матушкиной смерти) и говорила, что она теперь в отставке; однако батюшке всегда она была нужна: писать письма, читать или распоряжаться.
– А потом? сказала я после некоторого молчания.
– Потом, Питер опять ушел в море, а батюшка умер, благословив нас обеих и поблагодарив Дебору за все, чем она была для него, Разумеется, наши обстоятельства переменились; вместо того, чтоб жить в пасторском доме и держать трех служанок и слугу, нам надо было переехать в этот маленький домик и довольствоваться одной чернорабочей женщиной; но так как Дебора обыкновенно говорила, мы всегда жили порядочно, даже когда обстоятельства понудили нас жить просто. Бедная Дебора!
– А мистер Питер? спросила я.
– О, в Индии была какая-то большая война, я забыла, как ее называют, и потом мы никогда уже не слышали о Питере. Я сама полагаю, что он умер и меня иногда беспокоит, что мы не носили по нем траура. И потом опять, когда я сижу одна и все в доме тихо, мне кажется, будто я слышу его шаги по улице и сердце начинает биться и трепетать, но шум перестает… а Питера все нет. Не воротилась ли Марта? Нет! Постойте я сама пойду, душенька; я всегда могу найти дорогу в потемках. А свежий воздух у двери освежит мне голову; она у меня немного разболелась.
Она поплелась. Я зажгла свечу, чтоб придать комнате веселый вид, когда мисс Мэтти воротится.
– Это пришла Марта? спросила я.
– Да. А я чувствую маленькое беспокойство: я слышала такой странный шум, когда отворяла дверь.
– Где? спросила я, потому что глаза её были полны ужаса.
– На улице… за дверью… мне послышалось, что-то похожее на…
– Шепот? подсказала я, видя, что она несколько колеблется.
– Нет! на поцелуй…