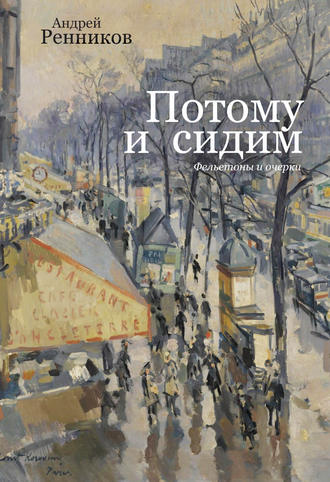
Андрей Ренников
Потому и сидим (сборник)
Новый соблазн
Вчера получил предложение от одной русской дамы: «Не хочу ли купить в рассрочку возле берегов Северной Америки маленький остров?»
– Мы уже давно ведем по этому делу переписку с Евгением Васильевичем, живущим в Нью-Йорке, – объясняет моя собеседница. – В каком именно месте океана расположены острова, к сожалению, не могу точно сказать. Кажется, недалеко от границы с Канадой. Но острова здесь очень уютные, лесистые, у каждого свой маленький пляжик. И, главное, рассрочка на много лет. Вы вносите небольшой задаток, а затем, по мере занятия рыбной ловлей, погашаете.
– Рыбной ловлей?… – задумчиво заинтересовываюсь я. – А много там рыбы, если не секрет?
– Какой же секрет? Масса! Евгений Васильевич пишет, что буквально кишит. Иногда кишмя, иногда не кишмя, – смотря по погоде. Но вообще, достаточно один только раз закинуть сети, чтобы прекрасно прокормиться неделю. Селедка, осетрина, лососина, треска, белуга, дельфины. Киты иногда попадаются. Жирафы…
– Жирафы?
– Да. А что? Мясо невкусное?
– Нет, отчего же… А киты сетями ловятся? Или на удочку?
– Разумеется, сетями. Что за вопрос! Конечно, если взять китовое бэби, совсем еще крошечное, может быть, оно и пойдет на обыкновенную удочку. Но киты тре з-аже[125] – тем нужны прочные сети. Ни один взрослый кит никогда не согласится запутаться в тонких сетях.
– Да, у каждой рыбы свое особое требование… – не желая вступать в спор с собеседницей, соглашаюсь я. – Хотя, знаете, удочка удочке рознь. Если дело, например, поставить рационально, и производить ловлю подъемными кранами, то киты едва ли будут иметь что-либо против… Установите лебедку на берегу, подвесьте на цепь крючок соответственных размеров, на крючок наживите осетрину или лососину… А остров вы уже купили? Или только в проекте?
– Пока не купили, но это вопрос одного-двух месяцев. Мы хотим сразу приобрести три островка, – я, Ляля и Муся. И обязательно рядом, чтобы ездить друг к другу в гости на лодке. Однако многие острова, к сожалению, уже раскуплены различными лицами. Нужно брать то, что осталось, вразброд. Два, например, есть рядом, а к третьему необходимо ехать мимо острова с негритянским поселком. В хорошую погоду пустяки, конечно. Но если застигнет, вдруг, буря… Да выбросит к неграм… Вы сами понимаете, что могут сделать черные с беззащитным белым созданием!
– Да, без суда Линча, пожалуй, жить будет трудно…
Собеседница передала мне еще кое-какие подробности об островах, которыми в последнее время увлекаются наши беженцы в Соединенных Штатах. И я слушал внимательно, слушал, и под конец стал даже завидовать…
– Ведь, вот повезло! Не только на землю люди сели, но на целый собственный остров! Не только никого знать не знают, но могут даже вывешивать свой собственный флаг, считать себя под протекторатом.
Наверно, уже многие отлично устроились, обзавелись хозяйством, живут… Какой-нибудь генерал образовал рыбно-консервный завод… Присяжный поверенный топит жир, поставляет в аптеки…
Сама-то дама, конечно, не поедет туда… Чувствую. Где ей совладать с огромной жирафой, когда та запутается в рыболовных сетях? Но почему бы мне не бросить Европы, не переселиться на остров?
Солнце, пляж, лес. Океан, тишина, легкий бриз.
Умываться не надо. Бриться не надо. Воротнички надевать – тоже. Дни текут – солнце всходит, заходит…
Нет известий. Политики. Нет новостей, самообманов, иллюзий. Ветер шумит. Море гудит. Рыба плещется.
Где-то вдали прошел пароход. Ну его к черту.
И блаженно лежишь на песке и не знаешь: понедельник, вторник, суббота? Пятое, двенадцатое, Двадцать четвертое? Девятнадцатый век, двадцатый, двадцать первый?…
Робинзон, настоящий Робинзон!.. И один. Не только без Пятницы, даже без Блигкена[126]! Не очарование ли?
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 20 июня 1928, № 1114, с. 2.
«Пол и характер»
Поистине, женщины осмелели за последнее время.
Давно ли эти нежные создания боялись мышей, дуновения свежего ветра, яркого солнца, крутых обрывов?
А теперь, подражая мужчинам, остригли волосы, побрили затылок, на ноги надели брюки-чулки, на голову котелок! И бьют рекорды почем ни попало.
Мужчина – на автомобиль, женщина – на автомобиль. Мужчина – вплавь, женщина – вплавь. Мужчина – в воздух, женщина – в воздух.
Раньше было между нами такое различие в поле и характере. А теперь – где у женщины пол? Один только характер!..
Помню я… В милое прежнее время. Маленький спуск, небольшой овраг, и все мужчины наперерыв предлагают свою руку, втайне рассчитывая также на сердце:
– Разрешите помочь?
Или растет на скале цветочек. Даме понравился. Галантный рыцарь, пыхтя, лезет наверх, рискуя свалиться, разодрать новый костюм.
А дама в восторге. На глазах чуть ли не слезы:
– Как любит! Как предан! Какое глубокое чувство!
Теперь с новыми женщинами молодые мужчины, наверно, не могут даже сообразить, как себя вести.
Предложить руку при спуске или самому опереться?
Сорвать цветочек или томно попросить:
– Мадемуазель, а не доберетесь ли вы до этих самых колокольчиков?
Слава Богу, что наше дело уже конченное, что мы, старики, излазили в свое время скалы, обслужили дам в обрывах, в оврагах, защитили их от крыс, от собак, от коров… Но какой страх вызывает во мне одна только мысль, что мог бы я родиться на двадцать лет позже, и должен был бы теперь в среде современных женщин искать невесту.
Не жутко ли?
Поедешь, например, на какой-нибудь европейский курорт… Познакомишься с милой особой, увлечешься…
А она, оказывается, боксер. Чуть что не по ней – трах, трах, трах – в физиономию. Лежишь, как Демпсей[127], весь в синяках, тяжело дышишь. И никак не можешь сообразить:
Слабый ты пол, или сильный?
Или красотка какая-нибудь приглянулась… Личико разрисованное, ноги точеные, руки резные, фигура лепная. Сидишь с нею на бережке Ламанша, смотришь в воду, начинаешь издалека наводить разговор на созвучие любящих сердец, затерянных в холодном житейском море.
А она предлагает:
– В таком случай, плывем!
– Куда?
– На ту сторону. В Англию!
И, оказывается, что рядом с тобой не кто иной, как чемпион плавания. Специалист по проливам: Гибралтару, Босфору, Па-де-Кале и Баб-Эль-Мандебу.
Женишься на такой – и одно только мученье. Сначала, после каждой семейной сцены, будет бросаться в воду, уплывать за горизонт. Зови ее, кличь, как золотую рыбку.
А потом потребует, чего доброго, что бы и ты тоже стал чемпионом. Начнет для обучения бросать с крутого берега в воду, вытаскивать, снова бросать.
А разведешься с пловцом, кинешься в объятия другой, а она авиатор.
Перелетает через океаны почем зря, кроме воздуха, никаких стихий не признает.
Квартиру наймет обязательно на шестом этаже. Заставит тебя ходить по карнизу вокруг дома, чтобы голова не кружилась. Станешь упираться, выволочет в окно, нацепит на решетку, чтобы висел, смотрел с шестого этажа вниз…
И кем бы ни оказалась такая современная жена, все равно: придется быть у нее не только под башмаком, но и под пропеллером, и под боксом, и под футболом.
А разве есть что-нибудь страшнее жены футболистки? Когда рассердится и начнет дома подкидывать ногами сервизы, кастрюли, цветочные горшки и тяжелые кресла?
Куда придет, в конце концов, человечество с такими энергичными женщинами, какие народились в последнее время, – сказать не берусь.
Должно быть, к матриархату, к гинекократии, при которой женщина – все, а мужчина – ничто.
Но, безусловно, недалек тот печальный день, когда про барышень с восторгом будут говорить:
– О, она бравый солдат!
А про застенчивого провинциального юношу:
– Кисейный молодой человек.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 23 июня 1928, № 1117, с. 2.
Прежде и теперь
Давно это было, но все-таки помню. Моей кузине Оле исполнилось шестнадцать лет.
Собственно говоря, в те времена подросток официально превращался во взрослую барышню в семнадцать лет. Но родители Оли были люди свободомыслящие, шестидесятники; дядя отличался недюжинным вольнодумством, мечтал о конституции, о мелкой земской единице. Тетя любила говорить об эмансипации, о курсах, о том, что такое прогресс с точки зрения Н. К. Михайловского.
И в силу всего этого в семье царил такой неудержимый либерализм, что не в пример прочим отсталым семьям, Оле было объявлено:
Сегодня она становится совершенно взрослой самостоятельной барышней.
Тетя поцеловала ее утром, перекрестила, сказала:
– Теперь иди, Олечка, туда, куда влечет тебя свободный ум.
И подарила новое платье.
А дядя тоже поцеловал, поднес роман Чернышевского «Что делать» и прибавил:
– Прочти, дитя мое, и постарайся, где только возможно, сеять разумное, доброе, вечное.
Состоялось тогда, как сейчас помню, огромное торжество. Гости весь день приходили, уходили, ели, пили, танцевали. Нанесли Оле подарков столько, что в беженское время хватило бы на двадцать пять барышень, включая родителей.
И, вот, вспоминаю свою беседу с кузиной в тот незабываемый день.
– Оля! – с восторгом сказал я, растягивая рукой воротник гимназического мундирчика, который нещадно давил мне шею. – Как, должно быть, ты счастлива! Сколько конфет поднесли!
– Ну что конфеты! – пренебрежительно проговорила она. – Разве в конфетах счастье?
– Конечно, не в конфетах, Оля, но там, ведь, не только одни леденцы! Там есть шоколадные. Там есть и засахаренные. Николай Федорович принес большую коробку тянучек… Ты, если захочешь, можешь наесться так, что живот заболит, Оля!
– Какой глупый малыш! – весело рассмеялась кузина, обмахиваясь платочком и победоносно оглядываясь по сторонам. – Для детей, может быть, конфеты и имеют значение. Но когда человек взрослый и совершеннолетний…
– Хорошо, а цветы? – не унимался я, желая передать Оле свое восхищение праздником. – Разве мало цветов? Петр Сергеевич принес гвоздики. Мария Михайловна принесла розы. В дядином кабинете так воняет резедой, лилиями и другими цветами, что дышать невозможно.
– Я, конечно, люблю цветы, – снисходительно заметила Оля. – Но что, в конце концов, цветы и конфеты? Разве ты не видишь, чурбан, самого главного? Какое платье я получила в подарок?
– Это? А что?
– На целых четверть аршина длиннее, чем раньше! Совсем, как у взрослых.
* * *
На днях был приглашен я на дачу к знакомым на семейный праздник.
Их дочери Оле исполнилось шестнадцать лет, и отныне она уже не Оля, а Ольга Константиновна.
Знакомые мои, хотя люди не очень консервативные, но и не чересчур либеральные. О мелкой земской единице забыли, о Чернышевском не вспоминают, что такое прогресс – сами постепенно узнают из личного ознакомления с беженской жизнью.
Утром, как оказывается, мама поцеловала Олю, поздравила, подарила новое платье, сказала:
– Носи осторожнее, пожалуйста!
А папа принес из кабинета новую книгу, любезно похлопал по обложке, проговорил:
– Вот тебе, Олечка, курс куроводства. Чтобы наши куры не дохли.
Торжество в общем вышло на славу. Целый день гости приходили, уходили, ели, пили, пели, танцевали. Было приятно видеть, как виновница торжества, сияя счастьем, носилась взад и вперед, делала пируэты, реверансы, угощала, занимала, хлопотала…
– Ну, что, Ольга Константиновна? – улучив время, когда «рожденница» подошла к моему месту, спросил я. – Вы довольны подарками?
– А что?
– Да посмотрите, конфет сколько! Есть не только леденцы. Есть засахаренные, шоколадные…
– Ну, вот! Что такое конфеты, когда человеку стукнуло шестнадцать?
– Не говорите, Ольга Константиновна. В шестнадцать лет конфеты тоже доставляют удовольствие, в особенности, если не самому покупать. А, кроме того, почему вы сказали: стукнуло? Это только в нашем возрасте стукает. Ну, а цветов тоже масса. Смотрите, сколько цветов! Я думаю, франков на сто, если не больше.
– Да, я люблю цветы… – снисходительно проговорила Ольга Константиновна, обмахиваясь платочком и победоносно оглядываясь по сторонам. – Они вообще… пахнут. Но вы, к сожалению, не заметили самого главного.
– А что?
– Моего платья. На видите? Не целых десять сантиметров короче, чем раньше! Совсем как у взрослых.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», 14 июля 1928, № 1138, с. 2.
Чужой лес
Сижу в Медонском лесу. Давно облюбовал я это чудесное местечко, среди берез и кленов. Сзади, по склону, живописно вьется тропинка, сдавленная цепкой ежевикой. Впереди – заросшая травой площадка с расходящимися в разные стороны дорожками. Зеленой стеной стоит вокруг скамьи молодая поросль, играя на солнце листвой. И какая-то птица в глубине леса поет, настойчиво заучивая первые пять нот из партии Зибеля[128].
«Расскажите вы», – ясно слышится. А кому – не хочет сказать. Только я и так понимаю. Конечно, «ей». За это говорит все: и горячее солнце, и ясное небо, и такой милый ласкающий ветер…
Сижу, смотрю на березы и, как всегда, в душе – радость и грусть. Так много воспоминаний будят родные белые пятна, окруженные нежностью тонких ветвей. И так больно чувствуется, что все-таки это не то; что все это чужое вокруг – и земля, и дороги, и небо, и птицы…
Вот, вдали, из-за поворота показалась группа французов. Целая семья… Дама, двое детей. Девочку мать ведет за руку; мальчуган, вооруженный деревянной саблей, кидается из стороны в сторону, с безумием Дон-Кихота накидывается на стволы старых лип.
Счастливцы! Они у себя. Дома. Это все – их. На лице у матери – установившаяся спокойная радость. У детей – уверенные движения будущих хозяев страны. Опьянены годами, родным солнцем, родным воздухом…
Дама останавливается на площадке, нерешительно смотрит назад.
– Ау! – сложив ладони у губ, громко восклицает она.
– Го-го-го! – отвечает откуда-то громовой раскатистый голос.
– Ау! Ау!
– Го-го-го!
Эхо ответило «го»… Птица с партией Зибеля смолкла. Воздух замер, погрузившись после резких сотрясений в истомную тишь. И, вот, вдали, на дорогу ввалилась грузная фигура со шляпой на затылке, с развалистым самодовольством в походке.
Счастливцы! Как непринужденны! Что значит – дома. У себя. На своей собственной родине.
…Он подходит, запыхавшись, сияет мокрым лицом. В одной руке большой сверток в газетной бумаге, длинный хлеб. В другой – бутылка, в которой булькает молоко.
– Сядем на скамью, что ли? – спрашивает он громко по-русски, подозрительно взглянув на меня.
– Там уже кто-то сидит.
– А что ж такого. Пусть подвинется. Не его здесь скамейка. Володька! Пойди сюда! Ишь, поганец. Ломает кусты. Аня, садись. Ляля! Хочешь молочка? А? Володька, пойди сюда! Тебе говорю?
Они садятся. Аня, Володя, Ляля и он. Он ближе всех. Настолько близко, что каждый очередной поворот его могучей спины грозит смахнуть меня со скамьи.
– Мама, а у нашей соседки родился ребеночек! – говорит почему-то Ляля.
– Ну, и отлично. Пей молоко. Ты кого это встретил, Сережа? Топорчикова?
– Нет, не Топорчикова. Ты не знаешь. Полковник де-Гурнель. Удивительная штука, все-таки. В последний рай в Севастополе виделись, потом потеряли друг друга из вида. И теперь, на тебе, неожиданно в Медонском лесу повстречались.
– Де-Гурнель? Русский?
– Русский, конечно. Симпатяга. А судьба у человека, действительно, странная. Володька! Оставь хлеб в покое! Не подбрасывай! Предки были французскими эмигрантами, во время революции бежали в Россию. А теперь, вот, потомок принужден от революции обратно бежать. Беженцем в своей собственной родной стране оказался. Здорово? Володька! Что я тебе говорю?
– Мама, а почему у соседки родился ребеночек? – не унимается Ляля.
– Так надо, деточка. Пей.
– А почему надо? Консьержка говорит, что соседка купила ребенка на Марше о Пюс[129], – хитро замечает Володька. – Только врет, дура. На Марше о Пюс продаются старые вещи, а ребенок совсем молодой… Наверно, просто в рассрочку купили.
Чтобы не мешать семейной идиллии, я встаю, вежливо приподнимаю шляпу и ухожу вверх, вдоль по тропинке.
– Слава Богу, ушел, – слышу облегченный вздох сзади. – И откуда такая масса французов в лесу? Не продохнешь.
Здесь, вдали от скамьи, на холме, среди огромных кустов, завитых плетьми ежевики, тихо, спокойно. Бесшумно продвигаюсь по мягкой траве, опускаюсь под тишь молодого платана.
Никого, слава Богу. Хорошо. Зеленым небом с просветами голубых звезд раскинулось дерево. В траве муравьи… Божья коровка села на башмак, с удивлением смотрит: пень или гриб? Сзади, в зарослях, треск ветвей, шуршание листьев. Кузнечики, стрекозы, наверно. А, может быть, зайцы?…
Чудесно… Очаровательно. И как жаль, что чужое! Божья коровка – французская. Муравей – французский. Стрекоза – тоже. Зайцы, кузнечики… Ла фурми э ла сигаль[130]…
Что это в кустах? Русские голоса?
– Значит, ты не любишь. Я вижу.
– Нет, люблю.
– В таком случай, почему не хочешь сказать?
– Неловко…
– Неловко? Мне? И тебе, Маня, не стыдно?
– Ну, хорошо… Так и быть… Дело, видишь ли, в том… Моя мама… То есть, я… То есть, мы обе, как ты знаешь, живем в одной комнате… Пополам. И если я выйду за тебя, и перейду, ей придется одной платить 300 франков… Ты понимаешь, что при заработке в 600 нельзя за комнату 300…
– Триста? Да. Это, конечно. Но, с другой стороны, неужели возможно, чтобы счастье расстраивалось? Нужно придумать что-нибудь, обязательно… Триста, шестьсот… А знаешь что? Не выдать ли твою маму за моего папу?
– Не говори глупостей, Витя.
– А что? Ей Богу, Елена Федоровна еще интересна. Папа у меня тоже… Крайний и бодрый. Мы их познакомим, поженим. И тогда – все отлично. Я с тобой, она с ним. Две комнаты, как были, так и останутся!
– Милый, как это было бы хорошо!
– Милая, даю тебе слово!..
Тишина. Смолкло все. Божья коровка расправила крылья. Не добившись истины – что такое башмак, улетела. Муравьи продолжали сновать.
Где-то птица снова запела «расскажите вы ей». И в кустах опять треск ветвей, опять шорох, шуршанье листьев.
Стрекозы это? Белки? Зайцы? Неизвестно. Чуждый лес… Чуждая земля. Французские муравьи. Французские стрекозы… Ла сигаль и ла фурми…
Грустно!
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 22 июля 1928, № 1146, с. 2[131].
Les ukres
Кто не помнит этого любопытного обычая, практиковавшегося в период горячих сельских работ на малороссийских базарах? Лежит в тени под возом приехавший наниматься батрак, спит. А на подошве его сапога мелом написано:
«Меньше двух рублей не будить».
Украинские сепаратисты, находящиеся сейчас заграницей, очевидно, разбужены. Кто-то предложил им два рубля 25 копеек и, вот, они встрепенулись, поднимаются. Гетманы берутся за булавы, кошевые за кошельки, хлопцы за люльки с капоралем[132].
А те, кто умеют писать письма турецкому султану, взялись за издание книг.
И агитируют.
Вот передо мною одна из подобных брошюр, выпущенная на французском языке в июне этого года, принадлежащая перу какого-то загадочного L.– V. Fransois. Озаглавлена брошюра: «L’Ukraine economique»[133], издана фирмой «France-Orient» и содержит в себе все богатства Украины, включая сюда карту территории, префас[134], перспектив-д-авенир[135] и опечатки.
О том, какие прекрасные железные дороги, судя по этой книге, самостоятельно построили украинцы на Украине, мы входить в рассмотрение не будем.
О том, какая у украинцев образовалась независимая от москалей индустрия текстильная, добывающая, металлургическая, химическая и вообще, «эндюстри диверс»[136], – тоже спорить и прекословить не будем.
Предположим, что всего этого Украйна быстро добилась в гетманство Скоропадского и в гетманство Петлюры.
Но, вот, что самое жуткое в книге, и что никак нельзя обойти молчанием, как заковыку, это происхождение украинского народа в трактовании господина Франсуа.
«В восьмом, девятом и десятом веках, – пишет почтенный автор, – на украинской территории находились остатки славянского народа, называвшегося Украми (Les Ukres). Вероятно, отсюда и произошло слово „Украина“, земля Укров, подобно тому, как Франкония означает землю Франков».
Конечно, негодовать на мсье Франсуа за изобретение такого народа, как «Юкры», бесполезно.
Раз человек хочет щеголять знаниями, никто его остановить не может. Пусть щеголяет.
Ведь был же несколько веков назад знатный западноевропейский путешественник, который после осмотра Малороссии тоже писал:
«Multi populi incolunt Russiam, nominantur chlopzi»[137].
Но, вот, кто обнаруживает полное щирое свинячество – это те запорожцы, которые стоят за порогом кабинета мсье Франсуа и науськивают его на такие этнографические экскурсы.
Зная характеры этих укров – Остряниц[138], Левицких[139], Александров Шульгиных[140] и прочих, я уверен, что это они, разбуженные кем-то при двух рублях двадцати пяти копейках, подбили автора на подобное дело.
В своем увлечении двумя рублями двадцатью пятью копейками, современные юкры готовы на все, лишь бы выполнить задание хозяев: отмежеваться от москалей.
Нужен юкрский народ, пожалуйста.
Нужны юкрские письмена, извольте азбуку, сильвупле.
В случае необходимости ничего не стоит потомкам Юкров организовать и свой Глозель[141]: нанести горшков, черепков, старых завьяловских[142]ножей, куриных костей, шлифованных камней с выцарапанными изображениями оленя и мамонта.
И выпустить даже научное исследование:
«Доисторические юкрские боги: Ой лихо не Петрусь, Черный ус, Горилка, Свитка, Вечорница».
Подделки, подтасовки, вранье и брехня (которая в переводе на русский язык обозначается ложь), настолько вошли в обиход юкров, что в конце концов перестаешь верить всему.
Вот хотя бы насчет автора книги. Может быть, он, действительно, чистокровный Франсуа. Но, может быть, бис його знае, просто на просто юкр.
Лев Васильевич Украенко, например.
Ведь, вам же известен теперь лингвистический принцип: Лэ Франсе – Франсуа. Ле з-юкр – Украенко.
А что юкры, в случае чего, если дадут два рубля пятьдесят, могут стать и французами, это легко видеть из самостийной юкрской литературы. Например, из трагедии Шиллеренко: «Орлеаньска Дива». Я помню хорошо, сам лично читал, как в этой трагедии, изданной в Киеве, Тибо д-Арк говорит:
«Сусидоньки, мы поки ще хранцузи!»
Так кто же гарантирует, что не может случиться обратное? что L.– V. Francois, – поки що не хранцуз, а чистокровный юкр, сусед Остряницы?
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 9 августа 1928, № 1164, с. 2.




