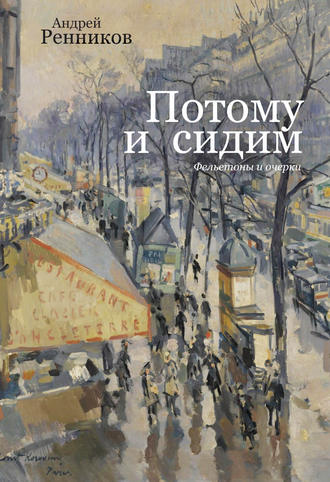
Андрей Ренников
Потому и сидим (сборник)
Из православного катехизиса
В нашем грустном беженском существовании, насыщенном взаимными распрями, полезно иногда углубиться в какую-нибудь книгу религиозного содержания, чтобы отдохнуть душой, забыть об окружающих печальных раздорах.
Я лично в этих случаях читаю подаренный мне Владыкой Митрополитом Антонием экземпляр «Опыта Христианского Православного Катехизиса». Катехизис издан в 1924 году в Сремских Карловцах, написан, пожалуй, несколько сухо, подобно катехизису Филарета – в вопросах и ответах. Но вторая часть – Нравоучение, – приносит при чтении большое утешение.
В особенности люблю я изложение седьмой заповеди блаженства: «Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся». Владыка Митрополит в простых и искренних строках исчерпывающе объясняет нам, христианам, как нужно проводить в жизнь этот завет Великого Учителя.
И, я думаю, подобные строки в настоящее время полезно прочесть или вспомнить многим. Вот, кстати, выдержка, взятая со страницы 122:
«Вопрос. Какая седьмая заповедь Господня для блаженства?
Ответ. Желающие блаженства должны быть миротворцы.
В. Почему велика добродетель миротворцев?
О. Потому что она не о том только печется, что связано с жизнью самого подвижника, но стремится как бы самое небо низводить на землю, дабы взамен злобы и ненависти, разделяющей людей друг от друга, „мир Божий, который паче всякого ума, соблюдала бы сердца людей“. Как и Сын Божий, „пришел, благовести мир вам (то есть всем людям) дальним и близким“.
В. Как достигается миротворцами столь благодетельное влияние?
О. Миротворцами бывают люди, исполненные высокого благочестия и ревностью о Боге. Общество, с которым они входят в соприкосновение, проникается подражанием их ревности о Боге и любви к ближнему, и тогда утихают их мелкие человеческие ссоры и взаимная злоба, имевшая место, пока у них не было высшей цели жизни. Так о первых христианах книга Деяний свидетельствует, что у них было „одно сердце и одна душа“.
В. Как сделать себя способными к прозрению доброго?
О. Должно прежде всего не осуждать ближних, а для сего обуздывать язык, затем должно молиться о них и удалять от души своей помысел тщеславия и властолюбия, дабы все доброе окружающей нас жизни направлялось не к нашей, а к Божьей славе.
В. Кто призван к подвигам миротворца?
О. Все христиане, но по преимуществу пастыри церковные, как преемники служения апостольского, о котором Церковь воспевает так: „союзом любве связуеми апостоли, владычествующеми всеми Христу себе возложше, красны ноги очищаху, благовествующе всем мир“».
* * *
Прекрасные слова! О, если бы им следовали до самых низших исполнителей.
«Возрождение», Париж, 12 декабря 1926, № 558, с. 3.
Детское чтение
Странные дети пошли теперь.
Помню, бывало, какое удовольствие доставляли нам рождественские книги-подарки! Получишь в блестящем переплете «Путешествия Гулливера» или «Робинзон Крузо» и оторваться не можешь. Спишь с Робинзоном, обедаешь с Робинзоном, умываешься с Робинзоном. Книга всегда неразлучно рядом, чтобы вор не украл. И какими счастливцами казались эти герои! Чего только ни вынесли: кораблекрушение, необитаемый остров, лилипутов, Гуним[57], Ягу…[58]
А на днях пришлось с десятилетним Митей, которому Степан Николаевич где-то по случаю раздобыл обе эти удивительные книжки, – и до сих пор прийти в себя не могу. Не понимает мальчишка прелести приключений! Прочтет страницу, другую… И протяжно зевает.
– Неужели не интересно? – сев рядом с ним на диван, с любопытством спрашиваю я. – Может быть, ты уже читал Робинзона?
– Нет, не читал. Но, знаете… Скучно. Мало особенных приключений. Вот дядя Федор Петрович, например, в Галлиполи целый год в турецкой могиле жил. Это я понимаю. Шикарно! А что такое пещера? Большая беда…
– Ну, брат… Мало ли кто из нас где жил. Но зато какое кораблекрушение у Робинзона! Не нравится разве? Буря. Волны как горы. Необитаемый остров… Не всякому путешественнику такая удача.
Митя презрительно поморщился, снисходительно покосился на меня.
– Мы с папой тоже от кораблекрушения тонули, – с достоинством проговорил, наконец, он.
– В самом деле? А где?
– На Черном море. Правда, я быль тогда еще совсем маленький, всего хорошо не помню. Но папа подробно расскажет, если хотите. Робинзону-то легко было: никто не мешал вылезти на берег. Махай себе руками и подплывай. А нас не пускали. Папа махает, кричит: «земля! земля»! А в ответ кричат: «нельзя!».
– Так, так… – озадаченно бормочу я, взяв из рук Митину книгу. Это, действительно, неприятно. Ну, хорошо… А как ты смотришь на охоту? Хотел бы поохотиться, как Робинзон?
– Конечно, хотел бы. Лук и стрелы я люблю. Только Робинзону что? Никто стрелять не запрещал. А когда мы приехали в Константинополь, а потом повезли нас на Халки, папа захотел один раз из рогатки застрелить гуся, так такой скандал был. Ужас!
С Робинзона разговор перешел на Гулливера. Со всей строгостью и скепсисом уже оформившегося беженца, Митя раскритиковал и произведение Свифта.
– Кто при высадке на берег сразу ложится спать, не узнав ничего о жителях и не предъявив карт д-идантитэ? – недоумевал Митя. – Кроме того, разве это умно, будучи великаном среди лилипутов, покорно таскать на веревках чужие корабли, а не объявить себя сразу царем?
Гулливер, по мнению Мити, вообще дурак: не организовал ни театра, ни ресторана, ни детских яслей, ни школы, ни газеты. Будь он русским, конечно, все это появилось бы. Мало того: Гулливер быстро бы научился ездить верхом на Гунимах, раз они лошади. А этот? Попадает из одной неприятности в другую и не знает даже, как убежать. Ждет, пока орел случайно не унесет его домик и не уронит в море… Размазня.
Видя, что литература приключений и путешествий не удовлетворяет духовных запросов моего молодого друга, я перешел на наших классиков. Стал расспрашивать: какие стихи Митя знает, знаком ли с Пушкиным, Лермонтовым? И с радостью убедился, что читал он не мало.
– В особенности люблю я, знаете, стихи про этого самого беженца… Как его? Демона. «Печальный Демон, дух изгнанья»… Вы читали? Я наизусть даже немного выучил: «и над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал»… Мы с папой тоже через вершины Кавказа пролетали, то есть знаете, переходили, когда из Кисловодска бежали. Мне было четыре года, но я помню, очень красиво. Шикарный снег был. И горы… Там тоже сказано: «Под ним Казбек, как грань алмаза красою вечною сиял». А, вот, погодите… Я вас спрошу…
Митя встал, направился к полке с книгами.
Ты что ищешь?
– А сейчас покажу… Мне Анна Ивановна задала урок. Пушкина. Нравится очень, но только так много русских иностранных слов, что не дай Бог. Анна Ивановна объясняла, но я забыл. А папе некогда. Помогите-ка!..
Митя раскрыл книгу на том месте, где был заложен карандаш, стал пробегать глазами строчки.
– Скажите, пожалуйста, что такое: на облучке?
– Облучок… Это… как бы тебе сказать? Ну, место, где сидит кучер.
– Ага. Шофер? Верно. А кушачок?
– Кушачок? Пояс такой. Из материи.
– Сентюр[59]. Она так и говорила. А кибитка кто? Лошадь? Тут, смотрите, такие штуки, что ничего понять невозможно: на дровнях, бразды, ямщик, салазки… Все иностранное.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 16 января 1927, № 593, с. 3.
Монолит
Случайно познакомился с одной старой русской нянюшкой.
Говорил с нею всего каких-нибудь десять-пятнадцать минут. А сколько приятных и бодрых впечатлений!
Это не доклад какой-нибудь о чингисхановской России. И не диспут записавшихся ораторов. Два дня прошло, а до сих пор живо стоит в глазах величественный образ крепкой старухи, звучит в ушах могучий русский язык.
Покупал я у бесконечного прилавка возле витрины каштаны. Сначала не обратил внимания, кто стоит рядом. И, вдруг, слышу:
– Эй, кордон, сивоплэ! Отпусти же меня, ради Создателя!
Оборачиваюсь, вижу: старушка. Морщинистое, но решительнее лицо. Глухое длинное черное платье, облекающее высокую, плотную фигуру. На голове вязаный платок, поверх седых, гладко расчесанных волос. И в руках – в одной веревочная сетка для покупок, в другой – толстая палка.
– Русским языком говорю тебе: апельсины комбьен[60]?
– Эн фран суасен кенз[61], мадам.
– Чего? Это сколько же? Ты мне, братец, зубы не заговаривай, табличку покажи. Один рубль семьдесят пять? Ишь ты! Чего ж так? Возле пляцы рубль пятьдесят серебром, а у вас семьдесят пять? А это комбьен? Ком са[62], мандарин?
Само собой разумеется, я не пропустил случая помочь соотечественнице. Поговорил с приказчиком, купил все, что требовалось и, провожая старуху по тротуару, разговорился.
Вернее, разговорился не я, а – она.
– Трудно вам, наверно, с языком, – сочувственно говорил я, с любопытством разглядывая загадочную внушительную палку. – Недоразумения часто бывают, неправда ли?
– А чего же им быть? – строго повернулась старуха. – Никаких недоразуменьев. Всегда случается, что русский прохожий поможет, как вы. А то, просто на цены смотрю. Слава Богу, народ ловкий: для православных везде таблички нацепляют.
– Ну, когда цены указаны, тогда, конечно, просто… А вообще…
– А вообще, чего с ними разговаривать! Плати только аккуратно и все. Остальное они сами хорошо понимают. Когда, бывает, не разберу их, что лопочут, кладу прямо на ладонь мелочь. Да говорю: «мусье, живо при[63]». Коли много берет, дорого выходит, я у него деньги назад отбираю, продукт возвращаю. А коли по-божески, не сопротивляюсь. Гляжу только зорко, чтобы не обсчитал. Да меня и знают-то все здесь. На что город неуклюжий, большой, а лавочники, можно сказать, все знакомые. С разных сторон только и слышишь: сова[64] да сова. Сначала, когда приехала, обижалась даже. Думала, смеются над старухой. А потом Екатерина Николаевна объяснила, что сова у них все равно, что у нас Бог в помощь. Такой уж чудной птичий язык.
– А вы откуда приехали? Из России?
– Эх-хе, из России. Когда мы из России? Семь лет. В Константинополе жили, в Болгарии жили, в Сербии жили, в Германии жили. Самая лучшая жизнь, разумеется, в Аранжеловаце[65]: на динар три яйца дают. Константинополь тоже ничего: за пиастр халвы огромный кусок отвалят, полфунта, не меньше. Но в Германии не понравилось. Хоть и служба была не трудная, и хозяева сурьезные, и жалованье приличное, а только не люблю я республику. Здесь во Франции, мне говорили, хоть принц есть, управляет, а у них что? После войны ни короля, ни генералов, ни войска. Можно сказать, одно «битте» и есть. Ну, я и испугалась, как бы не вышло чего. Уехала.
Мы прошли с нею до ближайшего угла, остановились, поговорили еще немного. В кратких, но выразительных словах она выяснила мне и свое отношение к Франции и вообще отношение к Европе. Город Париж, по ее мнению, безусловно недурной, жить можно, в особенности хороша теплая вода. Но движенье на улицах зато возмутительное. Никакого порядка, а главное толка. Один день ездят в одном направлении, другой день в другом. Ажаны[66], хотя народ и распорядительный, но все какие-то щуплые, бледные, не то, что наши городовые, кровь с молоком. Разве можно доверять таким штатским людям? И старуха, переходя улицу, надеется не на ажанов, а только на самое себя. Против такси носит всегда крепкую кизиловую палку и, в случае надобности, отбивается. Такси на нее, а она на такси… Только с такой палкой и можно спокойно выйти на парижскую улицу.
– А вы где живете сами? – прощаясь с соотечественницей, полюбопытствовал я.
– А тут недалеко. За Красными Воротами на Пушкинской улице.
– Это где ж? Авеню Виктор Гюго?
– Может у них и Гуго. А для меня Пушкинская. Где мне на старости лет в ихних названьях путаться!
Она протянула на прощанье руку, торжественно кивнула головой, угрожающе подняла палку, чтобы начать переход через улицу. И вдруг обернулась.
– Видели? – пренебрежительно мотнула она головой вслед даме, ведшей на цепочке большую собаку в наморднике.
– Что? Собака?
– Вот именно. Разве это собака? Ни кусает, ни лает, хвоста даже нет… А говорят, христьянская страна. Тьфу!
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 13 февраля 1927, № 621, с. 3.
Жаннет
(Стихотворение в прозе)
Она обещала зайти к шести. Клялась, что будет точна. Что бросит все – работу, детей, старую мать. Ровно в шесть позвонит у калитки…
Но башенные часы нашей пригородной мэрии давно пробили семь. Будто кто-то разбил семь чайных стаканов. Цветные кричащие сумерки кончились. Вместо них в небе – монотонная грусть лунного света.
А ее нет.
Нет Жаннет!
Я стою у окна. Притаилось дыхание. Слух и зренье взвели свой курок. Там, впереди, за забором, зеленый язык фонаря чертит дрожащую огневую диаграмму. За железной решеткой беззвучными клавишами застыл тротуар. В семь часов тут, в предместье, пустынно и тихо. Каждый шаг четок и резок.
Да, конечно, я услышу. У нее быстрая поступь. Увижу силуэт у поворота с горы: она высока и тонка.
Никого. Ничего. Не стучат за решеткой клавиши. Не играют на повороте тени со светом. Один зеленый язык трепещет и дразнит.
Нет ее! Где-то лает собака. Захлебнулась, взвизгнула, смолкла. В доме, напротив, открылось окно. Кто-то протяжно зевнул. Громко сказал:
– Ça y est[67].
Отошел. A ее нет.
Жаннет! В чем дело, Жаннет?
Я сажусь, достаю папиросу. Разве перечесть сегодняшний номер? Вот, лежит… Франко-советская конференция. Состав… Дальбиэз, Доссэ, Бастид, Шарль Барон, Филиппото.
Странная фамилия! Филиппополь. Гиппопотам. Гиппопотам. Лимпопо. Шарль Барон. Шарль Барон. Почему не маркиз? И Доссэ, как досье. И Сванидзе в составе. Не тифлисский ли? Тот? Дрались с ним, помню, в третьем классе гимназии.
Она?
Подбегаю к окну. Да, шаги. Быстрые. Женские. Ближе. Ближе… Сейчас у калитки. Должны замереть. Щелкает ручка.
Мимо!
Ах, Сванидзе! Два часа ждать. Как мальчишка. Погоди же, Жаннет!
Из окна, выходящего на балкон, виден Париж. Млечным путем, сорванным с неба, горит правый берег реки. Только там, где-то возле Трокадеро, симметрия ярких огней говорить, что это не небо. И внезапно загорающийся скелет гигантской башни подтверждает: не небо, нет. Не бесконечность, нет. Не вечность, нет. Ситроен.
Жаннет. Ну, когда же?
Четверть девятого!
Секундная стрелка бежит. Только она – честна, благородна: не скрывает намерений времени. А эти две – взрослые, тихие – притаились. Насторожились, как хищники. Будто ничего не случилось. Будто не уходят в провал прошлого дорогие часы и минуты. Она трогательна в своей наивности, эта маленькая, быстрая. Нет опыта жизни, не научилась обманывать. Жаннет, ах, Жаннет!
Написать что-нибудь? К черту? Какое писание! Лучше ходить взад – вперед. Время пройдет незаметно. Или в сад выйти. А вдруг она? Постучит осторожной рукой. Прислушается… Уйдет. Все пропало. Нет, нет. Делегацию дочитать. Состав. Шарль Барон или Граф, Лилипутто… Лимпопо… Досье и Доссэ. Сванидзе…
– Жаннет? Вы?
– Бонжур, мсье.
– Хороший жур! Девятый час!
Я бросаюсь вперед, протягиваю дрожащие руки. Она стоит в дверях смущенная, с виноватым лицом. Седые волосы растрепались. Бесцветные глаза горят испугом. И на морщинистых щеках – тревожная игра паутины, точно попалась неосторожная муха.
– Давайте, скорее!
– Извольте, мсье. Не сердитесь только. Я не виновата. Мой муж…
– Все равно!.. Некогда объяснять. Воротнички где?
– Здесь, мсье.
– А манжеты?
– Вот, мсье.
– Кладите сюда! Остальное на стул. Со счетом – завтра. Как не стыдно, Жаннет? У меня в девять часов заседание, я баллотируюсь в члены правления. А вы? До свиданья, мадам. Я должен раздеться!
– Спокойной ночи, мсье.
– Спокойной ночи, мадам.
Я лихорадочно срываю пиджак. Летят в сторону башмаки. Поезд отходит в половине девятого.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 23 марта 1927, № 659, с. 2[68].
Лэ нуво повр[69]
Ничто так не обогащает нашего брата-литератора, как хождение в гости.
Сидишь дома, кряхтишь, придумаешь что-нибудь такое исключительное, замысловатое, чтобы изумить мир…
А, между тем, тут же, чуть ли не рядом, у кого-либо из добрых знакомых жизнь сама бьет ключом, дает столько материалу, что хватит и на дантов Ад, и на полное собрание сочинений Марка Твена.
Взять, вот, хотя бы мою старую приятельницу мадам Короткину. Сколько в ее облике красок! И не внешних, это ерунда. А во внутренней сущности!
Прихожу, например, на Красную Горку с визитом и вижу: дама чуть не в слезах.
– В чем дело, Марья Сергеевна?
– Да, вот… Имажине-ву[70]… Был у меня только что Аминодор Семенович. Объяснил, как следует зарубежные дела… И теперь я вижу ясно, что напрасно исповедовалась и причащалась. Оказывается, наш священник – совсем не священник! Оказывается, от него давно ля благодать э парти[71]!
Успокаивать Марью Сергеевну мне пришлось довольно много и долго. Разъяснил ей вопрос, как умел, посоветовал не предаваться отчаянию, а затем, чтобы окончательно отвлечь в сторону, занялся десятилетней племянницей Леночкой, учащейся во французском коллеже.
– Ну, что, детка?… Хорошо идут твои занятия?
– Сертэнеман[72], мсье.
– Лена, отвечай по-русски, когда тебя по-русски спрашивают! – строго заметила тетка.
– А ты?
– Не твое дело. Я сама знаю, когда как говорить! – Имажинэ-ву, – снова жалобно обращается ко мне Марья Сергеевна. – Эта фийэт[73], Бог знает, как стала выражаться по-русски! Энкруайабль![74] «Я была пошедшая». «Я иду уходить»… В прошлое воскресенье на Пасху форменным образом меня опозорила. С утра пришли визитеры, довольно много народу. Между прочим, зашел почтенный казачий генерал. А тут как назло на улице кто-то под окном на дудке начал играть. Генерал спрашивает, что это такое, – я не могу объяснить, хотя и не раз слышала подобные звуки. А Леночка хлопает в ладоши, кричит: «Разве не знаете? Это маршан[75]! Продает козачье молоко!» Вы представляете мое положение? Фигюрэ-ву ма конфюзьонъ?[76] Генерал такой солидный, важный, должно быть, очень обидчивый… А она вместо козье – козачье! Пришлось извиняться… Объяснять, что это недоразумение. Влияние коллежа…
Увидев, что хозяйка вполне отвлеклась в сторону, я перешел к основному вопросу, который меня, как визитера, интересовал особенно сильно:
– А как вообще поживаете, Марья Сергеевна?
И тут-то Марья Сергеевна начала высказываться полностью:
– Ах, мон Дье, как поживаю! Разве здесь, на окраине города, возможно вообще поживать? Квартира, конечно, недорогая. Не спорю. Удачно нашла. Но зато что за ужас – эти черные кошки! Откуда они? Почему все обязательно черные? В России я так привыкла возвращаться домой, когда черная кошка перебежит дорогу… А тут – тороплюсь утром к метро, у меня дела возле Прентан[77]. И непременно какая-нибудь черная кошка – навстречу. В первые дни пробовала каждый раз возвращаться. Из булочной выбежит – я назад. Из бистро вылезет, – я назад. Подойду к воротам, трону рукой, выхожу обновленная… И снова встречаю. Ну, в конце концов, пришлось, конечно, сдаться, прекратить всю борьбу. Пришлось просто зажмуриваться, делать вид, что не видишь. Но вы представляете, как тяжело изменять старым традициям? Вы понимаете, как обидно отрывать от себя кусочки прежнего «я?» Да будь у меня те средства, как были тогда, – я бы не ни одной пяди из своих убеждений! Я бы твердо хранила заветы, чтобы в неприкосновенности донести себя до России…
Но что делать, когда повретэ[78]! Что делать, когда живешь только на то, что присылает брат из Америки! Я, само собой разумеется, не завидую богатым, если они богаты давно. На вот нуво риш[79]… Против них я почти большевичка. Нажились на войне, на всеобщем развале, разъезжают в ото[80]… И теперь они нуво риши, а я почему-то нуво повр[81]… Почему нуво повр? С какой стати? Где справедливость, дит-ка муа[82]?
* * *
Я возвращаюсь от Марьи Сергеевны, как всегда полный материала и красок. И ясно чувствую: сам никогда не выдумаешь ни «ля благодать э парти», ни «козачьего молока», ни «нуво повров». Да, обязательно нужно ходить за темами в гости, бывать у знакомых.
Жаль будет только, если перестанут, в конце концов, принимать…
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 6 мая 1927, № 703, с. 2.
К познанию России
Это, в конце концов, обидно.
Мы, русские, с детства стараемся как следует изучить географию Западной Европы, ее реки, острова, полуострова.
Зубрим до изнеможения иностранные неправильные глаголы.
Следим за западными авторами, не только современными, но даже за Расином и Буало.
А они, европейцы, считают изучение Восточной Европы делом ниже своего достоинства.
И, кроме генерала Харькова[83], знать ничего не хотят.
В то время, как даже Турция нашла в Европе своих романистов-бытописателей, у нас, у России нет ни своего Пьера Лоти[84], ни Клода Фаррера[85]. Самым большим европейским знатоком русских обычаев был, должно быть, Жюль Верн[86]. Да и тот почему-то заставлял своих героев ездить на Нижегородскую ярмарку в шубах.
Не помогает знакомству с Россией и нынешнее положение вещей, когда в главных европейских городах основною частью населения сделались русские беженцы.
Казалось бы, чего проще: встретить на улице кубанского казака в папахе и спросить, что он пьет из самовара: водку или пиво?
Или зайти в редакцию эмигрантской газеты и справиться для постановки фильмы из русской жизни:
– Над каждым ли петербургским великокняжеским дворцом на крыше стоит деревянный резной петушок? Обозначает ли слово «nitchevo» нужную доверчивость молодой девушки, или же, как слово «Vassilievitch», характеризует жестокость мужского характера?
Вот передо мною случайно два номера французских изданий: «Либертэ» от 5 июня и выпуск бульварного журнальчика «Ле кри де Пари».
«Либертэ», сообщая читателям маршрут летчиков Кост и Риньо[87], следующим образом перечисляет русские города, реки и горы в направлении с запада на восток: «Двинск, Холм, Галич, Уральский хребет, река Ока, Байкальское озеро». А журнал «Кри де Пари», со снисходительной иронией описывая жизнь русских эмигрантов в Париже, говорит вперемежку с другими благоглупостями:
«Здесь в Париже, между прочим, находятся и два русских поэта – члены Российской Академии: Бельмонт и Бубин».
Конечно, мы русские, варвары. Точнее говоря, простые татары.
Однако, где, в каком самом варварском русском журнале мы встречали, чтобы Мопассана кто-нибудь назвал Монпансье, а Альфреда Мюссе – Манфредом Пюс?
А разве солидная татарско-русская газета когда-нибудь напечатала бы у себя маршрут летчика, направившегося из Читы в Париж, в таком виде: «Чита-Москва-Страсбург-Биарриц-Сена-Монблан-Париж»?
Мы, татары, перед тем, как писать об Европе, все-таки заглядываем в карту, предварительно читаем что-либо, спрашиваем очевидцев, ездим сами, тщательно записываем названия, фамилии. Обязательно заходим при этом в библиотеку. А европеец считает, что русский быт, русская география и русские имена могут создаваться непосредственно в кабинете, за письменным столом, или вблизи наборной машины.
И беззастенчиво передвигает Холм за Двинск, Оку за Урал, российское население сажает под клюквенную тень, заставляя Бельмонтов пить пиво из самоваров, а Бубиных кутаться в шубу для поездки на Нижегородскую ярмарку. Мы, русские журналисты, конечно далеки от того, чтобы обижаться на своих европейских коллег за подобное невнимательное отношение к русской географии и к русским фамилиям.
Что поделаешь!.. Бубин, так Бубин – это для Бунина беда небольшая. Бальмонт тоже не пропадет, если будет Бельмонтом.
Но вот что опасно для самих иностранцев: это полное незнание Оки и Урала.
Ведь, может быть, оттого Кост и Риньо и не долетели до Читы, а сели в Нижне-Тагильске, что руководствовались географией «Либертэ»?
Думали, что уже Чита, раз Ока позади, а оказалось Урал. В более крупном масштабе то же самое происходит с европейцами и в ознакомлении с большевизмом в России.
Помогали генералу Харькову вместо того, чтобы помочь генералу Деникину.
И до сих пор смешивают Кремль с кремом, Сокольникова-Бриллианта[88] с жемчужиной царской короны, а Христю Раковского[89] считают пострадавшим боярином, у которого Иван ле Террибль отобрал дворец с петушком.
Нет, безусловно нельзя ни взыскать старых долгов, ни благополучно найти какое-либо сорти[90], блуждая в таком лабиринте.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 13 июня 1927, № 741, с. 2.




