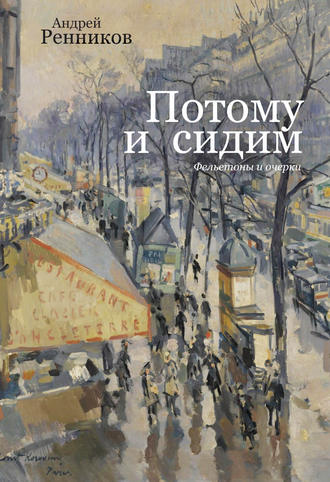
Андрей Ренников
Потому и сидим (сборник)
Покинутая земля…
Я не согласен с изображениями Нового Года в виде невинного дитяти, которое стоит с пальмовой ветвью в руке у закрытой двери под первое января и благоговейно стучится:
– Можно?
Новогодние дети, посылаемые нам теперь к январю, совсем не невинные дети. Никакой пальмовой ветви в руках у них сейчас нет; и совсем они не похожи на святых христианских младенцев.
Это скорее бесы, каждому из которых страстно хочется дорваться до земли и поиграть ею на ее орбите в футбол.
Быть может раньше символ невинного ребенка и подходил к Новому Году. Но меняется жизнь, изменяются образы. Мне представляется, например… Ночью под первое января у старика Хроноса собирается целый сонм планетарных спортсменов: выстраивается целая команда темных языческих духов и решается срочно мировой вопрос:
– Кому теперь играть землею, оставленной Богом на произвол Мойры?
Старый год возвращается к полуночи запыленный, грязный, в рваных футбольных ботинках. Он вытряхивает от пыли материков Старого и Нового Света свой спортивный костюм; сушит у огня трусики, попавшие в лужу Средиземного моря; соскабливает с ботинок грязь, и кровь, и ил болота, прилипшие к ногам во время бега.
А молодой новый бес уже бросился в 12 часов вниз на орбиту. И катит землю. И бьет ее грубым носком башмака, подталкивает каблуком, придавливает коленом. Что ему, если ударом подошвы он сотрет с лица земли целую страну? Так толста эластичная оболочка мяча, что игра не нарушится. И кровь миллионов людей – только легкая испарина, не видная планетарному глазу.
Каждый год теперь играет Новый Год землею в футбол. Отлетел дух Христа – и языческий Хронос отдает ее своим духам, устраивающим в небе марафонские, истмийские и олимпийские игры. Не священная обитель теперь земля, данная образу и подобию Бога: просто шар. В меньшей части поверхности – сухой, в большей части – грязный и мокрый. Нет величия центра в нем: он песчинка мировой пыли во мраке. И ненужная жизнь на поверхности: она плесень.
Вертится мяч в ногах языческих духов. Мечется вокруг себя, не находя конца вращению, не находя смысла движению. Дрожит под ударами бесовских ног, гудит под пятой веселящихся. И когда, наконец, снова появится невинное дитя?
Когда, наконец, снова у двери нового года станет святой ребенок с пальмовой ветвью в руке, постучится благоговейно в чертоги Бога? Когда, наконец, Господь Бог, вырвав мяч из-под ног бесноватых, оботрет его мантией своей от крови и грязи, возьмет любовно в руки, чтобы обратить снова в свою Державу, вдохнет дух Христа и передаст в полночь Новому Году со словами:
– Иди, мое дитя?…
«Новое время», рубрика «Маленький фельетон», Белград, 14 января 1923, № 517, с. 7.
Omnia mea mecum porto[19]
Над Европой как будто опять нависают грозовые тучи всеобщей войны. В воздухе пахнет кровью и порохом. Все квартирные хозяйки Старого Света с тревогой смотрят на свои швейные машины и мягкую мебель, которые может отнять нападающий враг.
И только мы, русские беженцы, как истинные философы, спокойны, величественны и невозмутимы.
Мы в большей части своей – Муции Сцеволы, которых достаточно пытали за честь родины. Нам многое не страшно. Мы – воссоздатели древнегреческого и римского стоицизма. Мы, пожалуй, иногда не только стоики, мы даже циники. Но не простые циники, а циники-философы в хорошем старом смысле этого слова. Основатель цинической школы Антисфен ходил в рваном плаще и гордился этим. Гордимся и мы. Диоген снимал для жилья пустую винную бочку и был весел; подобные помещения занимаем и мы. И тоже не плачем.
И если Диоген, на вопрос великого македонского царя – что он хотел бы получить в дар, – ответил:
– Отойди и не заслоняй света солнца…
То и мы, на все предложения великой Европы через доктора Нансена, говорим:
– Спасибо, нам в бочке хорошо. Не мешайте смотреть на небо.
Наша беженская философия – не та никчемная философия, которой занимались наказанные впоследствии чеховские герои. Это и не барская философия Льва Толстого, вызванная в своем вегетарианстве несварением желудка, а в непротивлении злу – слишком безопасной жизнью под охраной российской полиции.
Наша беженская философия именно древнегреческого героического типа. Точно также, как наша религия теперь – религия мучеников первых веков. Мы не философы-профессора, и не философы-помещики, а настоящие претворители философии в жизнь, проповедники действием, учителя – личным примером.
Великая, действительно, вещь в мире – отсутствие вещей! Человек, обрастающий домом, конюшнями, гаражом, гардеробом, уже не человек, а беспомощный кокон, из которого каждая смелая рука может извлечь шелк себе на платье, а куколку выкинуть и раздавить, как червяка. Человек, органически связанный с вещами, тем меньше человек, чем больше вещей. И во всей этой компании – со многими дюжинами белья, костюмов и статуэток на полках – неизвестно, в конце концов, кто кого влечет, и кто кем управляет: статуэтка человеком или человек статуэткой.
То ли дело один чемодан и в одном чемодане одна смена белья! Такой человек – царь природы. Он господин на земном шаре, он полубог.
На нем нет рабской неповоротливости от тяжести цепей, прикрепленных к ногам в виде двадцати пар запасных ботинок; он не пришиблен дубовой мебелью, навалившейся на его плечи; не бросает его в пот от всех одежд, верхних и нижних, надетых сразу на одно тело; и не стоит он, увязнув по пояс в собственной земле и не имея возможности двинуться с места, когда вокруг – весь Божий мир и земной шар, такой удобный для ходьбы, потому что круглый.
Я не проповедую этой беженской философии для широких демократических масс. Демократ, лишенный вещей, становится обычно не полубогом, и не царем природы, а просто вором или попрошайкой. Но мы, беженцы, смотрящие на культурные блага не по-демократически снизу вверх, а аристократически сверху – мы именно углубляемся, совершенствуемся, возвышаемся.
Диоген тоже не родился в бочке, иначе был бы не философом, а мелким жуликом. Антисфен не штопал плаща не потому, что был так воспитан. Жизнь толкнула русского беженца в Диогенову бочку. И он в бочке высидел мысли, которые делают его богаче македонских царей.
Вот и война может быть… Все притаились: кто у кого стянет мебель, корову и паровоз? Я или он? Всем страшно прежде всего за разбитые стекла, за горшки, за матрас двуспальной кровати. А мы философски смотрим на Европу поверх квартир и сорных ящиков и ищем ответа только на один вопрос:
– Если будет война, кто победит наконец: дух или материя? Люди или их угнетатели – вещи? Человек или его враг – грязный сапог?
«Новое время», рубрика «Маленький фельетон», Белград, 19 января 1923, № 521, с. 3.
Беженская философия
Пять лет тяжелого пребывания в эмиграции, очевидно, сильно углубили нас. Где былое цепкое отношение к движимому и недвижимому имуществу? Где жадное устремление к призрачным земным благам? Прежде – такая дрянь, как дорогие безделушки на этажерке, приводили нас в волнение. Мы охали, стонали, умилялись… А сейчас – подарите беженцу дорогую вазу или статуэтку Венеры Милосской, и он не на шутку рассердится:
– Куда я ее поставлю? На умывальник?
Отношение наше к вещам теперь настолько недоверчиво-критическое, что сравнительно с нами сам основатель критицизма Кант – чистейший материалист. Он все-таки признавал «вещь в себе», «вещь для себя». А мы отрицаем. «Вещь в себе», как недоступная по цене, нас мало интересует: «вещей для себя» мы стараемся приобретать, как можно меньше, чтобы легче было передвигаться в Уругвай или Парагвай. И, таким образом, мы, эмигранты, действительно настоящие философские идеалисты, не признающие за вещами никакой реальной данности, считающие их результатом игры человеческого представления о мире, наваждением призрачной витрины с заманчивыми дорогими товарами. Будучи идеалистами в теории познаний современной цивилизация, мы, однако, не афишируем слишком своего презрения к внешнему миру. Ведь, казалось бы, беженский жилищный вопрос легко мог привести нас к диогеновской квартирной идеологии. Точно так же отсутствие приличных костюмов могло толкнуть нас в объятия Антисфена, наивно гордившегося дырами на своем плаще. Словом, несмотря на все благоприятные данные, мы не сделались в практической жизни циниками; из презрения к вещам – не считаем нужным создавать философской рекламы.
Ведь, Диоген, сидя у бочки, исключительно ради тщеславия, попросил Александра Македонского отойти в сторону, не заслонять солнца! А мы, будучи и мудрее, и проще, сидя у входа в гнилище, наоборот, как ни в чем не бывало готовы зазвать внутрь кого угодно из почетных гостей:
– Не выпьете ли чайку?… Чем Бог послал… Пожалуйста!
Точно так смешон в наших глазах, если даже не жалок, основатель кинической школы Антисфен. Увидавши этого заносчиваго молодого человека, нарочно одевавшегося в лохмотья, Сократ как-то сказал про него:
– Смотрите: сквозь дыры плаща Антисфена проглядывает тщеславие. Но будь Сократ жив сейчас, он внимательно бы осмотрел наши пиджаки, продолжения, полюбовался бы тщательно пригнанными цветными латками на протертых местах… И, наверное, с благоговением воскликнул бы, обращаясь к Платону:
– Клянусь гусем, Платоша, вот это – философы!
* * *
Все, что сказало мною до сих пор об углублении беженской мысли, – несомненный наш плюс. Но стремление к философичности, если его не сдерживать в должных рамках позитивизма, неизбежно ведет к метафизике. Иногда, конечно, метафизика и не приносит вреда. Это в тех случаях, когда она соответствует определению Вольтера: «один говорит, не понимая сам, что говорит; другой слушает, и делает вид, что понимает сказанное».
К такого рода невинной беженской метафизике можно отнести доклады на наших спиритических обществах, заседания членов учредительного собрания, меморандумы русских хлеборобов в Германии, статьи в «Днях», декларации правительств Дона, Кубани и Терека… Рассуждения о легитимизме в газете «Стяг»…
Но иногда метафизика, долженствующая парить на высотах, бурно врывается, вдруг, в жизнь, производя смущение в умах встревоженных слушателей. В этих случаях она запутывает в узел ясный смысл существования беженца, вносит разлад в его мироощущение, осложняет самоанализ, ставит лицом к лицу перед неразрешенным проклятым вопросом…
И вот об одном из таких тяжелых примеров увлечения метафизикой мне на днях как раз сообщил в письме из Берлина приятель. Собрались на заседание почти все русские, проживающие в городе, дебатировали долго и горячо вопрос о том, как назвать себя: беженцами или эмигрантами? И довели автора письма до того, что он уже вторую неделю забросил дела, мрачно ходит взад и вперед по Унтер-ден-Линден[20], расталкивает испуганных немцев и все решает, решает:
– Кто же он в конце концов? Беженец? Эмигрант? Эвакуант?
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 20 декабря 1925, № 201, с. 4.
Гимназист ширяев
(с натуры)
Большая перемена кончилась. В ожидании преподавателя ученики спешно просматривают текст урока, сверяя его с подстрочником. Прежде когда-то, в России, такие подстрочники можно было достать в каждом книжном магазине за пять копеек. Но теперь, в беженское время, никто печатных подстрочников не издает, приходится платить бешеные деньги гимназисту восьмого класса Синицыну за экземпляр, оттиснутый на гектографе.
– «В то время как солдаты, построив каре, стали защищаться… – торопливо бормочет, склонившись над партой Ширяев, – на крик быстро сбежалось около шести тысяч Моринов… Цезарь послал, между тем, на помощь своим всю конницу из лагеря»…
– Иван Александрович, вечером дома будете?
– Да… А что?
Ширяев поднимает бледное, обросшее густой бородой, лицо. Растерянно смотрит.
– Хотим с женой к вам нагрянуть. Елена Сергеевна приглашала… Сегодня суббота, ведь.
– Ах, да! конечно… Omnem ex castris equitatum[21]… Будем очень рады auxilio misit[22]… После урока сговоримся… Хорошо? А то вчера я… не успел…
– Ну, ну, зубрите. Ладно.
Гимназия, в которую поступил осенью этого года Ширяев, одно из тех учебных заведений, которые открыты для детей русских беженцев гостеприимными сербами. Правда, не для всех желающих хватает места. Но и то слава Богу. Кроме того, при приеме нет лишнего формализма… Правительственный член комиссии, сербский профессор, когда Ширяев подавал прошение о желании экзаменоваться для поступления в седьмой класс, – сначала было встревожился. Но затем вспомнил о России, с состраданием посмотрел на всклокоченную бороду будущего ученика, вздохнул:
– А вы знаете, мсье, что у нас правило: старше девятнадцати лет в седьмой класс – нельзя?
– Знаю, профессор.
– Так как же?
– Мне как раз девятнадцать. В июле исполнилось.
В данном Ширяеву разрешении подвергнуться испытаниям для поступления в седьмой класс, профессор, в конце концов не раскаялся. Хотя на экзамене по физике Ширяев старался уклоняться от теоретических вопросов, налегая, главным образом, на полет ядер в воздухе, на равенство действия противодействию во время атаки и на кинетическую теорию распространения удушливых газов, а на экзамене по русской литературе все время сворачивал св. Даниила Заточника прямо на Блока и Бальмонта, зато результат испытания по географии совершенно растрогал профессора. На вопрос русского преподавателя, – что испытуемый может сказать про Центральную Африку и реку Конго, Ширяев любезно ответил:
– О, очень много… Если у вас есть часок свободного времени, могу рассказать, как мы в позапрошлом году работали на притоке Конго – Касае на бриллиантовых приисках. С племенами Бакуба, Лулуа, между прочим, хорошо познакомился. А от Басонго и по Санкуру, тоже плавал… До Лузамбо. Желаете?
* * *
Преподаватель Петр Евгеньевич бодpой походкой вошел, сел за кафедру, записал, кого нет в классе.
– Ширяев, пожалуйте.
Держа в руке четвертую книгу Цезаря «De bello gallico»[23], Иван Александрович молча пробрался с «камчатки» вперед, покорно стал возле кафедры, открыл 27-ю главу.
– С какого места урок?
– Cum illi orbe facto[24], Петр Евгеньевич.
– Хорошо. О чем говорилось раньше, знаете?
– Да… Триста воинов с транспортов Цезаря, отбитых непогодой от остальной, возвращавшейся из Британии, эскадры, высадилось… В области Моринов… Ну, и вот, Морины напали.
– Так. Читайте текст.
Иван Александрович, медленно, спотыкаясь на длинных словах, не всегда произнося «ae» как «э», дошел, наконец до отчеркнутого в книге места. «Paucis vulneribus acceptis complures ex iis occiderunt[25]» – вытирая со лба выступившие мелкие капли, облегченно закончил он. И затем начал переводить.
– Ну, вот, отлично, отлично… – с довольным видом откинулся на спинку стула Петр Евгеньевич. – Теперь скажите, Ширяев: что особенного вы заметили во всем вами прочитанном?
– Ablativus absolutus[26], Петр Евгеньевич.
– Где?
– Paucis vulneribus acceptis.
– Paucis?… Да, верно. И «orbe facio» тоже… Но я спрашиваю не про грамматические особенности, а про смысл. Что говорят про эту 27-ю главу комментаторы Цезаря? Помните?
– Не знаю, Петр Евгеньевич.
– Я же в прошлый раз рассказывал, кажется. Нехорошо!
– Меня не было на прошлом уроке, Петр Евгеньевич.
– Ага. Очень жаль. Ну так вот, имейте в виду: в истории военного искусства сражение с Моринами, так сказать, классический случай. Подумайте сами: пехота, численностью в триста человек, отражает натиск шеститысячного неприятельского отряда, в котором, главным образом, действуют кавалерийские части. Гений Цезаря, как видите, вдохновляет его войска и тогда, когда он не присутствовал лично. Момзен в своей «Римской истории» указывает, например, что Цезарь в умении держаться против более сильного неприятеля превосходит даже Наполеона. А Наполеон – это не шутка. Вы, впрочем, легко можете сообразить: 300 римских солдат с одной стороны и 6000 Моринов – с другой. Один против двадцати. Повторите же, что я сказал, Ширяев.
– Что повторить Петр Евгеньевич?
– О подвиге. Вообще. И мнение Момзена… В частности.
– Простите, Петр Евгеньевич, но не повторю.
– Что такое?
– Не согласен… С комментариями.
Петр Евгеньевич встать. Негодующе поправил пенсне.
– Ширяев! Прошу повторить! Немедленно! – тонким голосом выкрикнул он. – Не забывайте, что вас против правила приняли! С бородой!
– Хорошо, – покраснев, угрожающе захлопнул книгу Цезаря Ширяев. – Я повторю, но при условии: если вы выслушаете про высадку наших дроздовцев у Хорлов. Или, если хотите, другой случай: как горсточка марковцев, алексеевцев и корниловцев в пешем строю раскатали кавалерийский корпус Жлобы. Вы сами отлично знаете, как мало нас было. А корпус Жлобы хотя и большевицкий, почище Моринов, все-таки!
* * *
Звонок прозвонил один раз – к перемене. Прозвонил второй раз – к уроку. А перед доской, на которой были помечены немецкие колонии Северной Таврии и проведены из разных пунктов длинные белые стрелы, стояла восторженная гудящая толпа семиклассников, во главе с Петром Евгеньевичем. И вдохновенный бас Ширяева гремел на весь класс и ближайшую часть коридора:
– Ну, и метались они, канальи, с севера на юг и с юга на север до тех пор, пока почти полностью не били уничтожены. Только, штаб вместе со Жлобой, к сожалению, успел ускользнуть. Но мне с моим батальоном нельзя было идти в погоню. Не хотел обнажать флангов.
«Возрождение», Париж, 5 апреля 1926, № 307, с. 2[27].
Беженец переезжает
I.
Не знаю, кто из наших балканских беженцев был первым, открывшим Париж. Быть может, это какой-нибудь простой казак из Кубанской дивизии, соблазнившийся рассказами о том, что по парижскому метро можно целый день кататься в разных направлениях, не вылезая на поверхность земли и не беря нового билета. Или это был кто-либо из беженских буржуев, которому ценою золотого портсигара захотелось утонченно и красиво прожечь свою жизнь. Или, наконец, этот «неизвестный эмигранта» был всего-навсего полу-грибоедовской полу-чеховской барышней, сидевшей в сербском курорте «Вранячка Баня» и, за не имением Москвы, вздыхавшей о Париже и о Франции по формуле «нет в мире лучше края».
Словом, кто-то был первым… А потом, естественно, поехал второй. Третий. И так до двадцать тысяч сто сорок восьмого. В конце концов, странно даже было видеть, как срывались с насиженного места почтенные уравновешенные беженцы, имевшие интеллигентный труд и менявшие его на какую-то писчебумажную фабрику или металлургический завод.
Тяга во Францию дошла в общем до того, что сербы стали принимать отъезд русских как политическое оскорбление:
– Ренегаты.
* * *
Если бы социолог Г. Тард подождал еще лет двадцать и не умер, его исследование «Законы подражания», пополненное главою «Беженские переселения», безусловно вышло бы солиднее и убедительнее.
Это совершенная неправда, будто беженец передвигается по земному шару исключительно только в поисках заработка.
Во-первых, русский человек движется прежде всего потому, что ему вообще хочется двигаться.
Во-вторых, русскому человеку тяжело переменить место только в тех случаях, когда нужно, например, слезть с кровати и подойти к столу, чтобы написать письмо с двумя придаточными предложениями. Но если уж он случайно слезет да очутится за воротами, то кончено – не остановить.
И, в-третьих, наконец, подражательность. Не стадная, безотчетная, какая-нибудь приводящая к согласованным движениям и часто полезная в социальном смысле.
Нет, совсем не такая, общечеловеческая, а специфически русская:
– Что? Петр Владимирович уехал в Париж и воображает, что он один это может? Эге!
И на основании «эге» едет уже Георгий Леонидович. А получив письмо от Георгия Леонидовича, Дмитрий Андреевич никак не может успокоиться.
– Мусинька, – возмущенно говорит он жене, – неужели я хуже Георгия Леонидовича?
– По-моему, ты гораздо лучше, Митенька.
– Так за чем же дело стало?
И через три месяца Дмитрий Андреевич уже мечется по парижским улицам, стараясь не попасть под авто, а в ближайшее воскресенье торжественно идет на рю Дарю к русской церкви, чтобы испытать острое наслаждение при виде изумленного и негодующего лица своего географического соперника.
– Это вы? Как так? Не может быть!
– То-то и оно, что может!
* * *
К чести своей должен сказать, что против эпидемии переселения во Францию мне удалось продержаться целых два года. Конечно, обидного было немало… Борис Алексеевич, например, в своих письмах ко мне всегда как-то ехидно подчеркивал: «у нас в Париже» или «мы, парижане».
Петр Петрович тоже дразнил. Ценами: «У вас, в Белграде, за три динара дают один мандарин; здесь же за эти деньги семь-восемь». А Николай Николаевич соблазнял уже с другого конца: «Я знаю, дорогой мой, что у вас в Белграде много личных врагов, в особенности среди политических друзей. Приезжайте же сюда. Здесь очень хорошо – не три группировки, а тридцать три. Совершенно не будете чувствовать, никогда не разберетесь, кто вам друг, а кто враг». Капля за каплей долбили мою славянофильскую стойкость эти ужасные, манящие вдаль, парижская письма.
Действительно, как устоять против перспективы иметь в умывальнике кран с теплой водой? Или проехать в такси три версты за четыре франка, то есть девять динар? А тут, как на зло, меня и моего друга Ивана Александровича, с которым мы давно делили и горе, и радости, и комнату пополам, дернула нелегкая обзавестись собственным хозяйством. Наняли около королевского дворца в центре города небольшой флигелек возле ворот огромного барского дома, купили кровати, посуду, ведра, плиту с духовкой. И начали самостоятельную, как будто бы идиллическую, но на самом деле грозную и бурную жизнь.
Утром таскали воду, днем кололи дрова, по вечерам вытряхивали трубы, чтобы печь не дымила. А в промежутках что-то угарно жарили на плите, стирали белье, гладили. И в придачу, каждые три минуты стук в дверь:
– Молим… Где живет Влада Живкович? Где нанимает комнату г-жа Ильич? Где квартирует профессор Павлович?…
– Ваня, – уныло сказал я, наконец, своему другу, промывая йодом раненый во время колки дров палец. – Ты не замечаешь, что публика принимает нас за дворников?
– Ну так что ж? Пусть себе принимает.
– Обидно, все-таки, Ваня. Если бы домохозяин платил, еще ничего бы. А бесплатный дворник… Это унизительно. Кроме того, когда же мне удастся писать свои статьи?
– По ночам, очевидно.
– Но ночью здесь такой собачий холод! Не могу же я одновременно и писать, и топить печь!
– А у тебя разве одна рука? Придвинь стол к плите, одной рукой пиши, другой подкладывай… Чудак, не умеешь устраиваться!
Я даже удивляюсь, как это случилось, что одна и та же мысль пришла нам в голову одновременно. Должно быть в силу конгениальности, как у Ньютона и Лейбница. Но как-то раз вечером мы грустно сидели за чаем, прислушивались к вою вьюги, забаррикадировавшей огромными сугробами выходную дверь нашей комнаты, обсуждали вопрос, у кого попросить воды для умывания, так как кран во дворе примерз, не откручивается. И вдруг Иван Александрович как-то мрачно осмотрелся по сторонам, с ненавистью взглянул на купленные кровати, посуду, плиту… И загадочно прошептал, придвинувшись ко мне:
– Бежим, а?
– Бежим!
– Куда только?
– Все равно… Куда легче дадут визу. По линии наименьшего сопротивления властей.
«Возрождение», Париж, 22 января 1926, № 234, с. 3.
II.
Весть о том, что мы с Иваном Александровичем уезжаем в Париж, облетела русский Белград со скоростью распространения света. Это не значит, конечно, что мы с Иваном Александровичем люди в высшей степени замечательные. Когда уезжал Решеткин, было как раз то же самое. И Пирожков переезжал точно также при всеобщем смятении. Просто в Югославии, за отсутствием разумных развлечений, каждое необычное движение соседа всегда вызывает в русской колонии яркий общий рефлекс. И рефлекс этот происходит по всем правилам физиологии нервной системы: сначала местное возбуждение и легкое подергивание языка у нервных дам, затем рефлекс симметричной стороны – в левом лагере, если событие произошло в правом, или в правом лагере, если событие касается левого; и, наконец, генеральный рефлекс, во всей колонии:
– Как? Что? Почему? Давно ли? Куда? Не сошел ли с ума? Может быть замешана женщина?
До меня очень скоро стали доходить тревожные слухи. Надежда Ивановна раз сказывала, будто Софья Николаевна сама слышала, как Юлия Валентиновна передавала, будто Георгий Константинович уверял, что я еду работать в «Парижский Вестник» и буду пропагандировать заем Раковского[28] у французов. С другой стороны, в «Эмигрантском комитете» тоже стало точно известным, что группа парижских помещиков решила выпускать во Франции боевую черносотенную газету под заглавием: «Землю назад!» И пригласила меня заведующим шахматным отделом.
Самым невинным из всех слухов, о которых мне ежедневно сообщала по секрету Елизавета Владимировна, был слух о том, будто я уезжаю из-за колокола, пожертвованного супругой Николы Пашича[29] русской белградской церкви. Действительно, так как местное сербское духовенство препятствовало поднятию этого колокола, а Министерство веры, наоборот, настаивало, и русские очутились в щекотливом положении, то бывший посланник В. Н. Шрандтман[30], в качестве председателя приходского совета, вышел из затруднения так: предложил после поднятия колокола звонить в него «дипломатично, корректно и тихо», чтобы не раздражать соседних сербских священников. Так как, по слухам, мне было обещано, что я первый ударю в поднятый колокол, то предложение г. Штрандтмана меня глубоко оскорбило. Говорят, что между нами с глазу на глаз произошло бурное объяснение. Что я потребовал от Штрандтмана, чтобы он сам взял веревку и показал, какой звон можно считать дипломатичным. И так как посланник отказался от этого, заявив, что у меня самого должен быть достаточный такт, чтобы определить на Балканах силу удара, я, возмущенный, ушел из Совета, послал отказ от звания члена и решил немедленно покинуть Белград.
Как бы то ни было, но в одном русская колония оказалась права: Иван Александрович действительно начал осаждать учреждения, от которых зависит перемещение беженцев по земному шару. И меня даже тронуло, как чуть ли не со слезами на глазах одна почтенная беженка уговаривала нас не уезжать.
– Что вы делаете, господа? Ведь вас похитят в Париже большевики! Не читали историю про грузина?
Писать о мытарствах с визами теперь, на шестом году беженства, старо и не модно. Вопрос этот разработан лучшими эмигрантскими умами уже настолько глубоко и всесторонне, что останавливаться на нем совершенно не стоит. Гораздо тяжелее и острее для выезжающих из Югославии беженцев другой проклятый вопрос: как вывезти обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Или как получить разрешение на переезд через границу, имея в чемодане серебряную ложку.
У нас с Иваном Александровичем, например, есть две серебряные реликвии. У меня – подстаканник, подаренный во время эвакуации старухой-кормилицей. У Ивана Александровича вещь поменьше, но тоже валюта: серебряный двугривенный. На вывоз обоих этих предметов роскоши требуется разрешение Высшего Таможенного Совета. А до подачи прошения в Совет, необходимо еще удостоверение русского консула, что двугривенный вывезен именно из России, а не куплен в Белграде как сербское производство.
– Брось, Ваня, глупости, – мрачно говорю я, видя, как друг мой сидит, склонившись над столом, и прилежно составляет подробную опись монеты.
– Охота из-за двугривенного, в самом деле!
– А твой подстаканник!
– Я его везу контрабандой, конечно.
– Как? Что? Контрабандой? Я не еду, в таком случае! Не терплю незаконных поступков!
Весь ноябрь и декабрь, уже имея визы, мы нервно ждали ответа таможни. Иногда нам казалось, что разрешение вот-вот будет на днях. Тогда я торопливо говорил другу:
– Тащи, Ваня, дрова. Топи во всю… Не оставлять же домохозяину целых полметра!
И мы снимали пиджаки, расстегивали ворот рубахи… Вздыхали. Но топили, топили до головокружения. А потом, вдруг, оказывалось, что заседания Таможенного Совета насчет подстаканника и двугривенного совсем не было. Даже неизвестно, когда будет. И я мрачно бурчал, видя, как друг копошится у плиты:
– Куда суешь? Опять? Что за наказание, Господи? Прямо не печка, а прорва!
День отъезда, наконец, назначен. Взяты даже билеты. Сначала предполагалось шикнуть: на деньги за проданные кровати проехать в Ориент-Экспрессе. Затем, однако, раздумали: не лучше ли просто во втором классе? После этого, вдруг, одному из нас, не помню именно, кому, пришла идея: а хватит ли на второй класс? Разложили, подсчитали, увидели, что перевоз двугривенного и подстаканника уже обошелся нам в 50 франков, вспомнили также, совершенно случайно, что в Париже за отель тоже придется платить, и остановились на третьем.
В третьем, пожалуй, даже удобнее. Дерево всегда гигиеничнее материи и, кроме того, полиция будет спокойнее, зная, что мы – российские буржуи, не рабоче-крестьянская власть.
Накануне отъезда интимная группа друзей чествовала нас прощальным обедом. В первый раз я испытывал это грустное чувство – быть объектом прощально-обыденного торжества. Временами мне казалось, будто я покойник, и надо мною кто-то причитает и плачет. Временами, наоборот: ясное, твердое ощущение, что я юбиляр. Подобная действенность, подобное качание настроения между поминками и заздравными тостами так меня расстроило, что я прослезился даже…
А наш общий друг, беженский любимец, Сергей Николаевич, сидел возле, и увещевал, чтобы мы крепко держались против парижских соблазнов:
– Не прожигайте жизни, смотрите!
– Не прожжем, Сергей Николаевич, будьте спокойны.
– Не поддавайтесь угару и вихрю наслаждений, прошу вас!
– Не поддамся, Сергей Николаевич.
– А, главное, не швыряйте деньги направо-налево. Это так легко там в Париже. Ваше здоровье, господа! Счастливой дороги!
«Возрождение», Париж, 25 января 1926, № 237, с. 3.
III.
Странная вещь. Как ни трудно нам жить, как ни старается судьба сбить с головы беженца последнюю шляпу, сорвать с ног единственные ботинки, но против буржуазности нашей природы, очевидно, бессилен сам рок. То пристанет к нам какой-то кофейник, то неожиданно появится в хозяйстве чайник. А за ними, глядишь, постепенно пробираются в комнату примус, спиртовка, вазочка для цветов, неизвестно откуда взявшийся слоник, подкова на счастье. И вещи, выигранные на беженских благотворительных лотереях: детская вязанная шапочка, подушка для иголок, акварель г-жи Дудукиной в золотой раме под стеклом.
Кажется, английская пословица (при чем тут национальность?), говорит, что великий человек только при переезде узнает, как он богат. В самом деле, мы никак не ожидали с Иваном Александровичем, что у нас будет с собой столько поклажи. Не ожидал, очевидно, этого и кондуктор, когда два носильщика стали по очереди вваливать в вагон одну корзину за другой, один чемодан за другим.




