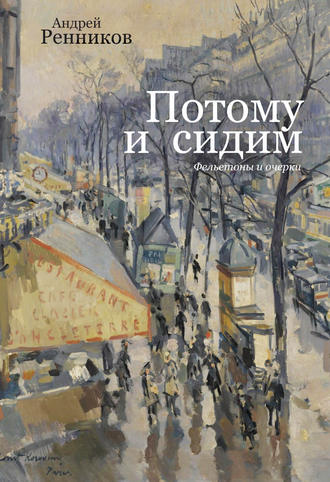
Андрей Ренников
Потому и сидим (сборник)
– Это что, экскурсия? – строго спрашивает он, уставившись подозрительным взглядом на пальто Ивана Александровича, из-под мышек которого ослепительно сверкает недавно вычищенный медный самовар, наша краса и гордость.
– Да, археологическая, – обрадовавшись идее кондуктора, соглашаюсь я.
– А где остальные?
– Билеты берут.
В сущности, конечно, мы могли бы из всего взятого с собой, половину бросить в Белграде. Например, на что мне металлическая коробка от монпансье? Или смычок от скрипки, украденной большевиками?
Но на коробке до сих пор еще видны потускневшие слова «Блигкен и Робинсон»[31]. Когда-то, давно, там, покупал к монпансье, чтобы рассыпать их в цветные бонбоньерки… Невский был залит огнями… Предпраздничная толпа, мелькание фыркающих саней, у «Европейской гостиницы» синяя сетка… «Ваше сиятельство, пожалуйте…»
Разве можно бросить такую коробку? Или смычок, который вел вторую скрипку в квартетах Бетховена?
– А на голову мне не упадет? – тревожно озирается сидящая на скамье старая сербка.
– Не беспокойтесь, господжо… Это все мягкое. Тюфячок, подушки, ночные туфли…
– А куда вы едете? В Великий Бечкерек?
– В Париж, мадам. У Париз!
* * *
Вот теперь только, глядя в окно и видя уходящие, быть может, навсегда, для меня, знакомые сербские станции, я чувствую, что родство со славянами – не звук пустой.
Сознаюсь: ворчал на сербов за пять лет не мало. Электричество потухнет – «ох, эти Балканы»… Водопровод не действует, – «Азия»… И они, должно быть, тоже честили меня, как могли. «Упропастил свою Руссию»… «Пусть путует обратно»… «Надоел этот избеглица»…
А сейчас расстаюсь, и грустно, грустно… Все же свои. Настоящие свои! Как из большой семьи, где нет уже ни мамы, ни папы, и где продолжают друг друга крепко любить, иногда переругиваясь, иногда даже делая взаимно мелкие гадости.
Я, например, могу сам бранить сербов сколько угодно. Но французу, итальянцу, или немцу, ни за что не позволю. Да и серб тоже так. Будет уменьшать русскому жалование, набавлять цену на комнату. А как затронута честь «майки Руссии», или достоинство русских братушек, в драку полезет. Ведь сорок тысяч беженцев приютила у себя Югославия; приютила не так, как многие другие: «черт с тобой, живи и аккуратно плати». Десять тысяч человек принято на государственную службу. Чиновниками, инженерами, офицерами, врачами. Инвалидам оказывается помощь. Дети учатся на казенный счет. Престарелые получают пособие… А если многие соседи по квартирам – сербы и русские – провинциально надоели друг другу, то разве большая беда? Без сомнения, лишь только пробьет час, и русские двинутся общей массой к себе на восток, никто не будет на земном шаре так трогательно и нежно прощаться, как сербы с русскими, или русские с сербами. Цветы, платки, поцелуи… Слезы на глазах. И взаимные сердечные возгласы на перроне:
– Не забывайте, пишите!
Будь я сейчас в пределах Югославии, я никогда не написал бы таких теплых строк. Расхваливать хозяев, сидя у них же в гостях, едва ли прилично. Но поезд уже подошел к самой границе. Никто не заподозрит меня в грубой лести. И последнего сербского чиновника я встречаю в вагоне особенно нежно.
– Шта имате да явити? – смущенно краснея, спрашивает он, стоя в дверях купе третьего класса и нерешительно показывая глазами на наши корзины.
– Нищта, господине… Само домашни ствари. Позвольте… Ба!
– Это вы? – изумленно всматривается в меня чиновник.
– Полковник Бочаров! Неужели?
– Он самый… Не узнали в форме? Куда едете? Далеко? Вот приятная встреча!..
«Возрождение», Париж, 31 января 1926, № 243, с. 2.
IV.
Всем, едущим из Парижа в Югославии или обратно, не бесполезно знать, что у них будет пересадка на австрийской станции Шварцах.
Так как пересадка эта предстояла нам ночью, в 4 часа, то, конечно, я предварительно подготовил к этому событию всю кондукторскую бригаду поезда, объяснив, насколько мне спешно нужно в Париж и насколько сильно пострадает русская эмиграция во Франции, если я просплю Шварцах и попаду в Мюнхен.
До Великой войны я свято верил в аккуратность немцев и в точное соблюдение данного ими честного слова. Но мы знаем, как изуродовала народные характеры война. Румыны бросили играть на скрипке, занявшись большою политикой, греки боятся голых классических ног, турки содрали с голов фески, французы стали меланхоличными, русские – подвижными, англичане – многословными.
Ясно, что коренная перемена должна была произойти и в немцах, тем более, что с изменением контура границ государства всегда изменяется и его психология.
– Поставь-ка, Ваня, будильник, – посоветовал я, раскрывая один из своих чемоданов. – В эпоху всеобщего расцвета демократизма, нам лучше всего рассчитывать на свои собственные скромные аристократические силы.
И, может быть, такое общее суждение было слишком сурово. Но что делать, когда русскому беженцу уже восемь лет совершенно не на кого положиться на земном шаре?
На что благожелательно относится к нам Лига Наций… А и то, когда Нансен получил в Советской России концессию, ведь нам ничего не перепало от этого полярного филантропа!
Кондуктор-австриец, конечно, опоздал. Вернее, не опоздал, а спокойно сообщил о прибытии на Шварцах только тогда, когда поезд уже остановился, а мы, открыв все окна коридора, начали ураганный обстрел станции своими вещами. Будильник, молодчина, оказался аккуратнее и точнее всякого немца. Поставленный на пол, он за час до прибытия лихо залился буро-малиновым звоном. А так как у него есть дурная привычка вертеться и бегать, пока звон продолжается, то вышло даже слишком торжественно. Вынырнув из-под скамьи, он кинулся в соседнее купе к какому-то почтенному немцу, быстро поднял его на ноги, пострекотал над ухом испуганно бросившейся бежать старой тирольки и, выдержав неожиданную борьбу с фокс-терьером, запрятанным старухой в корзину с бельем – с победным призывом прошелся взад и вперед по всему коридору.
– Пора соединяться с Германией? – воскликнул спросонья, протирая глаза, мой сосед шваб. И сконфузился.
* * *
Когда то, лет пятнадцать назад, я проезжал этот путь – Зальцбург, Инсбрук, Букс, Цюрих… не было со мною тогда пустой коробки от Блигкена и Робинсона, чайника, металлической кружки, и в кармане неопределенного документа, обидно начинающегося словами: «le présent certifcat n’est pas[32]».
Был тогда я гражданином Российской Империи, на меня без всякого соболезнования смотрела встречная немецкая старуха, не качал головой, вздыхая, долговязый спортсмен, влюбленный в свои лыжи и в снежную наклонную плоскость.
С Россией вежливо разговаривали не только короли и министры, даже дежурные буфетчицы на глухих пересадочных станциях и те с подобострастным любопытством подавали кофе, «bitte schon!»
Жалость даже к личной неудаче иногда оскорбляет. А тут – майн герр с птичьим пером на голове жалеет сто миллионов людей… сто миллионов!
Дурак.
Что осталось таким же, как раньше, – зелено-голубой Инн, дымящаяся пургой скалы у неба. Тот же черный сосновый лес, с проседью снега в волосах, те же гримасы голого камня, улыбка и ужас, застывшие некогда, в ожидании завоеваний революции земной коры.
Толпы белых гигантов, ярко-синее небо, голубая река. И лиловые провалы ущелий… Не изменилось ничего! Только лыжи новые у тех, что беспечно скользят там, вверху, да люди, должно быть, другие. И разве можно нам бояться за нашу Россию?
Какая-то случайная дрянь царапает русский снег, скачет в восторге… А мы испугались: погибла земля!
* * *
– Вы русские?
– Да.
Это с нами после Букса начинает беседу какой-то жизнерадостный швейцарец, едущий в Цюрих. Лицо круглое, розовое, налитое. Наверно или купец, или мелкий политический деятель.
– Ну, что же: когда у вас большевизм кончится?
– Трудно сказать, мсье.
– Удивляюсь! Такая громадная страна и терпит насилие со стороны какой-то кучки каналий.
Этот аргумент – самый веский в устах иностранцев. На всякое другое замечание легко ответить с достоинством. Но, действительно почему такая большая страна терпит насилие со стороны такой небольшой кучки каналий, я сам часто недоумеваю. Конечно, террор, сыск, шпионаж. Да. Но террор против армии! Это как-то неубедительно: бедненькие несчастненькие солдатики… Политкомы их обижают, власть оскорбляет, а они, беззащитные, терпят и терпят…
– Вы не знаете, что такое коммунистическая организация, мсье, – защищая достоинство чересчур терпеливого народа, говорю, наконец, я. – Эта компания умеет пользоваться всеми средствами для сохранения власти.
– Да, да, отлично знаю. Но, все-таки, этих людей не так уже много в России.
– Зато они в центрах, мсье. И весь аппарат в их руках. А население, сами знаете, разбросано, не организованно, безоружно.
– Ну так что-ж, что разбросано? Вот, здесь, в нашей Швейцарии… Горы тоже разъединяют население. Верно? А, между тем, Вильгельм Телль у нас был!
Он встает, вздыхает, снимает с полки чемодан. Поезд подходит к Цюриху.
– Вы наверно не знаете, с кем разговаривали, мсье, – после ухода добродушного пассажира говорить мне с улыбкой молчаливо сидевший до сих пор в углу молодой швейцарец.
– Да, не знаю, конечно…
– Это, цюрихский домовладелец… Штейнберг. По национальности еврей.
– Что вы сказали?
– Еврей.
«Возрождение», Париж, 4 февраля 1926, № 247, с. 4.
V.
Наконец, мы в Париже. Нырнули с Гар-де-л’Эст в океан человеческих тел, зацепились за случайный утес какого-то серого отеля, под которым непрестанно шумит прибой автомобильной волны… И исчезли для родных и знакомых. Растворились.
Кто нам нужен в этом мировом центре, и кому мы нужны, до сих пор мне не ясно. Но раз другие бегут, озираются, вскакивают на лету в автобусы, проваливаются под землю в метро, и считают все это величайшей мудростью и достижением в жизни, значит, так надо. Будем и мы достигать.
Конечно, за десять лет скитаний по югу России и тихого балканского существования в эмиграции я отвык от шума и грохота больших городов. Научился переходить улицу, не отрываясь от дум, которые овладевают на тротуаре. Иногда даже останавливался посреди мостовой, когда внезапно приходила в голову любопытная идея, доставая из кармана блокнот, записывал афоризм или сентенцию. Еще лет пять, восемь, такой мудрой и тихой жизни, кто знает, быть может, вышел бы из меня новый Кант, тоже не покидавший никогда Кенигсберга. Но теперь, в Париже, вижу ясно, все кончено для моей философской карьеры. Даже Октав Мирбо[33] начинает казаться в этом городе недостижимым идеалом сосредоточенной вдумчивости.
Жить в Париже – действительно, целая наука и для ее изучения безусловно следует открыть при Сорбонне особый факультет. Начиная от пируэтов «данс макабр»[34] среди гущи такси и кончая религиозно-нравственными воззрениями консьержек. Необходимо иметь кафедры по географии пересадок, по превращению одного бульвара в другой, по теории сочетания букв алфавита в автобусах. И по физиологии оглушенного слуха или ослепленного зрения. И по логике квартирных цен. И по теории познания окраин.
* * *
Вот, сижу я уныло в своем номере, смотрю в окно на бензинную вакханалию улицы и думаю: где же русскому беженцу жить хорошо?
Иногда кажется, что небольшие города наиболее благоприятны для нас. Действительно, все живут рядом, бок о бок, каждый день могут встречаться. По вечерам всегда есть какое-нибудь развлечение. Или инженер Михайловский делает доклад о своей собственной теории мироздания, или Анна Константиновна декламирует «Белое покрывало» у Тютюрниковых на именинах, или какой-нибудь бравый генерал читает лекцию на тему: «Россия через сто лет и позже».
Таким образом, в маленьких городках связь между русскими никогда на порывается, а, наоборот, быстро крепнет. Иногда даже достигает такой крепости, что начинает напоминать цепи скованных друг с другом преступников.
И это уже оборотная сторона небольших городов. Тяжелые последствия прочных уз никогда не медлят сказаться. Против метеоритной теории инженера Михайловского не может не выступить с резким обличительным докладом штабс-капитан Иванов, утверждая, что вселенная образовалась не из метеоритов, а из газовых вихрей. В пику Анне Константиновне Вера Николаевна спешно организует «Кружок стихотворений Агнивцева», группируя вокруг себя молодежь. И в противовес генералу, читающему лекции о будущем, выступает бывший преподаватель гимназии, в ряде сообщений развивающий исторические тезисы:
– Что было бы, если бы Дмитрий Донской не разбил Мамая на Куликовом Поле?
Или:
– Мешало ли Василию Темному управлять государством отсутствие зрения?
Нет нужды добавлять, что параллельно с полемическими докладами, лекциями и мелодекламацией в небольших городах всегда очень часты разводы, дележ детей между расходящимися родителями и резкие беседы на улице:
– Пожалуйста, передайте Петру Ивановичу: если я снова буду губернатором в России, пусть и не думает показывать носу в мою губернию!
* * *
Мировые центры тем хороши, что, распыляясь в них, русские редко видят друг друга. Точно островки, разделенные бурными потоками, одиноко ютятся в отеле муж с женой, становясь на двадцатом году супружества молодоженами. Идиллически нанимают одну комнату губернатор и тот Петр Иванович, который не должен показывать носа в губернию. И повсюду тоска по своим:
– Хотя бы повидать Анну Константиновну! Что она делает, бедненькая, возле «Порт Версай»?
Вместе тошно, врозь скучно. Удивительная природа у русского человека! Очевидно, на этом противоречии и держится наша широкая психология. С одной стороны Мармеладов, которому нужно куда-нибудь пойти. С другой стороны, монастыри и средняя разновидность Онегиных, бегущих от знакомых к торжествующему крестьянину и птичке Божьей.
Итак, где лучше нам, – неизвестно. Во всяком случае, приехав в Париж, я мрачен, угрюм. Конечно, высота культуры здесь чудовищна. Не спорю. Вроде моего шестого этажа. В умывальнике, например, есть кран, на котором написано «шо»[35]. Правда, из него течет такая же точно вода, как и из крана «фруа»[36], но где встретишь на Балканах подобный комфорт? И отопление центральное, не то, что ужасные сербские железные «фуруны». Накинув пальто, подхожу к свернувшемуся у стены металлическому удаву, пробую рукой. Теплый. Безусловно, для нагревания, не для охлаждения комнаты. Только как его разогреть? В Петербурге у меня в годы войны для этой цели была спиртовая печь. Но в отеле, здесь, спиртовку зажигать воспрещается…
Очевидно, беженцам только там хорошо, где их нет. Хотя знакомый доктор писал как-то из Абиссинии, что у них очень недурно, а приятель летчик давно зовет меня и Ивана Александровича в Джедду, в Геджас, но теперь я не попадусь ни на какие соблазны. Ведь посмотреть только на эту гигантскую двуспальную кровать, которая стоит в номере, самоуверенно заняв все пространство. Что делать с нею, бесстыдно раскинувшейся? Вполне возможно, что для писания бульварных романов с возвышающей любовной интригой она – незаменимая вещь. Но у меня вкус старомодный, я поклонник Пушкина, Тургенева и Толстого, а разве эти учители в своих произведениях когда-нибудь исходили из кровати, как художественного центра?…
Нет, глупо, глупо сделал, что уехал из Сербии. Милая моя квартирка, с дверью, облепленной снегом, где ты? Печка железная, – как любил я подкладывать в тебя сухие дрова!.. Ведра мои, в вас бежала такая чудесная прозрачная вода… Кипятил бы я эту воду на плите, пил чаю, сколько хотел… Веник мой, пушистый, длинный, чья рука теперь лазит с тобой по углам комнаты, под столами и стульями?
– Ты будешь сегодня писать? – уныло спрашивает, кутаясь в шубу, Иван Александрович.
– Нет.
– Отчего?
– Устал. Переходил два раза поперек бульвара Осман.
«Возрождение», Париж, 8 февраля 1926, № 251, с. 2.
Драгоценные свойства
Один приятный молодой человек, усердно занимающийся в последнее время партийной деятельностью, как-то при мне жаловался на днях в одном почтенном политическом собрании:
– Понимаете… Это совершенно несознательный элемент в эмиграции… Галлиполийцы…
– В самом деле? А что?
– Да, вот, представьте. Попал вчера я в их компанию. Много говорил о том, о сем. Перешел, наконец, к животрепещущей проблеме – какая политическая концепция была бы наиболее правильной в создавшейся ситуации. А они сидят, курят, слушают. И молчат.
– Ну, что же, господа? – спрашиваю, наконец, не вытерпев. – Ясно вам это теперь с точки зрения логической, психологической и социальной? Или не ясно?
– Неясно, – отвечают хором.
– Почему же неясно?
– Не было приказа Главнокомандующего.
Долго после этого при мне, охая и стеная, беседовали о галлиполийской несознательности молодой политик и старый. Молодой пространно говорил что-то о базисе; старый главным образом налегал на тезис. А я сидел в сторонке и думал:
– Слава Богу. Значит, есть еще в эмиграции люди, которые повинуются приказам, и вместо собственных решений ожидают распоряжений. Ведь, в самом деле: если бы не галлиполийцы, кто бы у нас повиновался? Все эмигранты, как известно, только распоряжаются. Спросите случайного беженца из штатских: чей авторитет он, главным образом, признает? Конечно, свой. Если вы поговорите с ним по душе, он даже сознается, что у него есть свое собственное маленькое общество, в котором он состоит председателем. Члены этого общества, правда, немного обижены, что председатель именно он, а не они. Но в виде компенсации каждый из этих членов обязательно имеет собственный кружок, в котором тоже председательствует, которым тоже руководит.
Таким образом, в сущности, все беженцы в настоящее время председатели. В Париже, например, я не председателей до сих пор не встречал. Говорят, в прошлом году было здесь два таких, не попавших ни в какое правление. Но подобное ненормальное состояние продолжалось недолго. Один впал в отчаяние, разочаровался в эмиграции и уехал в СССР, а другой неожиданно бежал в Уругвай. Кто-то при нем обмолвился словом, будто в Уругвае председательствовать некому.
Вообще, если бы не повинующиеся галлиполийцы, ждущие распоряжений, я бы даже не мог сказать, как образовать нам эмигрантам, противобольшевицкий фронт? Для такого фронта штабов, конечно, сколько угодно, командиров не меньше. Все – председатели. Есть хоры трубачей, барабанщики, знаменоносцы свернутые и развернутые, есть Красный крест, санитары. А фронт? Где фронт? Кто на фронте?
Где, собственно те, которые могли бы взять под козырек и сказать: слушаю-с?
Галлиполийцев я люблю и уважаю именно за это редкое качество. Ведь, нечего скрывать: без начальства не только военный, даже штатский, русский человек и тот теряет значение. Качается, как былинка в чистом поле, никнет к земле. Сколько беженцев я знаю разумных, крепких, даже величественных в те времена, когда было кому повиноваться. И вот пришло освобождение, сами стали себе председателями, – и растерянность в глазах, и грусть, и тоска…
Люблю я галлиполийцев и за другое драгоценное качество: молчаливость. Конечно, ораторы народ полезный, спору нет. Когда их немного. Точно так же, как председатели. Но если в ораторы идет слишком много народа, и в слушателях остается все меньше и меньше, – это уже неприятно. На одном беженском собрании, например, я наблюдал как-то жуткое зрелище: на трибуне одиноко сидит покорный слушатель, слушает, а зал бурлит, кипит. Весь заполнен очередными ораторами.
Галлиполийцы не любят звонить во все колокола. В виде символа – у них остался там, на полуострове, скорбный памятник – каменный колокол. Не нужно этому колоколу языка, чтобы вещать. Не нужно меди, чтобы звучать. Безмолвно стоит он на виду у проходящих народов. Немой, как те, кто возле него, в земле, сурово говорит о выполнении долга, не играя с солнцем заманчивой облицовкой.
Но в затаенном молчании его каждый слышит все, что необходимо для воина. Крест памятника украшает его грудь. Черный крест непримиримости к врагу во имя золотого креста храмов. Образ надгробного камня в памяти его – во имя грядущей радости благовеста.
И вот почему нет у галлиполийцев лишних слов. Вот почему повинуются. Все пережито. Все едино. Есть испытанная грудь, есть общий крест…
Будет и приказ Главнокомандующего.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 13 мая 1926, № 345, с. 5.
На выставке
Хожу по залам «Шарпанье», на выставке картин Яковлева, стою подолгу перед пейзажами Сахары, любуясь озером Чад, воздушными мимозами Нигера, причудливыми горами Мозамбика… И радостно на душе, что весь этот поток посетителей-иностранцев, все эти одобрительные замечания, иногда даже выражения восторга и удивления перед мастерством художника, что все это относится к нашему талантливому соотечественнику. Слава Богу, нам есть чем гордиться. Не желая расставаться с одним из полотен, посвященным Сахаре, в котором столько задумчивой прелести, столько мистической притягательности, сажусь на диван, продолжаю смотреть. А рядом со мною на диване какая-то старушка. Уставилась странным страдающим взглядом на картину, изображающую баобаб у берегов Нигера, вздыхает, достает платочек из сумочки, прикладываете к глазам.
– В чем дело? – с удивлением скашиваю на нее глаза.
– Есаул, идите-ка сюда! – слышится, вдруг, сзади меня среди общей тишины. – Бросьте свои черные морды, хватит.
– Погодите, Матвей Дмитриевич, дайте доглядеть, – отвечает громкий уверенный голос. – Может еще кого-нибудь из знакомых встречу. Недаром, слава те, Господи, в Бельгийском Конго два года околачивался. А что, нашли Мадагаскар?
– Нашел, да. Вот номера 84 и 85. «Хо плато» и прочее.
– Иду сию минуту. Взгляну только еще разок на своего Лубенго. Приятели как-никак были. Главное, разоделся-то как, а? Фу ты, ну ты… Ножки гнуты… При мне на праздничке луны и то в таком одеянии не появлялся. Очевидно, специально для художника нацепил. С чего только похудел, бедняга? Запил, что ли? Или лихорадка?
– Здесь и столица Мадагаскара Тананариве имеется, есаул, смотрите, – продолжает звать второй русский, переходя к новой картине, и внимательно сверяя номер с каталогом. – Общий вид из дворца королевы…
– Общий вид? Интересно. Ту де сюит[37]. Дайте, пробегу только остальные, чтобы не возвращаться. Это кто? Номер 167. Жен фамм арабизе из Стенвиля. Так… Этой не знаю. Кого не знаю, того не знаю, врать не буду. И фамм арабизе, номер 168, тоже не встречал. Хотя, как будто, на одну мою приятельницу, действительно, смахивает. Мапудрой звали, в Бенгамине жила, возле лагеря. Не женщина, доложу вам, огонь! Ну, давайте теперь Мадагаскар. Где он? Не верю только, дорогой мой, в вашу идею, скажу, откровенно.
Оба русских, один бравый, высокий молодой брюнет, другой скромный старичок с маленькой седенькой бородкой, стоят у стены, внимательно рассматривают мадагаскарские пейзажи.
– По-моему, дрянь, – после некоторого молчания, громко, с пренебрежением, произносит, наконец, есаул.
– То есть как дрянь? – обидчиво поворачивает голову старичок. – Не нравится?
– Конечно, не нравится. Уныло очень. Ни пальм тебе, ни водопада. Лысо кругом. Разве это местность?
– А я думаю, для нашего плана колонизации, это наоборот, большое достоинство. Поглядите только, какая возвышенность. Плато!
– Ну, так что же, что плато? У нас в Катанге тоже плато.
– И горы, обратите внимание, какие удобные: гладкие, пустынные. Леса не имеется, значит выкорчевывать нет необходимости. А это уже половина экономии. Затем, спуски, видите, покатые, пахать можно со всех сторон.
– Относительно вспашки не спорю. Правда, удобно. Только есть ли вода? Кстати, Кругликов в министерстве колоний уже был?
– Обещал завтра пойти. Со всеми прошениями, и от нас, и от Сопроновых. По-моему, есаул, если дадут даром, брать надо, не рассуждая. Вы поглядите, например, на рисовые поля, номер 87. Разве плохо? И дома в Тананариве, как дома, отлично жить можно. Хотя ярко-красные, оригинальные, но, во-первых, может быть, это сам художник для модернизма лишней краски подпустил, а во-вторых, не все ли равно, в конце концов, какого вида дом? Лишь бы с освещением и отоплением. Я, вот, к мадагаскарским портретам тоже приглядывался. В той комнате. Гарсон мальгаш, по-моему, славный малый. И у вождя Разулианана лицо тоже недурное. Открытое, прямое. Сойдемся с ним, я уверен.
– А женщины интересные? Видели?
– Одна, кажется, есть. Под номером 217. Да. В следующем зале. Написано «фам мальгаш де ла каст инферьер»[38]. Для «каст инферьер», по-моему, довольно приличная. Впрочем, этот вопрос вы уже, голубчик, сами обследуйте. Это меня, старика, не касается.
– Да, да. Конечно. Погляжу сам. Какой номер говорите? 217? Где? Там? А, ну-ка. Посмотрим!
Оба русских исчезают в соседнем зале. Снова тихо. Молча, иногда переговариваясь шепотом, проходят мимо иностранцы, останавливаются, отходят, возвращаются снова, завороженные каким-нибудь из пейзажей.
– Софья Андреевна?… И вы здесь? Каким образом?
– А… Здравствуйте…
– Здравствуйте, дорогая! Как я рада. Неправда ли хорошо? Замечательно! В особенности, эти крепюскюль… И лэз ото дан ле дезер[39]… Сахара, вообще, у него изумительна. И пожары в бруссе[40]. Хотя знаете, его дессен мне все-таки больше нравятся, чем пентюр[41]. Заметьте, что такая масса портрэ[42] – дикарей, а в каждом есть все-таки своя индивидуальность… Я целый час простояла перед неграми в том зале, пока муж, наконец, не запротестовал… Вы не догадываетесь, конечно, в чем дело. Но так как все равно по-русски никто не понимает, скажу по секрету: через пять месяцев, понимаете, я ожидаю это самое… бэби. Так вот и муж боится, как бы не повлияло. А вы что такая грустная? Нездоровится?
– Нет, ничего.
– Все уже осмотрели? Или только что пришли?
– Уже давно… Я вот, только ради этого… Нигера. На баобаб гляжу.
– На баобаб? О, да! Баобаб бесподобен. Действительно. Какая мощь, какая сила! И вы заметьте: даже дупло не вредит впечатлению. Одно бы я сказала – жаль не даны боковые ветви и ветви вверху. Если бы художник взял дерево в другой перспективе и изменил бы масштаб, весь баобаб вошел бы в поле зрения и тогда… Что с вами? Дорогая моя! Вы плачете?
– Нет, нет. Ничего. Пустяки… – Старушка с виноватой торопливостью проводит платком по глазам, горько улыбается сквозь слезы. – Ведь, у меня, если помните, на Нигере Шура, – тихo произносит она. – Третий год у англичан служит по лесному хозяйству.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 18 мая 1926, № 350, с. 3[43].




