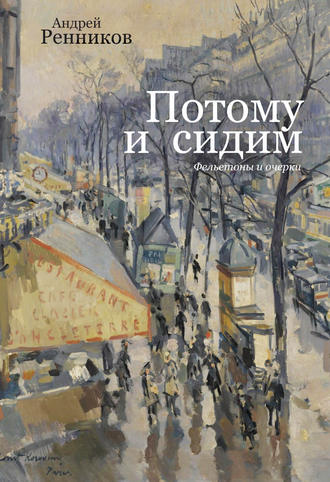
Андрей Ренников
Потому и сидим (сборник)
О любви к отечеству
Сложное это явление – патриотизм.
У русских в особенности.
Сидим мы как-то, на днях, в небольшой компании, в русском ресторане, обедаем. Посетителей много – почти все свои. Есть, однако, и несколько иностранцев.
– Неужели вы думаете, Виктор Иванович, что их склока так-таки ничем и не кончится? – начинает разговор на политические темы Федор Сергеевич.
– Конечно, ничем. Помяните меня. Подерутся, утихнут, потом опять подерутся, опять утихнут… А русский народ будет покорно созерцать эту картину и ждать помощи от Господа Бога.
– Да уж, действительно, народец у нас… – вздыхает Федор Сергеевич. – Богоносец, черт его подери. Вот когда именьице чужое хочется цапнуть, или корову свою защитить – тогда энергия неизвестно откуда берется. А чтобы охранить национальное достоинство или поддержать честь русского имени, на это, извините, энергии нет, непротивление полное. Надежда исключительно на угодников Божьих, на Николая Чудотворца, на Мать Пресвятую Богородицу…
– Эх, господа, господа!.. – печально говорит Виктор Иванович, закуривая папиросу. – Сказать вам откровенно, я даже не знаю, стоит ли вообще когда-нибудь возвращаться в Россию. Мы, вот, все мечтаем об этом моменте, рисуем идиллическую радость вступления на родную почву. А что мы встретим в действительности на русской земле? Развращенную молодежь? Хулиганье, беспризорщину? Трусливое старое поколение, – забитое, привыкшее к гаденьким компромиссам, к плевкам в свою собственную измельчавшую душу? Никакой радости в возвращении домой я не вижу, простите меня. Какой теперь у нас отчий дом, если в доме этом на кровати, вместо бабушки, волк в чепце лежит, а весь пол загажен волчьими экскрементами?
– Я, конечно, не так мрачно смотрю на вещи, как Виктор Иванович, – громко на весь ресторан говорит Федор Степанович. – Но доля правды в его рассуждениях безусловно есть. Вот, например, чего я не переношу, это – простых русских баб в платочках. Так и представляется наглая харя, щелкающая семечки, в промежутке визгливо кричащая «правильно, правильно, товарищ!». Или матросня, например. Брр!.. При одном воспоминании тошнота подступает к горлу… Мне, скажу прямо, любой негр из Центральной Африки гораздо роднее и ближе, чем матрос с крейсера «Аврора», или моя бывшая кухарка Глаша, из-за которой у меня произвели обыск и засадили на три месяца…
Разговор за столом довольно долго продолжался в этих пессимистических антинациональных тонах. Досталось во время беседы не только кухаркам, матросам и мужичку, но, конечно, и интеллигенции. Попало ей за все ее качества – и за маниловскую мечтательность, и за отсутствие государственного чутья, и за ребяческое идеализирование русского сфинкса, который оказался, в конечном счете, не сфинксом, а изрядной свиньей.
И в конце беседы неожиданно, вдруг инцидент…
Поворачивается к нам сидевший за соседним столом какой-то добродушный немец. На ломанном русском языке одобрительно говорит Виктору Ивановичу:
– Это верно! За ваше здоровье, милостивый господин!
Виктор Иванович машинально протягивает бокал, чокается. Но на лице, кроме недоумения, выражается и ясно обозначенная тревога.
– Что, собственно, верно? Я вас не понимаю, мсье.
– А это все верно… Что вы говорили. Что русский шеловек – свинья. Я тоже жил в России, все видел. Русский баба – такая животная!
Что произошло за нашим столиком после одобрения немца – трудно сказать. Виктор Иванович, побагровев, вскочил. Федор Сергеевич, сорвавшись с места, взялся за палку. А Вера Андреевна, которой принадлежала мысль о том, что вся русская интеллигенция – сплошная дрянь, замахала руками, завизжала:
– Уберите этого нахала! Как он смеет, дурак?
Расставаясь со своими друзьями, я не удивлялся тому, что немец пострадал очень сильно. Меня не поражало то обстоятельство, что Виктор Иванович сам вел немца к двери, а Федор Сергеевич своим энергичным коленом помогал ему прыгать на тротуар.
Удивляло меня одно: как у русских людей сложно национальное чувство, как болезненно изломан патриотизм.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 28 ноября 1927, № 909, с. 2.
Святочный рассказ
Настала дождливая ночь. На бийанкурской набережной, в предместье Парижа, у красного двухэтажного дома, в котором помещается «бюро д’амбош»[99], безлюдно. Тускло светится мокрая мостовая, вздрагивая отблесками газовых фонарей. Над обрывом у Сены жалобным гулом переговариваются высокие тополя, вереницей направляющиеся к севрскому мосту. За черной полосой будто куда-то провалившейся реки, застыл хмурый остров, окутанный сетью оголенных деревьев.
Ветер уже с раннего вечера злобствует: рвет в пыль мелкие капли дождя, бросается рябым лицом в холодные выбоины, взбирается на тополя, угрожая кому-то сухими сучьями, и изнеможенно, вдруг, падает в реку, разбегаясь змеями к далеким зеленым огням.
На дырявых сваях старой пристани, под которой в невидимой воде глухо о чем-то ворчит баржа, сидят две белые тени. Дождь и ветер не производят на них впечатления. Одна плотно укуталась в саван, не движется. Другая распахнула покрывало, разложила на коленных чашках план Парижа, внимательно разглядывает улицы.
– Ну что, нашел адреса?
– Плохо дело. Очень плохо. Всего две, три квартиры, не больше.
– Вот то-то и оно. Я тебе говорил. Да разве у наших православных теперь есть нежилые дома? Все набито битком. Будь мы с тобой иностранные духи, тогда дело другое. Иностранному духу есть где погулять, погрохотать. А нам? Попробуй-ка залезть во французскую квартиру – католические духи мигом – в шею. Нет, ты как хочешь, а я никуда не пойду.
– Но, ведь, сегодня рождественская ночь, брат мой! Сегодня, согласно обычаю, мы обязаны пугать православных!
– Мало ли что обязаны… А как? Возьми хотя бы консьержек. Одни они и то обратно в гроб вгонят. Ведь, ходил же я в прошлом году пугать Иванцова. А что вышло? До половины лестницы не добрался, весь дом переполошил, едва ноги унес. Разве можно, чтобы в одном доме да столько народа? Вот, у нас, в России, действительно, помню, раздолье. Одна небольшая семья, человека три-четыре, а комнат – пятнадцать. И удобства какие! Скрипучая лестница, сверчки на печи, мыши, тараканы, ржавые петли у ставень… Чего только не было. А тут? Нет, что касается меня, то заберусь я лучше на ночь куда-нибудь в пустой ресторан, да тихонечко просижу до утра. Есть здесь уютные русские столовые: сиди хоть круглые сутки, никто не заметит.
– А я все-же пойду. Хоть и трудно, но не могу. Русским людям праздник не в праздник, если их не припугнуть.
Ветер продолжал свистать и улюлюкать на набережной. Дождь бил в лицо, в фонари, в дома, куда придется. Деревья по-прежнему гудели, вздымая к небу молящие руки.
А по мостовой, в сторону Парижа, уныло брела мокрая белая фигура, жалобно звякая по асфальту ржавыми железными цепями.
* * *
В комнате у Пончиковых давно темно.
Легли после скромного Сочельника рано, так как завтра обычный трудовой день. Спит усталая Ольга Ивановна, видя во сне мережки. Тяжело дремлет Степан Александрович, которому снится, будто попал он в Советскую Россию и никак обратно не может выбраться. Крепко уснул малолетний сын Митя, утомленный исключительными событиями минувшего вечера.
– О-ох! – раздался в дверях тяжелый стон. – Ох!.. Дззз… Грр!
Зазвенели ржавые цепи. Высокая белая фигура неуклюже продвинулась к свободной стене. Ударившись ногой об угол шкапчика, подошла к кровати Пончиковых.
– Степа!
– Ыы?…
– Степа! Кто это пришел?
– Чекист? – испуганно вскрикнул, вскакивая, Степан Александрович.
– Привидение… Степа! Смотри!
– Привидение? Слава Богу… Чего же ты напрасно пугаешь, Оля?
Степан Александрович облегченно вздохнул, искоса взглянул на призрак, опустил голову на подушку.
– А я думал из ГПУ… Ложись, спи. Не обращай внимания.
– А если вор? Если пальто украдет?
– Да какой это вор? Призрак! Совершенно прозрачный.
– В самом деле. Прозрачный. Боже мой, Боже мой! В половине седьмого вставать, а тут еще призраки!
Ольга Ивановна зевнула, устало закрыла глаза, повернулась на бок.
– Оох!.. – снова раздался стон, a затем звон. – Дззз… грр!
Привидение колыхнулось, двинулось с места. Протиснувшись между камином и креслом, навалилось на стол, с которого покатился стакан.
– Тяжело мне без отдыха носить кандалы! – послышался глухой замогильный голос. – Тяжко, люди, мне, тяжко!
– Ну, ну! – пробормотал во сне Степан Александрович. – Пошел вон!
– Убили в шестнадцатом веке… По приказу Царя… Не похоронили нигде…
– Вот еще надоел! – зашевелилась на кровати сонная Ольга Ивановна. – Степа, ткни его чем-нибудь. А то не отстанет.
– С тех пор блуждаю… Нет покоя, пристанища. Горе мне!
Привидение молча постояло еще некоторое время, провело рукой по голове Ольги Ивановны, дунуло в лицо Степану Александровичу. Затем, не добившись ничего, направилось к детской кровати, сердито сдернуло с Мити одеяло.
– Проснись хоть ты… дрянной мальчишка! Я здесь!
– А кто? – обиженно открыл глаза Митя, натягивая на себя одеяло.
– Я, привидение! Ууу!
– А что такое привидение?
– Призрак я! Бездомный! Убили в шестнадцатом веке.
– А что такое призрак?
– Дух! Бесплотный дух. Нет покоя нигде. Блуждаю!
– А что такое бесплотный?…
Митя не договорил, закрыл глаза. Загрохотали в ответ цепи, запрыгала на месте разгневанная фигура. А из-за стены послышались возмущенные голоса, раздался энергичный стук в перегородку:
– Дю кальм, силь ву плэ! Силанс![100]
* * *
Воротилов еще не ложился. Сидел у стола, с увлечением вычерчивая изобретенный им аппарат, на который предполагал взять патент. Изобретение должно было предохранять пешеходов от автомобилей и представляло собой легкую металлическую сетку с резиновыми буферами с четырех сторон.
Перспективы были чрезвычайно заманчивы: себестоимость 800 франков, продавать можно за 2.000, комиссионных – 40 процентов, чистого дохода 400. Если из всех пешеходов мировых столиц аппарат приобретут только два процента, и то получится не меньше миллиона. Значит, четыреста на один миллион – 400 миллионов.
– Ки э ла?[101] – удивленно спросил Воротилов, оборачиваясь. В коридоре, возле дверей, он ясно услышал громыхание цепей и тяжкий вздох.
– Иван Николаевич, вы?
Вздох повторился. Воротилов подошел к дверям, распахнул.
– Кто здесь?
В темном коридоре неподвижно стояло привидение огромного роста, испуская таинственный фосфорический свет.
– Призрак? – деловито спросил Воротилов, с любопытством всматриваясь в фигуру.
– Привидение… – мрачно кивнув головой, ответил Дух.
– Ко мне? Или к соседям?
– К тебе.
– В таком случае, антрэ!
Воротилов любезно посторонился, пропустил привидение. Пока Дух располагался у стены, в мозгу Воротилова уже шла лихорадочная работа. Предохранительная сетка против автомобилей, конечно, в данном случае не пригодится. Но разве можно не использовать такого визита? Призраки на улице не валяются. Спрос на все мистическое очень велик.
– По случаю Рождества изволили заглянуть? – закуривая папиросу, задумчиво сел Воротилов в кресло.
– Да… Пугать хожу православных. Страх наводить.
– Ну, что же. Дело хорошее. А что: пугаются? Не желаете ли, кстати, папиросочки? Хотя синенькие, дрянь, но все-таки…
– Не курю я. Нет мне покоя! Блуждаю!
– Ах, уж не говорите. Я сам, голубчик, который год в таком положении. А у вас какие условия? Сдельно пугаете? Или помесячно?
– Без отдыха… Каждую ночь. Под Рождество особенно… С шестнадцатого века брожу…
– С шестнадцатого? Это, действительно… Стаж. Можно сказать – спесиалитэ[102]. А из-за чего это с вами, если не секрет?
– Не погребен. Убили по приказу Царя. В подвале оставили. Нет пристанища. Нигде…
– Так, так… Не погребли. Понимаю. А знаете, что? – Воротилов встал, быстро направился к Духу.
– Я могу предложить вам отличную комбинацию, – взяв Духа за отворот савана, радостно произнес он. – Я вас погребу, хотите? Вы мне укажете точный адрес, где ваше тело лежит, и я спишусь, с кем нужно, в России. А вы, со своей стороны, заключите со мной договор на два года с условием ежедневно выступать в кабаре. Всю организацию дела я беру в свои руки. Переговоры с ресторанами, реклама, помещения – это все я. Вы только появляетесь, громыхаете цепями и стонете. Если публика пожелает потрогать руками, чтобы убедиться в бестелесности, вы сопротивляться не будете. Весь доход с предприятия в течение двух лет получаю, конечно, я, деньги вам, все равно, не нужны. Ну, а, тем временем, я списываюсь с Россией, мои люди выкапывают вас из подвала и, по истечении срока контракта, хоронят. По рукам?
– Я ухожу… – побледнело привидение, отступая к дверям. – Я не могу. Чур меня!
– Что? Не выгодно? Погодите. Одну минутку. Ну, хорошо, не два года, а полтора. К 25 июля будущего… Идет?
– Чур меня!
– Год, в таком случае! Черт с тобой! Год! Что? И это не годится? Не понимаю! С шестнадцатого века блуждаешь, а один год потерпеть не в состоянии. Привидение! Мы еще обсудим! Привидение!
Воротилов подскочил к двери, захлопнул, чтобы не дать возможности призраку уйти обратно. Заметавшись по комнате, Дух бросился ко второй двери, ведшей в соседний номер, торопливо сбил с ног цепи, стал протискиваться сквозь замочную скважину.
– Полгода! Согласен! Три месяца! Месяц! – восклицал, между тем, Воротилов, держа Духа за подол и стараясь втянуть обратно в комнату. – Похороны по первому разряду! Доход пополам! Не хочешь? Идиот!
* * *
Кончалась ночь. Пропели вторые петухи. Уже готовились к своей очереди третьи. На улицах Бийанкура было пустынно и тихо. Дождь по-прежнему шел. Ветер по-прежнему выл. Мрачно глядели с разных углов черные окна закрытых ресторанов. И только в одном из них неясно дрожал в стекле слабый фосфорический свет.
За столом, покрытым белой бумагой с красными винными пятнами, сидело два призрака. Один уныло смотрел через окно в темное небо. Другой нервно ерзал, испуганно оглядываясь по сторонам.
– А это не он? Приближается!
– Да брось ты. Все время мерещится. Ящик это, не человек.
– Ящик? Да, да. Верно. Ящик. Ах, Господи, Господи! Ночь-то какая! Ветер. Дождь. Ни зги не видно. Всюду чудятся люди… Хоть бы утро скорее!
Из сборника «Незванные варяги», Париж, «Возрождение», 1929, с. 89–96.
Ира
Восемь лет не видал я Ирочки.
Тогда, в Батуме, это был еще крошечный трехлетий карапуз, с которым мы нередко сиживали на берегу моря возле бульвара и бросали камни в море: кто дальше кинет.
Занимались мы этим делом потому, что работы ни у нее, ни у меня все равно не было, а до падения большевиков оставалось еще довольно много времени.
Теперь Ирочке одиннадцать лет, и она уже совсем большая. Учится во французском лицее, получает награды, прекрасно рисует животных, людей, ангелов и вообще, что придется; а, главное отлично сочиняет французские стихи.
– Я по-русски тоже умею – скромно говорит она, – но только русский язык гораздо труднее для хороших писателей.
Правда, взрослой барышней Ирочка сделалась совсем недавно, года три назад, когда ей стукнуло восемь лет. Она со смехом теперь вспоминает, как была мала и наивна, когда приехала с мамой в Париж, и в первый раз, например, увидела на улице негра. Хотя и сделала вид, что не испугалась, но вечером, ложась спать, все-таки тревожно спросила:
– Мамочка: а эти черные звери в костюмах никогда не кусаются?
Теперь Ира совсем не такая глупышка, и не только не боится негров, но даже рисует их физиономии в своем альбоме; во всяком случае, лучшая ее картина, сделанная водяными красками, называется так: «Негры и негрессы в Негритянии».
Итак, после восьми лет разлуки мы встретились, наконец, с Ирочкой, оба уже взрослые, сильно возмужавшие и хорошо пожившие за время эвакуации и всевозможных передвижений туда и сюда. Мама, бабушка и дедушка вышли в столовую, когда я явился к ним, не сразу. Ирочке поневоле пришлось занимать меня в качестве хозяйки, пока застигнутые врасплох старики готовились к выходу.
Хотя и не могла она меня вспомнить, как следует, несмотря на все мои напоминания о кругах на воде во время бросания камней, однако, обрадовалась, что я тоже из ее родного Батума. Доверчиво отнеслась как к земляку; подсела ближе и с места в карьер задала загадку, стараясь говорить с кавказским акцентом:
– А вы знаете, что такое: спереди газ, сзади пар, все время бегает, ничего не находит? Это мой брат Гаспар, безработный.
С кавказских загадок беседа постепенно перешла на загадки французские.
– Что такое, – спросила она, – днем черное, ночью белое? Что вы сказали? Старая электрическая лампочка? О, нет. Наоборот. Это мсье кюре, когда он одет, и когда он раздет…
После загадок Ирочка заговорила о серьезной литературе, главным образом, о своих собственных стихах. Продекламировала очень недурное на узкосемейные и школьные темы. И перешла, наконец, к вопросу о своих занятиях в лицее.
А начальница у тебя симпатичная?
– О, да, очень. Одно только неприятно: любит делать уколы и замечания. Вообще очень пикантная женщина.
– А русскому языку тебя кто-нибудь учит?
– Да, конечно. Мама учит. Только не всегда, а на Пасху, на Рождество и летом. Осенью не учит.
– Хорошо… А, скажи… Что такое, например, плести лапти? Знаешь?
– Плести ля пти? Конечно. Очень просто. Пти пуан[103] делать. Гобелен.
– Ну, нет, извини… Врешь. Лапоть что такое, по-твоему?
– По-русски?
– По-русски, понятно.
– Не знаю… Кружева, может быть, Или трикотаж. Ну, а еще?
– Слово кушак знаешь? Кушак… Гм… Кушанье? Нет? Не знаю. Что не знаю, то не знаю.
А гумно?
Гумно? Хи-хи… Гумно. Тоже не знаю.
– А закрома?
– Ну, оставьте, пожалуйста. Это вы все нарочно. По-турецки, должно быть. А хотите я напишу русское диктэ? Я умею. Дедушка по воскресеньям, когда свободен, диктует, а я пишу и ять ставлю. Большевики ять выкинули, а я им нарочно… Хотите?
Она сидела против меня за столом, усердно писала, переспрашивая слова, задумчиво грызя карандаш. И когда посмотрел, что в конце концов вышло, жуть взяла.
– Милая моя, да ведь это совсем по-болгарски! – не удержавшись, воскликнул я. – Почему у тебя посреди «бабушка» твердый знак поставлен?
– А здесь «б» твердое. И потом, большевики твердый знак тоже выкинули.
– А среда почему через «ять»? И весна?
– Не надо разве? Ну, хорошо, зачеркните. Хотя, по-моему, жалко.
– Да, да, неважно. Ошибок много. Вот, например, «велесепед». Четыре «ять», Ирочка. Разве можно позволять себе такую безумную роскошь?
Вошедшая в столовую Екатерина Евгеньевна прервала наши занятия. Любезно поздоровавшись со мной, потрепала по плечу Ирочку и, узнав в чем дело, деловито заметила:
– Это все потому, что Ира у нас ярая контрреволюционерка. Те слова, к которым питает особенную любовь и уважение, всегда пишет через «ять», как бы я против этого ни возражала.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 6 декабря 1927, № 917, с. 2.
Монтаржи
(историко-этнографический очерк)
Говорят, что путешествия развивают человека.
Это правда.
Съездил я на днях в Монтаржи. Поехал вечером в 5 час. 42 мин., вернулся на следующий день утром в 6 час. 45 мин.
А сколько впечатлений!
Намерения у меня, правда, были слишком широкие: изучить за это время французскую провинцию, окунуться в своеобразный романский быт, пронзить пытливым оком глубь веков…
Но если результаты в этом отношении получились не очень богатые, то виноваты, конечно, русские, из-за которых даже французского леса увидать невозможно. А кроме того, помешал и поезд-экспресс. Разве можно, в самом деле, изучить детально своеобразие быта, окунаясь в него со скоростью шестидесяти километров в час?
Только благодаря сильному напряжению воли удалось мне увидеть кое-что сквозь запотевшее, наглухо закрытое, окно.
Во-первых, несколько отличных семафоров, очень красивых, сделанных в полоску белыми и красными квадратиками. Наверно, ручная работа местных мастеров.
Затем, станцию видел, когда проезжали. Своеобразная. Посреди домик. По бокам деревья. Сзади тоже что-то растет. Не то дом, не то мастерские; а у самой крыши оригинальный ребенок и написано: «савон Кадум»[104].
Где-то на промежуточной станции наблюдал тоже очень любопытный местный обычай.
Поезд подходит, а какой-то господин в котелке держит в руке красный чемодан и суетится. Чего он суетился, я так и не узнал, хотя долго расспрашивал кондуктора. Но лицо пассажира до сих пор стоит перед глазами: сосредоточенное, тревожное, можно сказать, даже чуть-чуть испуганное. Местный ли это обычай – пугаться, когда поезд подходит, или же население в этой части Франции вообще слишком нервное, – не узнал, к сожалению. Хотел опять обратиться с вопросом к кондуктору, но русские соседи по купе помешали.
Ехало то нас на концерт целых шесть человек, и, понятно, все разговаривали. А какое французское объяснение может быть услышано, когда шесть русских человек в вагоне беседуют?
Достаточно было и одного голоса К. Е. Кайданова[105], который в ожидании выступления на концерте, время от времени прочищал свой бас могучей хроматической гаммой, а в промежутках говорил:
– Я, господа, из-за поездок в Барселону не успеваю даже газет читать. Все номера, конечно, сохраняю, вожу с собой, но просматриваю только тогда, когда урву свободное время. Вот, сегодня утром, с номером 745 успел ознакомиться. Оказывается, какой-то Линдберг собирается из Америки в Европу лететь. Каков смельчак, а? Кроме того, говорят, румынский король Фердинанд тяжело заболел, врачи опасаются…
В окне промелькнули огни. Пытливо протирая рукавом стекло, я старался вникнуть в сущность этих огней, чтобы из памяти не ускользнула ни одна мелочь, ни одна характерная деталь. Но К. Е. Кайданов продолжал отвлекать внимание жалобами на трудность чтения газетных романов.
Как оказывается, достаточно ему несколько номеров подобрать неправильно, – и фабула страшно запутывается, а кто кого убил и почему, – неизвестно.
Прибыли мы в Монтаржи через два часа. Моросил своеобразный провинциальный дождичек, от которого пришлось сейчас же укрыться в крытый автомобиль. Заводской театр, где должен состояться концерт, находится от станции в расстоянии около трех километров. В окно автомобиля, мчась к заводу, я старался рассмотреть город, чтобы ознакомиться с духом, но К. Е. Кайданов стал передавать запутанное содержание романа «Зеленый стрелок», и мы незаметно подкатили к театру.
Театр в Монтаржи огромный, своеобразный, построенный, очевидно, в эпоху Филиппа Красивого. Сбоку стены, наверху крыша, а внизу, на стульях, сплошь русские беженцы.
– Эти декорации, должно быть, эпохи Ренессанса? – начал расспрашивать я одного из местных земляков, обходя театр и внимательно осматривая его достопримечательности.
– Нет, значительно позже, – скромно ответил полковник, – Наш русский художник эти декорации написал. Вот он идет, видите?
– А каков местный французский быт и его особенности, вы не можете кратко сказать?
– Отчего кратко?… Могу и подробно. Живем, слава Богу, дружно, администрация относится хорошо, во всем идет нам навстречу. Лично я, например, имею приличную комнату в замке за 15 франков в месяц, огород развел, две десятины добавочно арендую… Труд на земле, конечно, тяжелый, но что поделаешь… По праздникам, все-таки, стараемся культурные развлечения организовывать, из Парижа к нам кое-кто приезжает…
Полковник рассказывает еще много о жизни своей в Монтаржи. Слушаю его внимательно, гляжу на море голов в зрительном зале, в душе поднимается горделивое чувство за своих русских людей, не сгибающихся под тяжестью суровой жизни. А когда начался концерт, особенно трогательно было видеть жадное внимание слушателей, это неразрывное единение русского таланта с чутким зрительным залом. Герои вечера К. Е. Кайданов, Т. А. Фохт, Е. Б. Чепелевецкая, Ю. И. Померанцев – все встретили самый сердечный, горячий прием…
– Коман са ва?[106] – спросил я после концерта французского журналиста, с которым меня познакомили, и которого я решил, наконец, использовать, чтобы ознакомиться и с историей Монтаржи и с особенностями провинциальной Франции в настоящее время.
– Мерси, бьен, – любезно ответил журналист и начал расхваливать русских, принесших сюда свой талант, честный труд и твердость национального духа…
В половине шестого утра мы выехали обратно в Париж. Было темно всю дорогу. Но, несмотря на темноту, на обратном пути мне удалось опять понаблюдать кое-что, кое-что зафиксировать.
Видел огромный шлагбаум с белыми и черными полосами. Промелькнул, оставив неизгладимое впечатление о пересекавшей железнодорожный путь шоссейной дороге.
Встретил затем семафор. На этот раз не четырехугольный, а круглый, с зеленым огнем.
А затем незаметно въехали в Париж. Масса путей, Лионский вокзал, такси… Поездка окончилась.
Специалисты путешественники утверждают, будто для всестороннего развития нужно путешествовать многие годы.
Но это может быть так для иностранцев. Что же касается нас, русских, то мы можем развиться и гораздо быстрее.
Ведь, вот только от половины шестого вечера до половины седьмого утра ездили мы. А сколько историко-этнографических сведений! И главное – комната за 15 франков! А?
«Возрождение», Париж, 16 января 1928, № 958, с. 3.




