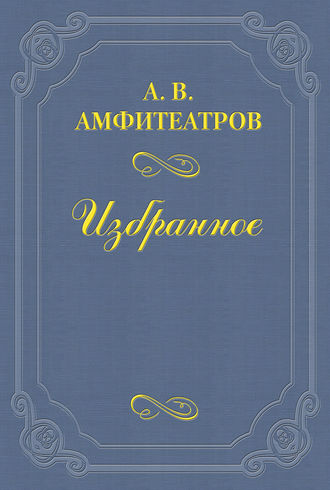
Александр Амфитеатров
Паутина
– Оставь мои замыслы и подай мои деньги.
– Никогда. Я желаю сохранить уваженіе къ самому себѣ.
– И потому становишься воромъ, – ледяною насмѣшкою обжегъ его Викторъ.
Симеона перекрутило внутреннею судорогою, и страшно запрыгала его правая щека, но бѣшеный взглядъ его встрѣтился съ глазами Виктора, и было въ нихъ нѣчто, почему Симеонъ вдругъ опять сдѣлался меньше ростомъ и сталъ походить на большую собаку, избитую палкой.
– Ты уже не въ состояніи меня оскорбить, – сказалъ онъ голосомъ, который, – онъ самъ слышалъ, – прозвучалъ искусственно и фальшиво. – Отъ твоихъ ругательствъ меня защищаетъ мораль истинно-русскаго патріота и дворянина.
– Въ броню зашился? – усмѣхнулся Викторъ.
Но Симеонъ обрадовался занятой позиціи и побѣдоносно твердилъ:
– Пеняй самъ на себя. Зачѣмъ проговорился?
Викторъ пожалъ плечами.
– Все равно, ты добромъ не отдалъ бы. Знаю я твои комедіи. Ну, a насиліемъ…
– Ты не смѣешь насиловать меня въ моихъ убѣжденіяхъ! – придирчиво и не желая слушать, перебилъ Симеонъ.
Въ головѣ его быстро строился планъ – разрядить объясненіе съ братомъ въ мелкую поверхностную ссору, чтобы въ ея безтолковомъ шумѣ погасить главную суть объясненія. Онъ зналъ, что, несмотря на свой холодный видъ и внѣшнюю выдержку, брать его, по натурѣ, горячъ и вспыльчивъ. Въ былыя ссоры, ему не разъ удавалось сбивать Виктора съ его позиціи и затягивать въ ловушку мелочей, привязавшись къ какой-либо неудачной фразѣ или даже просто къ интонаціи.
– Да! Это непорядочно! Не трогай моихъ убѣжденій. Я не трогаю твоихъ.
– То-есть – какъ же это ты не трогаешь? – воскликнулъ Викторъ.
Симеонъ съ удовольствіемъ услышалъ, что червячокъ его брошенъ удачно, рыбка клюнула. Но самъ то онъ былъ уже слишкомъ разгоряченъ и мало владѣлъ собою. Вмѣсто отвѣта, языкъ его непроизвольно брякнулъ совершенно невѣроятную угрозу:
– Такъ, что тебѣ давно пора въ Якутскѣ гнить, однако, ты на волѣ ходишь!
Сказалъ, и самъ испугался, потому что Викторъ вдругъ поблѣднѣлъ, какъ бумага, сдѣлалъ широкій шагъ впередъ, – и въ глазахъ его загорѣлся острый огонь, сквозь враждебность котораго Симеону почудилось теперь лицо уже не Епистиміи, но смерти.
– Берегись, Симеонъ! – прозвучалъ ледяной голосъ. – За такія признанія страшно отвѣчаютъ.
Сконфуженный Симеонъ безсмысленно бормоталъ:
– Ну, что же? вынимай свой браунингъ! Стрѣляй въ брата! стрѣляй!
A самъ тоскливо думалъ:
– A мой въ потайномъ ящикѣ. Что за глупость держать оружіе такъ, чтобы не всегда подъ рукою!
Никакого браунинга Викторъ не вынулъ, но, спокойно глядя брату въ глаза, отчеканилъ еще раздѣльнѣе, чѣмъ тотъ давеча:
– Я не вѣрю тебѣ больше ни въ одномъ словѣ. Садись къ столу и пиши чекъ.
Симеонъ понялъ, что онъ проигралъ свою игру безнадежно.
– A если не напишу? – въ послѣдній разъ похрабрился онъ.
– Я убью тебя, – просто сказалъ Викторъ.
– Экспропріація? – криво усмѣхнулся Симеонъ.
– Экспропріація – съ твоей стороны… Я, напротивъ, веду себя, какъ добрый буржуа: защищаю свою собственность отъ хищника.
Симеонъ, молча, повернулся къ письменному столу, сдѣлалъ два шага, остановился, еще шагнулъ, взялся за спинку кресла своего и, съ силой потрясши его, обернулъ къ брату бурое лицо, искаженное болью униженія:
– Викторъ, я никогда не прощу тебѣ этой сцены.
– Садись и пиши чекъ, – не отвѣчая, приказалъ Викторъ.
– Викторъ, я уступаю тебѣ не потому, чтобы я тебя боялся. Достаточно мнѣ нажать вотъ эту кнопку, и сюда сбѣжится весь домъ. Достаточно нажать вотъ эту, и я буду вооруженъ: тутъ y меня parabellum, какого тебѣ и во снѣ не снилось.
– Мнѣ рѣшительно безразлично, почему ты уступаешь. Садись и пиши чекъ.
Симеонъ опустился въ кресло и, доставъ изъ бокового ящика длинную синюю чековую книжку, взялся за перо и два раза ткнулъ имъ вмѣсто чернильницы въ вазочку-перочистку, наполненную дробью…
– На чемъ бишь мы въ послѣднюю выдачу кончили?.. – разбитымъ голосомъ произнесъ онъ. 9.200?
– 11.350.
Симеонъ бросилъ перо.
– Я не помню… Ты привелъ меня въ такое разстройство…
Но Викторъ сѣлъ на уголъ письменнаго стола.
– Счетъ мой имѣется и y меня въ записной книжкѣ, и y тебя. Провѣримъ. Отдай мнѣ ровно то, что мое. Отъ тебя я копейки лишней не возьму.
Симеонъ злобнымъ усиліемъ исказилъ лицо свое въ презрительную улыбку:
– Даже, если бы я пожелалъ возложить жертву на алтарь революціи?
– Даже. И предупреждаю тебя, Симеонъ. Чтобы все было на чистоту: безъ хитростей и подлыхъ шутокъ. Если съ чекомъ выйдетъ какая-либо заминка, или если лицо, которое будетъ получать по чеку, наткнется на полицію… Да! да! не дѣлай негодующихъ движеній: ты способенъ… Такъ, если хоть какое-нибудь несчастіе стрясется въ этомъ родѣ, даю тебѣ слово Виктора Сарай-Бермятова: завтрашній день – твой послѣдній день. Понялъ?…
Симеонъ молчалъ. Стараясь овладѣть собою, онъ нарочно долго рылся въ книгѣ записей, чтобы провѣрить цифру, на которую долженъ былъ написать чекъ, хотя отлично зналъ, что Викторъ назвалъ ее точно. Переносъ вниманія на дѣловыя рубрики и цифры немножко успокоилъ его, и чекъ написалъ онъ довольно твердою рукою. Очень хотѣлось ему не подать, a бросить Виктору чекъ этотъ, но – не посмѣлъ и только, молча, передвинулъ бумагу по столу рукой… Викторъ взялъ чекъ, внимательно прочиталъ, посмотрѣлъ, нѣтъ-ли на обратной сторонѣ безоборотной надписи, перечиталъ и, прежде чѣмъ спрятать, вынулъ изъ кармана брюкъ и подалъ Симеону заранѣе приготовленную расписку въ полученіи.
– Предусмотрительно! – криво усмѣхнулся Симеонъ.
– Надо только N чека проставить, – предупредилъ Викторъ. – Позволь мнѣ перо.
Онъ сдѣлалъ нужную вставку и вѣжливымъ жестомъ лѣвой руки передалъ Симеону документъ въ то самое время, какъ правою пряталъ чекъ.
– За симъ – до свиданья.
– Не вѣрнѣе-ли: прощайте? – злобно оскалилъ серпы свои Симеонъ. – Надѣюсь, что y тебя, какъ все-таки Сарай-Бермятова, достаточно ума и такта, чтобы догадаться, что ты больше никогда не переступить порога моего дома….
Викторъ повернулся къ нему отъ дверей.
– Твоего – да, – можешь быть увѣренъ. Но, къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ тобою живутъ братъ Матвѣй и сестры. Ихъ я буду посѣщать, когда хочу.
– A я тебя, въ такомъ случаѣ, прикажу метлою гнать! – завизжалъ, вскакивая, бурый, съ раскаленными углями, вмѣсто глазъ, – чортъ чортомъ, – махая руками, топая ногами, изступленный Симеонъ.
Викторъ пожалъ плечами.
– Попробуй.
И затворилъ за собою дверь.
Проходя мимо угловой, темной съ отворенною въ корридоръ дверью, чтобы замѣнить яркость погашенной лампы полумракомъ отраженнаго свѣта изъ корридора, – Викторъ услышалъ нервный, болѣзненно-чувственный смѣшокъ Модеста и ровно-тихій, смѣшливый, вкрадчивый говоръ Епистиміи:
– И вотъ, значить, поутру, Модестъ Викторовичъ, приходитъ молодая то къ мужнину дядѣ и говорить ему…
Двойной взрывъ хохота – басомъ Ивана, теноромъ Модеста – покрылъ окончаніе.
– A дядя, значитъ, Модестъ Викторовичъ, сидитъ на лавкѣ, повѣсилъ голову и говорить: – продать можно, отчего не продать? Только это вещь заморская, рѣдкостная, и цѣна ей немалая, 50 тысячъ рублевъ…
– Го-го-го! – басомъ загрохоталъ Иванъ.
– Тоже недурны ребята!.. – со злобою подумалъ Викторъ. – Порода! Было бы перетопить насъ всѣхъ маленькими, какъ неудачныхъ щенятъ.
И хотѣлъ пройти мимо, но Модестъ съ тахты замѣтилъ на бѣлой стѣнѣ корридора тѣнь его и окликнулъ:
– Викторъ!
– Я? – неохотно остановился Викторъ.
– Такъ ѣдешь сегодня?
– Да.
– Ну, счастливаго пути… Если хочешь пожать мнѣ руку, не полѣнись зайти… Я не могу встать, потому что – безъ ботинокъ… Епистиміия Сидоровна разсказываетъ мнѣ сказки и, извини меня, чешетъ мнѣ пятки… Для брата столь суроваго Катона рѣшительно непристойное баловство, но – что будешь дѣлать? Крѣпостническая кровь, Сарай-Бермятовскій атавизмъ… Изумительная мастерица… рекомендую испытать…
Викторъ, не отвѣчая, пошелъ корридоромъ, но голосъ Модеста опять догналъ его и заставилъ остановиться:
– Викторъ, съ чего это Симеонъ такъ бѣсновался?
– Спроси y него.
– Ужасно вопилъ. Я ужъ думалъ, что вы деретесь. Хотѣлъ идти разнимать.
– Что же не пришелъ?
– Ахъ, милый мой, въ разговорѣ между Каиномъ и Авелемъ третій всегда лишній.
Модестъ язвительно засмѣялся въ темнотѣ.
– Викторъ Викторовичъ, – возвысила голосъ Епистимія, – извините, что я хочу васъ спросить. Какъ Симеонъ Викторовичъ приказали мнѣ, чтобы, послѣ разговора съ вами, я опять къ нему въ кабинетъ возвратилась, – позвольте васъ спросить: какъ вы его оставили? въ какомъ онъ теперь будетъ духѣ?
– Подите и взгляните, – сухо отвѣчалъ Викторъ.
Онъ очень не любилъ этой госпожи.
– Ой, что вы!.. послѣ этакаго-то крика?.. Да я – лучше въ берлогу къ медвѣдю… Нѣтъ, ужъ видно до другого раза. Я за чужіе грѣхи не отвѣтчица… Прощайте, Модестъ Викторовичъ, до пріятнаго свиданія… Попадешь ему въ такомъ духѣ подъ пилу то, – тогда отъ него не отвяжешься. Иванъ Викторовичъ, до пріятнаго свиданія… Лучше мнѣ побѣжать домой.
IV
Викторъ вошелъ къ брату Матвѣю, не стуча. Матвѣй не любилъ, чтобы стучали. Онъ говорилъ, что стукъ въ дверь разобщаетъ людей, какъ предупрежденіе, чтобы человѣкъ въ комнатѣ успѣлъ спрятать отъ чело вѣка за дверью свою нравственную физіономію, – значитъ, встрѣтилъ бы входящаго, какъ тайнаго врага. Между тѣмъ, человѣкъ всегда долженъ быть доступенъ для другихъ людей и никогда не долженъ наединѣ съ самимъ собой быть какъ-нибудь такъ, и дѣлать что либо такое, что надо скрывать отъ чужихъ глазъ, чего онъ не могъ бы явить публично.
– Однако, ты самъ всегда стучишь, – возражали ему товарищи.
– Потому что не всѣ думаютъ, какъ я. Я не считаю себя въ правѣ насиловать чужіе привычки и взгляды. Къ тѣмъ, кто раздѣляетъ мои, въ комъ я увѣренъ, что это не будетъ ему непріятно, я вхожу, не стучась…
– Чудакъ! Но вѣдь ты же не знаешь, кто стоитъ за дверью? Ну, вдругъ, женщина, дама? A ты, между тѣмъ, въ безпорядкѣ?
– Я не дѣлю своихъ отношеній къ людямъ по полу. Если меня можетъ видѣть мужчина, можетъ видѣть и женщина.
– Ну, другъ милый, это – не согласно съ природою, какъ ты всегда проповѣдуешь, a противъ природы: и птицы, и звѣри – всѣ самцы для самокъ особо прихорашиваются.
– Да, – строго соглашался Матѣй, – но когда? – въ періодъ полового возбужденія.
– Да, бишь… извини!.. вѣдь ты y насъ принципіальный дѣвственникъ.
Матвѣй и отъ того отрекался.
– Что значитъ "принципіальный"? – возражалъ онъ. – Такого принципа никто никогда не устанавливалъ. Я тѣмъ менѣе.
– A христіанскій аскетизмъ?
Матвей закрывалъ глаза, – онъ не умѣлъ вспоминать иначе, – и читалъ наизусть изъ "Перваго посланія къ Коринѳянамъ":
– A о нихже писасте ми, добро человѣку женѣ не прикасатися. Но блудодѣянія ради, кійждо свою жену да имать, и каяждо своего мужа… Глаголю же безбрачнымъ и вдовицамъ: добро имъ есть, аще пребудутъ, якоже и азъ: аще ли не удержатся, да посягаютъ: лучше бо есть женитися, нежели разжизатися.
– Я могу удержаться, не разжигаясь, – вотъ и весь мой принципализмъ, – объяснялъ онъ. – Если-бы я почувствовалъ, что начинаю "разжизатися", то, конечно, поспѣшилъ бы женитися…
– Ну, гдѣ тебѣ!
Еще проходя залою, за двѣ комнаты до Матвѣевой комнаты, Викторъ слышалъ молодой ревъ спорящихъ голосовъ, которые всѣ старался перекричать козлиный теноръ студента Немировскаго:
– Я стою на почвѣ наблюденія, a ты валяешь a priori.
A мягкій женственный альтъ Матвѣя возражалъ:
– Предвзятому наблюденію цѣна – мѣдный грошъ.
И жаль стало Виктору, что не можетъ онъ сейчасъ остаться съ этою шумною, веселою, спорчивою, смѣшливою, зубатою товарищескою молодежью, – покричать и поволноваться, покурить и помахать руками въ ея безконечныхъ, всегда готовыхъ вспыхнуть, диспутахъ, для которыхъ каждая тема люба, точно сухая солома, только ждущая искры изъ мимо летящаго паровоза, чтобы воспламениться въ пожаръ. Но суровый и угрюмый рокъ звалъ его далеко, – не мѣшкая, на жуткій путь, на трудное дѣло. И, когда жалъ онъ руки друзьямъ, опять лицо его стало солдатское, простонародное, и глаза утратили индивидуальность, точно y рядового, шагающаго въ составѣ роты своей, – и движется та рота въ далекій, тяжкій, безрадостный походъ…
Народу въ комнату Матвѣя набралась труба нетолченая. И длинный, тощій, съ прыгающими впередъ, точно бѣлые шары на веревочкахъ, глазами, студентъ Немировскій; и красивый, важный, съ лицомъ сентиментальнаго неудачника, помощникъ присяжного повѣреннаго Грубинъ; и методическій, точный, на параллелограммъ похожій, бѣлобрысый остзеецъ, учитель мужской гимназіи, историкъ Клаудіусъ. На окнѣ, въ полутѣни широкихъ синихъ занавѣсокъ, сидѣла, забравшись съ ногами на подоконникъ, въ коричневомъ гимназическомъ платьѣ, Зоя, младшая изъ двухъ сестеръ Сарай-Бермятовыхъ: некрасивая, почти дурнушка, очень полная дѣвочка-блондинка, лѣтъ пятнадцати, но съ грудью, точно она троихъ ребятъ выкормила. Лицо калмыцкое, пухлое, дерзкое; губы толстыя, слегка вывороченныя, на очень бѣломъ лицѣ производили впечатлѣніе кроваваго пятна, точно она во рту держала кусокъ сырого мяса; глазъ почти не видать, а, когда блеснутъ, не успѣешь разобрать, какого они цвѣта: сверкнетъ въ упоръ что-то смышленое, наглое и спрячется, будто театральный дьяволъ въ трапъ, за длинныя золотыя рѣсницы. Дѣвочка уже ушла изъ этого подростка, a дѣвушка входитъ въ нее недоброю поступью… еще молчитъ, но скоро заговорить… и врядъ ли хорошо и на благо людямъ будетъ слово ея жизни… Подлѣ Зои, верхомъ на стульяхъ, качались два юноши – одинъ сухопарый гимназистъ, съ зеленымъ лицомъ, освѣщеннымъ бутылочными сумасшедшими глазами; другой – студентъ-первокурсникъ, изъ тѣхъ, которые "и въ кинематографъ при шпагѣ ходятъ", румяный франтъ, чувственный, самовлюбленный. Глядѣлъ на Зою побѣдителемъ, – на что та, впрочемъ, не обращала ни малѣйшаго вниманія, – и, вообще, посматривалъ вокругъ себя съ видомъ самодовольствія неисчерпаемаго. Каждая черточка этого сытаго, счастливаго собою, лица, каждое движеніе, умышленно сильное, расчетливо выпуклое, холенаго, тренированнаго на мускулы, тѣла въ щегольскомъ мундирѣ – такъ и вопіяли на встрѣчу приближающимся смертнымъ.
– Ахъ, да посмотрите же, полюбуйтесь же, какой я лейтенантъ Гланъ и даже самъ Санинъ!
A зеленолицый гимназистъ читалъ Зоѣ наизусть хриплымъ, гробовымъ голосомъ:
Полюбила, заалѣлась,
Вся хвосточкомъ обвертѣлась,
Завалилась на луга.
Ненаглядный мой, пріятный,
Очень миленькій, занятный,
Гдѣ ты выпачкалъ рога?{"Черняка" г. С. Городецкаго.}
– Тише вы! – носовымъ лѣнивымъ голосомъ повелѣвала Зоя. – Услышитъ Матвѣй стыдно будетъ…
– A вы еще умѣете, что вамъ бываетъ стыдно? – съ роковой санинскою улыбкою спросилъ студентъ.
Зоя холодно посмотрѣла на него изъ-подъ золотистыхъ рѣсницъ, которыя умышленно держала опущенными, потому что онѣ были очень красивы, и сказала тономъ безапелляціоннаго начальства:
– Не ломайтесь, Васюковъ!..И какой дуракъ выучилъ васъ такъ говорить по-русски: "умѣете, что вамъ бываетъ"… А еще орловецъ и филологъ!.. Леониду Андрееву землякъ! Читайте дальше, Ватрушкинъ. Только не орите: вы не на пароходѣ въ бурю, – слышимъ и безъ рупора.
A гимназистъ прохрипѣлъ:
– Не безпокойтесь, Зоя Викторовна: имъ не до насъ… они теперь до утра кричать будутъ…
До утра не разставались,
Яснымъ небомъ любовались
На востокъ и на закатъ.
Викторъ мигнулъ Матвѣю. Тотъ понялъ и вышелъ съ нимъ въ темный залъ, освѣщенный лишь четверо-угольникомъ двери, будто врѣзавшимъ правильное, изжелтабѣлое пятно свое въ старенькій паркетъ.
Матвѣй, стоя спиною къ свѣту, зажигавшему пламенемъ его золотые кудри, былъ еще на полголовы выше своего высокаго брата и слегка наклонялся къ нему тонкій, узкій, худой, слабо сложенный, чуть сутуловатый.
– Ѣдешь? – спокойно спросилъ онъ
– Да. Прощай, братъ. Спѣшу. И то запоздалъ.
– Симеонъ задержалъ тебя?
– Немножко. Не слишкомъ. Я ждалъ худшаго. Теперь – аминь. Въ чистую.
– Я очень радъ, – серьезно сказалъ Матвѣй. – Теперь вамъ обоимъ будетъ лучше. Люди начинаютъ понимать другъ друга только тогда, когда между ними исчезаетъ эта страшная плотина – деньги. Пока она существовала, я боялся, что между вами произойдетъ что-нибудь ужасное.
– Ну, ломать эту плотину пришлось довольно грубо, – усмѣхнулся Викторъ, – и врядъ ли обломки ея годятся, какъ фундаментъ для дружества.
– Простился съ Иваномъ, Модестомъ?
– Не могъ, – сухо сказалъ Викторъ: – оба были заняты слишкомъ важнымъ дѣломъ… Ивану кланяйся, a Модестъ… Матвѣй! искренно, съ убѣжденіемъ прошу тебя: будь осторожнѣе съ этимъ господиномъ!
– Ты говоришь о братѣ, Викторъ! – мягко и грустно упрекнулъ Матвѣй.
Викторъ нетерпѣливо тряхнулъ головой.
– Въ полѣ встрѣчаться – родней не считаться.
– Что ты имѣешь противъ него?
– То, что y него – вмѣсто души – всунута грязная тряпка.
– Полно, Викторъ! Ну… выпить слишкомъ любитъ… ну… немножко черезчуръ эстетъ… Но…
– Оставь! – съ отвращеніемъ остановилъ Викторъ. – У насъ такъ мало минуть, что, право, жаль ихъ на него тратить. Знаемъ мы этихъ эстетовъ изъ публичныхъ домовъ, съ гнилымъ мозгомъ и половой неврастеніей вмѣсто характера. По мѣрѣ ихъ удобства и надобности, изъ нихъ вырабатываются весьма гнусные сводники и провокаторы…
– Викторъ! Викторъ!
Но онъ хмурился и упрямо говорилъ:
– Во всей нашей семьѣ, ты – единственный, кого я еще чувствую своимъ… И жаль же мнѣ тебя, бѣдняга!
– Что меня жалѣть? – кротко возразилъ Матвѣй, и глаза его теплились въ полумракѣ. Я такъ устроенъ, что мнѣ въ самомъ себѣ всегда хорошо. A на Модеста не сердись. Онъ больной.
– По нашему времени, это иногда гораздо хуже, чѣмъ безсовѣстный, – холодно оборвалъ Викторъ и, вдругъ, внезапнымъ, нѣжнымъ порывомъ, положилъ брату обѣ руки на плечи:
– До свиданья, святъ мужъ! Сестеръ поцѣлуй. Я съ ними не прощаюсь. Аховъ и визговъ боюсь. Да Аглаи и дома нѣтъ.
Матвѣй нерѣшительно не одобрилъ:
– Жаль, все-таки… Какъ знать? Можетъ быть, на смерть ѣдешь.
– Этого я имъ сообщить, все равно, не могу, – угрюмо проворчалъ Викторъ, опуская голову.
Матвѣй грустно обнялъ его.
– Отрѣзалъ ты себя отъ насъ!
Викторъ ласково, но рѣшительно высвободился.
– Да. И не надо по отрѣзанному мѣсту пальцемъ водить. Мнѣ сейчасъ всѣ мои нервы нужны, весь характеръ нуженъ.
Матвѣй кивнулъ головою, что согласенъ.
– Надѣешься на успѣхъ?
Викторъ выпрямился, глаза сверкнули въ полутьмѣ.
– Если деньги не помогутъ, лбомъ стѣну прошибу, на проломъ полѣзу. Ну, прощай, святъ мужъ. Обнимемся. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь… Ты дальше меня не провожай. Возвратись къ товарищамъ. Совсѣмъ лишнее, чтобы отъѣздъ мой вызвалъ разговоры…
Матвѣй крѣпко сжалъ его сильныя плечи въ нѣжныхъ, худыхъ рукахъ своихъ и произнесъ голосомъ звучнымъ, глубокимъ, трепетнымъ, проникновеннымъ:
– Брать! Если возможно… умѣй щадить!
По мрачному лицу Виктора пробѣжала судорога, и радъ онъ былъ, что полумракъ комнаты скрылъ ее.
– Не умѣю! – нарочно грубо оторвалъ онъ.
И оторвался отъ брата. И ушелъ. И больше его никогда уже не видѣли въ этомъ домѣ.
Матвѣй коротко посмотрѣлъ ему вслѣдъ, облегчилъ вздохомъ стѣснившееся сердце и возвратился къ себѣ въ комнату, гдѣ, въ свѣту и дыму, продолжалъ еще бурлить и шумѣть прежній, неоконченный споръ… Матвѣй, подъ гулъ его, думалъ о Викторѣ. Ему было жаль брата и не чувствовалъ онъ, непротивленецъ, симпатіи къ дѣятельности, въ которую тотъ себя уложилъ. Но онъ любилъ, чтобы человѣкъ, принявшій на себя обязанность, исполнялъ ее свято, и людей, страдавшихъ и даже погибавшихъ на служеніи долгу своему, только любилъ съ умиленіемъ, но не сокрушался о нихъ и не скорбѣлъ. И лицо его было спокойно, и съ ясною головою прислушался онъ къ товарищамъ, и самъ быстро вошелъ въ шумъ ихъ.
Споръ кипѣлъ изъ-за образовательнаго опыта, которому Матвѣй подвергалъ того самаго Григорія Скорлупкина, что давеча рекомендованъ былъ Модестомъ Ивану, какъ субъектъ, обрѣтающійся всегда при деньгахъ и обложенный въ пользу Модеста кредитною повинностью за то, что онъ будто бы влюбленъ въ красавицу Аглаю. Крѣпостной дѣдушка этого Скорлупкина состоялъ при дѣдушкѣ нынѣшнихъ Сарай-Бермятовыхъ въ егеряхъ, a тятенька – при папенькѣ Сарай-Бермятовыхъ въ вольнонаемныхъ разсыльныхъ. A самого Скорлупкина Вендль, неугомонный изыскатель и коллекціонеръ людей, любилъ иногда поэкзаменовать, встрѣчая его y Сарай-Бермятовыхъ, либо на улицѣ, либо въ ресторанѣ, потому что съ нѣкотораго времени молодой человѣкъ этотъ началъ, по какимъ-то особымъ, не вы сказаннымъ причинамъ, чрезвычайно интересовать его.
– Ну, что вы? какъ? а? – спрашивалъ Вендль, обдавая некурящаго Скорлупкина благовоніемъ рублевой сигары и проницательно разглядывая его сквозь дымное облако.
Скорлупкинъ, питавшій къ Вендлю большое уваженіе за то, что онъ, наслѣдникъ богатаго дисконтера, не только не промоталъ родительскихъ капиталовъ, но еще адвокатской практикой зарабатываетъ большія деньги, – свободно кланялся и отвѣчалъ:
– Слава Богу. Живемъ. Покорнѣйше благодарю.
– Преуспѣваете? а?
– По мѣрѣ своихъ способностей. По распоряженію Матвѣя Викторовича, посѣщаю народный университетъ.
– Интересно?
Къ удивленію Вендля, Скорлупкинъ отвѣчалъ безъ всякаго восторга:
– Однако, о серьезномъ читаютъ. Приблизительно весьма многаго не могу понимать. Все больше наблюдаютъ о простомъ народѣ, какъ ему жить легче. Намъ ни къ чему.
– Ангелъ мой, – воскликнулъ Вендль, – да вы то сами – кто же? Аристократомъ почитаете себя, что ли? Въ бархатной книгѣ записаны?
– Какая наша аристократія! – усмѣхнулся Скорлупкинъ. – Родня моя, сказать абсолютно, – черная, и образованіе – одинъ пшикъ.
– Въ такомъ случаѣ, почему же вы недовольны лекціями о простомъ народѣ? Среду свою изучить всякому любопытно.
– Да я ее самъ лучше всякаго профессора знаю. Помилуйте, Левъ Адольфовичъ, – воодушевился Скорлупкинъ, – мнѣ ли народа не понимать? Дѣдъ былъ дворовый, родитель крестьянствовалъ, лишь передъ смертью, спасибо ему, догадался въ мѣщане выписаться. Маменька, и по сейчасъ, въ божественности своей, совершенно сѣрая женщина. Кабы не тетеньки Епистиміи настояніе, да не Матвѣй Викторовичъ, было бы мнѣ съ дураками въ черномъ тѣлѣ, пропасть.
– Не возноситесь, мой другъ, не возноситесь! Помните, что гордость – грѣхъ смертный и нѣкогда погубила сатану, – насмѣшливо вставилъ Вендль. Семитическая кровь его, благоговѣйная къ семьѣ и родовому союзу, была возмущена тономъ презрительнаго превосходства, которымъ этотъ даже еще не выскочка, a только отдаленная возможность выскочки говоритъ о своемъ родѣ-племени. Скорлупкинъ замѣтилъ и осторожно поправился:
– Нѣтъ, вы не извольте думать: я родителей своихъ не стыжусь. Но, самъ возросши въ темной дурости, я во всякомъ другомъ слѣпоту подобную насквозь вижу за сто шаговъ.
– Матвѣй готовитъ васъ къ экзамену зрѣлости?
– Улита ѣдеть – когда-то будетъ, – усмѣхнулся Скорлупкинъ.
– Не въ охоту?
Скорлупкинъ замялся, но, не встрѣчая въ любопытныхъ глазахъ Вендля рѣшительнаго порицанія, признался съ искренностью:
– Не то, что не въ охоту. Результатъ чрезвычайно отдаленный. Это съ дѣтства начинать надо, a мнѣ двадцать третій годъ. Теперь мнѣ – жить въ пору, капиталъ дѣлать, a не уроки долбить.
– Такъ что Матвѣй васъ, въ нѣкоторомъ родѣ, въ ученый рай свой на арканѣ тянетъ? – засмѣялся Вендль.
A Скорлупкинъ объяснилъ:
– Покойнаго родителя моего непремѣнное желаніе было, чтобы я получилъ господское образованіе и гимназію кончилъ. Но здоровьишкомъ я былъ въ то время слабъ, никакихъ способностей не оказывалъ, – силенки, значить, мои ребячьи того не дозволяли. Опредѣлили меня по торговой части, закабалили на годы въ мальчики въ бѣльевой магазинъ. тѣмъ не менѣе, родитель мой мечты своей не оставилъ. Умирая, просилъ Мотю, чтобы содѣйствовалъ мнѣ осуществить завѣтъ образованія.
– Что же Мотя могъ сдѣлать для васъ? – удивился Вендль. – Онъ тогда мальчикъ былъ. Слѣдовало просить Симеона.
Скорлупкинъ, усмѣхаясь, покрутилъ головой.
– Предъ Симеономъ Викторовичемъ родитель мой пикнуть не смѣлъ, – сказалъ онъ, опять съ недавнимъ превосходствомъ. – Вѣдь мы, Скорлупкины, искони Сарай-Бермятовскіе слуги, еще съ крѣпости, изъ рода въ родъ. Я – первый, что самъ по себѣ живу и свою фортуну ищу. A маменьку, либо тетеньку Епистимію до сихъ поръ спросите: гдѣ были? – не сумѣютъ сказать: y господъ Сарай-Бермятовыхъ, – говорить: y нашихъ господъ.
– Вамъ смѣшно? – съ брезгливостью спросилъ Вендль: развязность этого потомка на счетъ ближайшихъ предковъ опять его покоробила.
Но на этотъ разъ Скорлупкинъ чувствовалъ себя на твердой почвѣ и нисколько не смутился.
– Да – какъ же, Левъ Адольфовичъ? – возразилъ онъ. – Конечно, что должно быть смѣшно. Крѣпости не знали, въ свободномъ крестьянствѣ родились, вольными выросли, a умъ и языкъ – крѣпостные. Полувѣкомъ изъ нихъ рабское наслѣдство не выдохлось.
Вендль подумалъ, прикинулъ умомъ, воображеніемъ, и – согласился.
– Да… жутковато! – вздохнулъ онъ. – Дрессировали же людей! Достало на два поколѣнія!
A Скорлупкинъ продолжалъ:
– Родитель мой, при Мотѣ, маленькомъ, когда господа Сарай-Бермятовы въ упадокъ пришли, остался вродѣ какъ бы дядькою. Мы съ Мотею – однолѣтки, вмѣстѣ росли, въ дѣтскія игры играли.
– Такъ что просьба отца вашего попала по адресу? – одобрительно сказалъ Вендль. Скорлупкинъ отвѣчалъ съ гордымъ удовлетвореніемъ и почти нѣжностью въ глазахъ:
– Да, ужъ, знаете, если Мотя что обѣщалъ, такъ это стѣна нерушимая. Чуть самъ въ возрастъ вошелъ и свободу поступковъ получилъ, сейчасъ же и за меня принялся. Второй годъ тормошимся… Обижать его жаль, – тихо прибавилъ онъ, опуская голову, – a надлежало бы къ прекращенію.
Вендлю захотѣлось помочь Матвѣю, котораго онъ уважалъ и любилъ, хоть легкимъ ободреніемъ скептическаго его ученика:
– Однако, изъ учителей вашихъ, Аглая Викторовна отзывалась мнѣ о вашихъ занятіяхъ хорошо.
– Да? – удивился и обрадовался Скорлупкинъ, – покорнѣйше благодарю. Только это она, – подумавъ и съ печалью, добавилъ онъ, – по ангельской добротѣ своей. A мнѣ съ нею, признаться, всѣхъ труднѣе. Потому что, знаете, Левъ Адольфовичъ, стыдно ужасно, – съ довѣрчивостью пояснилъ онъ. – Съ мужчинами осла ломать – еще куда ни шло. Но когда долженъ ты мозги свои выворачивать предъ этакою чудесною барышней, и ничего не выходить, и должна она подумать о тебѣ въ самомъ низкомъ родѣ, что оказываешься ты глупый человѣкъ, оно, Левъ Адольфовичъ, выходить ужасно какъ постыдно.
– Вы въ своего ангелоподобнаго профессора, конечно, влюблены? – спросилъ Вендль, съ улыбкой нѣсколько высокомѣрной.
Но Скорлупкинъ сердито покраснѣлъ, точно услышалъ неприличность.
– Это Модестъ Викторовичъ на смѣхъ выдумали, дразнятъ меня. Развѣ я дерзнулъ бы?
– Ну, влюбиться, – на это большой дерзости не надо, – холодно возразилъ Вендль, посасывая сигару. – Вотъ признаться въ томъ этакой красавицѣ и взаимности искать – другая статья…
Но, если Аглая Викторовна, въ кроткой нетребовательности своей, удовлетворялась успѣхами, которые съ грѣхомъ пополамъ оказывалъ взрослый ученикъ ея, то другіе наставники – нетерпѣливые мужчины – далеко не были такъ снисходительны. Нынѣшній споръ между Матвѣемъ и его товарищами именно и возгорался изъ за того, что Немировскій, дававшій Скорлупкину уроки алгебры и геометріи, пришелъ отъ нихъ отказываться:
– Не могу, усталъ. Даромъ время тратимъ. Совершенно дубовая башка.
Матвѣй возмутился и запротестовалъ, но остальные поддержали Немировскаго.
– Когда кто-нибудь не въ состояніи вообразить себѣ четвертаго измѣренія, – насмѣшливо говорилъ красивый Грубинъ, – то я его только поздравляю. Но если ему не удается усвоить первыхъ трехъ, дѣло его швахъ.
Матвѣй, взметывая золотые кудри свои – ореолъ молодого апостола – и сверкая темными очами, упрямо кивалъ головою, какъ норовистая лошадь, и твердилъ:
– Я далъ слово, что сдѣлаю Григорія человѣкомъ, и онъ будетъ человѣкомъ.
– Въ ресторанѣ, можетъ быть, – сострилъ Немировскій, – въ жизни – сомнѣваюсь.
Матвѣй посмотрѣлъ на него, плохо понимая каламбуръ: онъ былъ совершенно невоспріимчивъ къ подобнымъ рѣчамъ. Потомъ сморщился и сказалъ съ короткою укоризною:
– Плоско.
Немировскій сконфузился, но желалъ удержать позицію и потому еще нажалъ педаль на грубость:
– Нельзя взвьючивать на осла бремена неудобоносимыя.
– Ругательство – не доказательство, – грустно возразилъ Матвѣй.
Тогда вмѣшался Клаудіусъ, параллелограмму подобный, со спокойными, размѣренными продолговатыми жестами, голосомъ, похожимъ на бархатный ходъ маятника въ хорошихъ стѣнныхъ часахъ:
– Теоретически я высоко цѣню просвѣтительные опыты въ низшихъ классахъ общества, но, какъ педагогъ, научился остерегаться ихъ практики.
– Остановись, педагогъ, – воскликнулъ Матвѣй, всплеснувъ худыми бѣлыми руками, – еще шагъ, и ты, какъ Мещерскій, договоришься до "кухаркина сына".
Но Клаудіусъ не остановился, a покатилъ плавную рѣчь свою дальше, точно по рельсамъ вагонъ электрическаго трамвая.
– При малѣйшей ошибкѣ въ выборѣ, мы не возвышаемъ, но губимъ субъекта.
– A обществу даримъ новаго неудачника, неврастеника, пьяницу, – подхватилъ Грубинъ.
– Либо сажаемъ на шею народную новаго кулака, – язвительно добавилъ Немировскій.
Но Матвѣй зажалъ ладонями уши и говорилъ:
– Ненавижу я интеллигентскую надменность вашу. Барѣ вы. Важнюшки. Гдѣ вамъ подойти вровень къ простому человѣку!
Грубинъ пожалъ плечами.
– Какъ тебѣ угодно, Мотя, но – что тупо, того острымъ не назовешь.
– Хорошо тебѣ съ прирожденною то способностью! – возразилъ Матвѣй.
– Не доставало еще, чтобы мы увязли въ прирожденности идей! – захохоталъ Немировскій, a Клаудіусъ, молча, улыбнулся съ превосходствомъ. Но Матвѣй стоялъ посреди комнаты и, потрясая руками, говорилъ:
– Вы дѣти культурныхъ отцовъ. Ваши мозги подготовлены къ книжной и школьной муштрѣ въ наслѣдственности образовательныхъ поколѣній. За васъ ваши батьки и дѣды сто лѣтъ читали, учились, писали. А, когда какой-нибудь Григорій Скорлупкинъ ползетъ изъ тьмы къ свѣту, онъ – одинъ, самъ за себя работаетъ, никакихъ тѣней помогающей наслѣдственности за нимъ не стоить, его мозгъ дѣвственный, мысль прыгаетъ, какъ соха на цѣлинѣ: здѣсь – хвать о камень, тамъ – о корень.
– Позволь, Матвѣй! – остановилъ Грубинъ. – Двоюродный брать Скорлупкина, Илья, – такой же темный мѣщанинъ. Однако, съ нимъ – говорить ли, читать ли – наслажденіе.
– То есть, тебѣ нравится, что вы распропагандировали его на политику! – возразилъ Матвѣй.
– Положимъ, не мы, a твой брать Викторъ, – поправилъ точный Клаудіусъ.
Матвѣй же, грустно усмѣхаясь, продолжалъ критиковать:
– Ленина съ Плехановымъ разбираетъ по костямъ, Чернова съ Дѣлевскимъ критикуетъ, какъ артистъ, a "весело" черезъ два ять пишетъ.
– Велика бѣда! – равнодушно замѣтилъ Грубинъ. – За то – товарищъ.
– Для меня это человѣка не опредѣляетъ, – возразилъ Матвѣй. – Я самъ соціалистъ лишь на половину…







