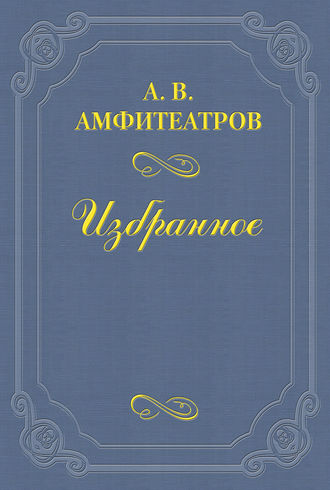
Александр Амфитеатров
Паутина
– На которую, святъ-мужъ? – ехидно отмѣтилъ Немировскій. – Съ головы до живота или отъ пупка до пятокъ?
Но Матвѣй, не чувствительный къ насмѣшкамъ и трудно и поздно ихъ понимавшій, стоялъ на своемъ:
– Я не считаю себя вправѣ тянуть въ соціализмъ человѣка, который не имѣетъ выбора доктринъ.
Клаудіусъ засмѣялся торжественнымъ гулкимъ смѣхомъ, точно теперь величественные часы, въ немъ заключенные, стали полнозвучно бить:
– Да ужъ не вернуться ли намъ ко временамъ культурной пропаганды?
– Вербовка въ партію – не просвѣщеніе! – сказалъ Матвѣй.
– Равно какъ и фабрикація полуграмотныхъ буржуа, – возразилъ Грубинъ.
A y окна зеленолицый гимназистъ Ватрушкинъ уныло гудѣлъ:
– Ты пришла съ лицомъ веселымъ.
Розы – щеки, бровь – стрѣла.
И подъ небомъ-нѣбомъ голымъ
Въ пасти улицы пошла.
Продалась кому хотѣла.
И вернулась. На щекахъ
Пудра пятнами бѣлѣла,
Волосъ липнулъ на вискахъ.
И опять подъ желтымъ взоромъ
Въ тѣнь угла отведена,
Торопливымъ договоромъ
Цѣловать осуждена…{ Per Aspera, г. С. Городецкаго }
– Задерните меня! – вдругъ испуганнымъ шепотомъ приказала Зоя, сильно пошевелившись на окнѣ, студенту Васюкову.
– Чего?
"Санинъ" выпучилъ глаза, не понимая, a Зоя торопливо командовала:
– Задерните меня… Боже, какой недогадливый… занавѣскою задерните… Я слышу: въ залѣ ходитъ Симеонъ… – пояснила она, исчезая за синимъ трипомъ.
Матерія еще не перестала колыхаться, когда на порогѣ комнаты, дѣйствительно, показался Симеонъ. Онъ былъ въ пальто и шляпѣ-котелкѣ, съ тростью въ рукахъ, и – неожиданно – въ духѣ. Причиною тому была, какъ ни странно, грубая сцена, происшедшая между нимъ и Викторомъ. Оставшись одинъ, Симеонъ внимательно перечиталъ расписку Виктора и трижды вникалъ въ послѣднія ея строки, что "все причитавшееся мнѣ изъ наслѣдства дяди моего Ивана Львовича Лаврухина получилъ сполна и никакихъ дальнѣйшихъ претензій къ брату моему, Симеону Викторовичу Сарай-Бермятову, по поводу сказаннаго наслѣдства имѣть не буду". И чѣмъ больше онъ вчитывался, тѣмъ яснѣе просвѣтлялся лицомъ, ибо эта категорическая расписка неожиданно оставила въ его карманѣ – чего Викторъ, конечно, и не подозрѣвалъ, – не малый капиталецъ…
– "Все"… – думалъ Симеонъ, саркастически оскаливая зубные серпы свои. – То-то "все"… Юристы тоже! И чему только ихъ въ университетѣ учатъ?… Напиши онъ даже "всю сумму", "всѣ деньги", и вотъ уже – другая музыка… Все!.. съ этимъ "все" ты y меня, другъ милый, на недвижимости то облизнешься!.. Поздравляю васъ, Симеонъ Викторовичъ, съ подаркомъ. Теперь я этому мальчишкѣ покажу, какъ брать за шиворотъ старшаго брата, права свои, видите ли, осуществлять чуть не съ револьверомъ въ рукахъ. Изъ недвижимости, что хочу, то и вышвырну негодяю – и все будетъ съ моей стороны еще милостью, благодѣяніемъ, потому что – могу и ничего не дать: расписка-то вотъ она, право-то за меня… Ахъ, мальчишка! мальчишка!
Эти соображенія настолько развеселили Симеона, что онъ даже не особенно разгнѣвался, узнавъ, что Епистимія, вопреки его приказанію ждать новой бесѣды, убоялась идти къ нему и убѣжала домой.
– Ну, и чортъ съ ней! – рѣшилъ онъ. – Въ концѣ концовъ, можетъ быть, къ лучшему. Я слишкомъ много нервничалъ сегодня. Съ возбужденными нервами вести новый отвѣтственный разговоръ – того гляди, попадешь въ ловушку… Епистимія – не Викторъ… Холодная бестія, вьющаяся змѣя… Съ нею держи ухо востро: эта безграмотная троихъ юристовъ вокругъ пальца окрутитъ…
Вмѣсто того, онъ рѣшилъ поѣхать къ Эмиліи Ѳедоровнѣ Вельсъ, разсчитывая въ салонѣ этой дамы, какъ въ центральномъ бассейнѣ всѣхъ городскихъ вѣстей и слуховъ, "понюхать воздухъ", – авось, ненарокомъ, и нанюхаетъ онъ волчьимъ чутьемъ своимъ какой-нибудь слѣдокъ къ источнику обезпокоившихъ его клубской болтовни и анонимокъ…
Проходя заломъ и слыша горячій споръ молодежи, Симеонъ пріостановился, послушалъ и, презрительно улыбнувшись, хотѣлъ пройти мимо, но Клаудіусъ замѣтилъ его въ дверь и издали раскланялся. Симеону пришлось войти къ Матвѣю, чтобы пожать руки Клаудіусу и Немировскому, которыхъ онъ еще не видалъ…
– О чемъ шумите вы, народные витіи? – спросилъ онъ, прислоняясь къ притолкѣ и посасывая набалдашникъ палки своей – художественную японскую рѣзьбу по слоновой кости, изображавшую женщину съ головою лисицы: японскую ламію.
Клаудіусъ объяснилъ:
– Матвѣй громитъ насъ за то, что мы отказываемся непроизводительно тратить трудъ и время на занятія съ его протеже Скорлупкинымъ.
Симеонъ вынулъ палку изо рта, поправилъ шапку на головъ и сказалъ внушительно, съ авторитетомъ:
– Матвѣй правъ. И я сожалѣю. Парень дѣльный.
Матвѣй, никакъ не ожидавшій отъ него такой поддержки, взглянулъ на брата съ изумленіемъ. Потомъ вскричалъ:
– Слышите, фуфыри? Даже Симеонъ оцѣнилъ!
"Даже" Матвѣя не очень понравилось Симеону, и онъ строго разъяснилъ:
– Симеонъ всегда любилъ энергію, уважалъ трудъ и людей, которые понимаютъ и исполняютъ его обязательность.
– Я не умѣю подчиняться обязательности труда, – холодно зѣвнулъ красивый Грубинъ, садясь на Матвѣеву постель.
– Въ моихъ рукахъ спорится только трудъ излюбленный, – вторя отозвался ему Немировскій.
Симеонъ закурилъ папиросу и учительно возразилъ:
– Всякій обязательный трудъ можно обратить въ излюбленный. Надо только придать ему излюбленную цѣль.
– То есть? – спросилъ, будто полчаса пробилъ, Клаудіусъ.
– Цѣль, способную раскалить въ человѣкѣ величайшую пружину воли: эгоизмъ любимой страсти. Чтобы изъ статическаго состоянія онъ перешелъ въ динамическое, изъ недвижимаго сбереженія силъ въ энергію дѣятельнаго достиженія.
Грубинъ зѣвнулъ.
– Вы, Симеонъ Викторовичи, сегодня говорите, будто русскій магистрантъ философскую диссертацію защищаетъ. Оставьте. Я двѣ ночи не спалъ.
Но Симеонъ курилъ, посмѣиваясь, и говорилъ:
– Вы всѣ нехристи и безбожники…
– Меня исключи, – остановилъ Матвѣй.
– Его исключи: онъ еще донашиваетъ ризы божескія, – глумясь, подхватилъ Немировскіи.
– По Владиміру Соловьеву, – пробилъ курантами своими Клаудіусъ. Симеонъ, все посмѣиваясь и покуривая, продолжалъ:
– Я не очень большой ораторъ и діалектикъ, обобщать не мастеръ, люблю говорить образами и притчами. Ну-ка, кто изъ васъ, еретиковъ, помнить "Книгу Бытія"? Іакова, влюбленнаго жениха прекрасной Рахили?
Матвѣй взялъ съ письменнаго стола своего черную толстую Библію и, быстрою привычною рукою листая ее, нашелъ желаемый текстъ:
– Іаковъ полюбилъ Рахиль и сказалъ Лавану: "я буду служить тебѣ семь лѣтъ за Рахиль, младшую дочь твою. И служилъ Іаковъ за Рахиль семь лѣтъ. И они показались ему за нѣсколько дней, потому что онъ любилъ ее".
Симеонъ вынулъ папиросу изо рта и повторилъ съ выразительнымъ кивкомъ:
– "Потому что онъ любилъ ее". – Слышали, аггелы?
– Такъ что же? – отозвался съ постели Грубинъ.
Симеонъ направилъ на него папиросу, какъ указку, и сказалъ:
– То, что безъ Рахили въ перспективѣ нѣтъ труда успѣшнаго и пріятнаго. A съ Рахилью въ мечтѣ, семь лѣтъ труда кажутся Іакову за недѣлю.
– Какъ всегда, ты – грубый матеріалистъ, Симеонъ, – раздумчиво сказалъ, ходившій по комнатѣ, руки за кушакомъ блузы, Матвѣй.
Симеонъ бросилъ папиросу.
– Неправда. Это ты понялъ меня грубо. Бери легенду шире. Мы всѣ Іаковы. Я, ты, онъ, твой Григорій Скорлупкинъ, даже вотъ эти безпутные Модестъ и Иванъ, – кивнулъ онъ на входившихъ среднихъ братьевъ. – И y всѣхъ y насъ есть свои Рахили.
– A я былъ увѣренъ, что ты антисемитъ? – промямлилъ Модестъ, лѣниво таща ноги и одѣяло черезъ комнату къ кровати. – Ну-ка, Грубинъ, пусти меня на одръ сей: ты мальчикъ молоденькій, a я человѣкъ заслуженный и хилый…
Симеонъ оставилъ его вставку безъ вниманія и продолжалъ:
– Одному судьба посылаетъ Рахиль простую, будничную, домашнюю. Рахили другихъ мудреныя, философскія, политическія.
– Ты своей Рахили, кажется, достигъ? – бросилъ ему съ кровати Модестъ.
Симеонъ обратилъ къ нему лицо.
– Если ты имѣешь въ виду… – началъ онъ.
– Дядюшкино наслѣдство, – коротко и кротко произнесъ Модестъ.
На лицахъ блеснули улыбки.
– Когда вы боролись за него съ Мерезовымъ, – сказалъ Грубинъ, – вамъ тоже годъ за день казался?
– Не наоборотъ ли? А? – подразнилъ Немировскій.
Но Симеонъ спокойно отвѣчалъ.
– Насмѣшки ваши – мимо цѣли. Я не герой, я обыватель, и Рахиль моя – мнѣ, какъ по Сенькѣ шапка: въ самый разъ. Благо тому, кто ищетъ посильнаго и достигаетъ доступнаго.
– Да здравствуетъ Алексѣй Степановичъ Молчалинъ и потомство его! – воскликнулъ Модестъ въ носъ, точно ксендзъ – возгласъ въ мессѣ.
Клаудіусъ, тонко улыбаясь, смотрѣлъ на Симеона. Этотъ человѣкъ бывалъ въ хорошемъ обществѣ города и кое-что зналъ уже изъ сплетенъ, плывущихъ о лаврухинскомъ завѣщаніи.
– Въ своей легендѣ вы пропустили пикантную подробность, – защелкалъ онъ своимъ мягкимъ маятникомъ дѣловито и обстоятельно:
– Послѣ того, какъ Іаковъ проработалъ за Рахиль семь лѣтъ, Лаванъ то вѣдь надулъ его: подсунулъ, вмѣсто прекрасной Рахили, дурноглазую Лію?
– Пересмотри завѣщаніе, Симеонъ! – расхохотался Модестъ, – вдругъ, и оно окажется не Рахилью, но Ліей?
Симеонъ испыталъ искреннее желаніе пустить брату въ голову японскою дамою съ лисичьей головой, но сдержался, лишь чуть прыгнувъ правою щекою, и обратился – все въ томъ же тонѣ хорошей, умной шутки – къ брату Матвѣю:
– Матвѣй, дочитай этимъ отверженнымъ сказку до конца.
– "И сказалъ Лаванъ. – Дадимъ тебѣ и ту за службу, которую ты будешь служить y меня еще семь лѣтъ другихъ"…
– "И служилъ y него семь лѣтъ другихъ!" – торжественно прервалъ и заключилъ Симеонъ, величественнымъ жестомъ подъемля трость свою, будто нѣкій скипетръ или жреческій жезлъ.
Немировскій вскочилъ со стула и захлопалъ, какъ въ театрѣ.
– Браво, Симеонъ Викторовичъ! Правда! Правда!
Симеонъ поклонился ему съ видомъ насмѣшливаго удовлетворенія.
– Насколько мнѣ помнится, Рахиль господина, который мнѣ апплодируетъ, извѣстна подъ псевдонимомъ республики… федеративной или какъ тамъ ее?
– Мы за эпитетами не гонимся! – весело отозвался Немировскій.
A Симеонъ воскликнулъ съ трагическимъ паѳосомъ:
– Несчастный Іаковъ! Сколько обманныхъ Лій обнимали вы, обнимаете и еще обнимете за цѣну Рахили, прежде чѣмъ Рахиль ваша покажетъ вамъ хотя бы кончикъ туфли своей?
– Гдѣ наше не пропадало! – засмѣялся Немировскій.
– Терпи, казакъ, атаманъ будешь! – поддержалъ его Грубинъ.
Симеонъ снялъ шляпу.
– Сочувствовать самъ не могу, потому что всѣ мои симпатіи принадлежать жандарму, который рано или поздно васъ арестуетъ. Но уважаю въ васъ истиннаго Іакова, который понимаетъ, что значитъ любить Рахиль. Не то, что семь лѣтъ другихъ, но даже семьдесятъ семь за Рахиль свою отдать не жалко.
– Такъ сказалъ… – зазвонилъ съ особенною густотою Клаудіусъ, но Модестъ быстро перебилъ:
– Заратустра.
Но Симеонъ, надѣвая котелокъ свой, спокойно возразилъ тономъ побѣдителя, оставляющаго поле сраженія за собою:
– Нѣтъ: Іаковъ, убѣжденный, что онъ своей Рахили достигъ… Мое почтеніе, господа. Счастливо оставаться и пріятной вамъ дальнѣйшей философіи.
Едва онъ отвернулся, и быстрые шаги его зазвучали, удаляясь по темному залу, Модестъ сорвался съ кровати и, канканируя, запѣлъ съ жестами:
Красавицъ, пѣсни и вино!..
Вотъ что всегда поетъ Жано!
Иванъ закорчился на стулѣ – помиралъ со смѣху, a Матвѣй откликнулся съ неудовольствіемъ:
– Что съ тобой, Модестъ?
– Это я – за Симеона. Безъ куплета водевильный эффектъ его ухода не полонъ.
– Сегодня вашъ Симеонъ – весельчакъ! – сказалъ Немировскій.
– Крокодилъ въ духѣ! – кротко объяснилъ Модестъ.
– Выходите, Зоя Викторовна, гроза прошла мимо, – позвалъ, могильно смѣясь, гимназистъ Ватрушкинъ, поднимая занавѣску, за которую пряталась Зоя. Она выглянула, красная сквозь синее, и блеснула по комнатѣ испытующими глазками, еще не зная, какъ приняты обществомъ ея прятки, a потому и о себѣ – какъ ей поступить: выйти изъ засады, смѣясь или надувшись.
– А-а-а! – благосклонно протянулъ Модестъ, набрасывая пэнснэ: что я вижу? Легкомысленная сестра – въ роли Керубино? Смѣю спросить о причинахъ?
– Все несчастное платье это, которое я сегодня облила какао, – угрюмо отвѣчала дѣвушка, красная, какъ піонъ. – Васюковъ, – со свирѣпостью обратилась она къ студенту, который, видя непривычное смущеніе храброй дѣвицы, фыркалъ отъ смѣха, какъ моржъ плавающій: – если вы сію же минуту не перестанете грохотать, я выгоню васъ вонъ и никогда больше не позволю вамъ приходить…
Студентъ опѣшилъ и, мгновенно превратясь изъ Санина въ мокрую курицу, запищалъ извиненія даже бабьимъ какимъ-то голосомъ, но Зоя, пренебрежительно отвернувшись отъ него, взяла брата Модеста подъ руку и увела его въ темный залъ.
– Однако, легкомысленная сестра своихъ поклонниковъ не балуетъ, – замѣтилъ Модестъ. Дѣвочка отвѣчала практическимъ тономъ прожженной пятидесятилетней кокетки:
– Дай имъ волю, только себя и видѣла… Этотъ болванъ изъ себя Санина ломаетъ… Наши гимназистки предъ нимъ таютъ и ахаютъ… Ладно! У меня онъ потанцуетъ. Ты тамъ Санинъ, либо нѣтъ, да я то тебѣ не Карсавина…
Она самодовольно захохотала грубоватымъ контральтомъ своимъ и стала жаловаться на ложныя положенія, въ который ставитъ ихъ, младшихъ, скупость и грубость Симеона. Вотъ до того дѣло дошло, что уже начинаешь шаговъ его бояться и прячешься отъ него, какъ отъ звѣря, рискуя унизиться и быть смѣшною въ глазахъ какого-нибудь Васюкова.
– Вѣдь ты знаешь милый характеръ Симеона, – говорила она. – Достаточно было бы ему увидать меня подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ этого злосчастнаго платья, чтобы онъ разбрюзжался и расшипѣлся, какъ старый граммофонъ, нисколько не стѣсняясь присутствіемъ чужихъ людей… Сорокъ четыре рубля! Сорокъ четыре рубля! – передразнила она. – Велика, подумаешь, важность его сорокъ четыре рубля: y Эмиліи Ѳедоровны пряжки на домашнихъ туфляхъ по пятидесяти стоять… Знаешь: въ пятнадцать лѣтъ, когда чувствуешь себя уже не дѣвчонкой, и около тебя кавалеры вздыхаютъ, совсѣмъ не привлекательно превращаться предъ этимъ желторожимъ нахаломъ въ приготовишку трепещущую…
– Тѣмъ болѣе, – согласился Модестъ, – что насладиться подобною метаморфозою ты еще успѣешь завтра или послѣзавтра. Легкомысленной сестрѣ предстоитъ жестокое столкновеніе съ Симеономъ, въ которомъ легкомысленная сестра рискуетъ потерпѣть кораблекрушеніе. Даже съ человѣческими жертвами.
– По картамъ гадаешь или видѣлъ во снѣ? – насторожилась Зоя.
– Вычиталъ въ газетахъ. Сегодня "Глашатай" указываетъ пальцемъ на нѣкоторую женскую гимназію, будто въ ней завелась "лига любви".
Зоя, въ темнотѣ, выдернула руку изъ-подъ его руки.
– Врешь? – живо вскрикнула она голосомъ, впрочемъ, болѣе любопытнымъ, чѣмъ испуганнымъ.
– Почелъ долгомъ любящаго брата предупредить легкомысленную сестру.
– Покажи газету.
– Могу. Пойдемъ ко мнѣ. Оставилъ на столѣ…
– Къ тебѣ? – въ голосѣ Зои послышалось насмѣшливое сомнѣніе. A ты не пьянъ сегодня?
– Ни въ одномъ глазу. Съ утра, какъ проспался, не принялъ еще ни единой капли.
– Нагнись, дохни.
Модестъ, не обижаясь, исполнилъ требованіе сестры.
– Что за чудеса? – сказала она съ искреннимъ удивленіемъ. – Дѣйствительно, кажется, трезвый… Хорошо, въ такомъ случаѣ, пойдемъ.
– Съ какихъ поръ, – невозмутимо спросилъ Модестъ, – съ какихъ поръ легкомысленная сестра записалась въ члены общества трезвости?
– Съ тѣхъ поръ, – тѣмъ же искусственно равнодушнымъ тономъ возразила дѣвушка, – какъ глубокомысленный брать началъ до того напиваться, что, возвратясь домой, не въ состояніи различить сестру отъ Марѳутки и дѣлаетъ ей гнусныя предложенія на возмутительной подкладкѣ… Короче говоря: со вчерашняго вечера.
– Развѣ было? – спокойно справился Модестъ.
– A то нѣтъ? Благодари своего Діониса, что налетѣлъ на меня, a не на Аглаю… Эта плакса такой бы вой подняла…
– Тогда какъ легкомысленная сестра выше предразсудковъ?
Зоя холодно объяснила:
– Легкомысленная сестра гимнастикой занимается и y цирковой дѣвицы уроки борьбы беретъ, – такъ ей пьяныя любезности не такъ то страшны… Вонъ y меня мускулы-то, – попробуй!
– Мускулы недурны, – одобрилъ Модестъ, – но, коль скоро легкомысленная сестра чувствуетъ себя столь надежно вооруженною, то зачѣмъ нужна была предварительная экспертиза дыханія?
– Затѣмъ, что мнѣ нисколько не лестно быть участницей подобнаго инцидента. Эти романическіе эффекты, глубокомысленный братъ мой, величественны только въ сверхчеловѣческихъ романахъ и декадентскихъ пьесахъ. Въ жизни они пахнуть весьма скверною грязью, въ пятнахъ которой ходить потомъ болѣе чѣмъ не занимательно. Мы живемъ не въ "Мертвомъ Городѣ" Габріэля д'Аннунціо, a просто въ губернскомъ городѣ. Берегись, Модестъ! Въ послѣднее время ты что-то линію потерялъ и все срываешься… Влетишь ты въ какой-нибудь большущій скандалъ, глубокомысленный братъ мой!
Модестъ возразилъ, скрывая смущеніе въ сарказмѣ:
– Покуда, однако, влетѣлъ не я, но кто-то другой…
– Это ты про гимназію? Да, теперь пойдетъ переборка! – со смѣхомъ сказала Зоя, выходя съ прыжками изъ темной залы на свѣтъ въ корридоръ.
– Вотъ почему и предсказываю тебѣ Цусимское сраженіе съ Симеономъ.
– Не за что. Меня не касается.
– Ну, да! Такъ я и повѣрилъ! Ужъ, конечно, зачинщица! – говорилъ Модестъ, лѣниво влача за нею свои слабыя ноги.
– Напротивъ: умоляли, да не пошла, – равнодушно возразила Зоя, входя въ Модестову комнату.
– Добродѣтель или благоразуміе?
Она, забирая со стула газету, усмѣхнулась презрительно.
– Я не маленькая, чтобы не понимать, чѣмъ эти лиги кончаются. Не ребенокъ – такъ болѣзнь. Не скандалъ – такъ шантажъ. Терять себя за удовольствіе пить пиво съ мальчишками и слушать вранье, какъ одинъ ломается Санинымъ, a другой Оскаромъ Уайльдомъ, pas si bete, mon chêri!
– A Евино любопытство?
Она еще презрительнѣе сложила странныя губы свои.
– Еще если-бы y нихъ тамъ дѣлалось что-нибудь такое, чего я изъ книгъ вообразить не могла.
– Теоретическое образованіе, значитъ, основательное получила? – усмѣхнулся братъ.
– Изъ твоей же библіотеки, мой другъ! – отрѣзала сестра.
Онъ развелъ руками, поклонился, съ важностью опереточнаго комика въ герцогской роли, и произнесъ сентенціозно:
– Въ нашъ цивилизованный вѣкъ Мефистофель того и смотри, чтобы Маргарита его не развратила.
– Это ты то Мефистофель? – насмѣшливо возразила Зоя, играя сложенною газетою.
– Да вѣдь не настоящій… – съ искусственнымъ смиреніемъ извинился онъ. Сама же ты говорила: губернскій городъ… Такъ… по губернскому уровню… третьяго сорта…
Но она безжалостно потрясла тяжелою, въ русыхъ косахъ, головою и, отдувая губы, произнесла басомъ, съ разстановкою:
– Knopfgieszer…
– Что такое?
– "Пееръ Гинта" читалъ?
– Mademoiselle, за подобные оскорбительные вопросы мальчишкамъ уши дерутъ, a дѣвочекъ цѣлуютъ…
– Только не братья, – уклонилась она. – Въ "Пееръ Гинтѣ" есть такое дѣйствующее лицо… Der Knopfgieszer… Помнишь?
– Ну, положимъ, помню… Такъ что же?
– Мнѣ кажется, тебѣ съ этимъ господиномъ не слѣдуетъ встрѣчаться… Онъ тебѣ опасенъ – принесетъ несчастіе…
И, громко расхохотавшись, выбѣжала изъ комнаты, тяжело топоча большими ногами своими и крича по корридору:
Bas ist ja der Knopfer – du bist uns bekannt
Und leider kein Sunder im hohern Verstand
Drum giebt man dir nicht den Gnadenstosz
Ins Feuer, du kommst in den Loffiel blosz…
Модестъ, слушая этотъ оскорбительно-веселый, наглый, горластый смѣхъ, смотрѣлъ вслѣдъ сестрѣ глазами, рекомендовавшими въ обладателѣ своемъ отнюдь не Пееръ Гинта, но скорѣе самого таинственнаго «Пуговочника» и даже, пожалуй, ту странную тощую духовную особу съ лошадиными копытами, которую Пееръ Гинтъ встрѣтилъ нѣсколько позже Пуговочника – на перекресткѣ… Даже губы y него побѣлѣли…
– Вотъ-съ, какъ? – думалъ онъ, кривя лицо. Надо мною уже дѣвчонки издѣваться начинаютъ?.. Хорошо ты себя устроилъ въ этомъ домѣ, пане Модестъ… Скоро, кажется, только и сохранишь ты престижъ свой, что y безмолвно восхищеннаго идіота Ивана… A нельзя не сознаться: молодчиною растетъ y меня сестрица!.. Если я – неудачный полугрѣшный Пееръ Гиитъ, гожусь только въ ложку Пуговочника, то она то уже навѣрное – принцесса изъ царства Троллей! Эту на пуговицы, по двѣнадцати на дюжину, не перельютъ… нѣ-ѣ-ѣтъ!.. не тѣ… промессы!..
Глупое слово, вскочившее въ мысль, разсмѣшило его, и онъ возвратился къ Матвѣю уже успокоенный.
V
Въ центрѣ города, въ хорошемъ тихомъ переулкѣ, между двумя богатыми дворянскими улицами, безъ магазиновъ, а, слѣдовательно, съ малою ѣздою, въ собственномъ домѣ, пятиэтажномъ по длинному уличному фасаду, занимала бельэтажъ та самая Эмилія Ѳедоровна фонъ-Вельсъ, имя которой такъ часто и такъ разнообразно повторяли и учитель Протопоповъ со своею учительницею, и Симеонъ Сарай-Бермятовъ съ Вендлемъ, и Модестъ съ Иваномъ, и даже пятнадцатилѣтняя Зоя… Имя это, – имя недавней гувернантки, y которой еще и Зоя успѣла поучиться по Марго французскому языку, a ужъ старшая то дѣвица Сарай-Бермятова, Аглая, была вполнѣ воспитанницей Эмиліи Ѳедоровны – имя это уже пятый годъ, наполняло и городъ, и губернію. Подъѣздъ ея квартиры, правда, не былъ мѣстомъ настолько казеннымъ, чтобы охраняться будкою съ часовымъ, но дежурный околоточный разгуливалъ по переулку денно и нощно и нигдѣ въ другихъ мѣстахъ города не было столь усиленнаго наряда городовыхъ, нигдѣ не шныряло больше переодѣтыхъ сыщиковъ, обязанныхъ бдѣть отъ зари утренней до вечерней и отъ вечерней до утренней, наблюдая издали за великолѣпнымъ подъѣздомъ этимъ. Стояла и двигалась вся эта вѣрная стража, конечно, не для того, чтобы стеречь бессарабскую красоту госпожи Вельсъ, хотя и, дѣйствительно, выдающуюся красоту смѣшанной румынской и малороссійской крови – такую красоту, что всякому лестно похитить; но на случай посѣщенія г-жи Вельсъ «хозяиномъ губерніи» и сіятельнымъ, и высокопревосходительнымъ, княземъ Аникитою Вассіановичемъ Беглербей-Васильсурскимъ, въ городскомъ просторѣчіи и юмористическихъ журналахъ болѣе извѣстнымъ подъ именемъ Аники Еруслановича. Посѣщенія же его бывали часты, даже по нѣсколько разъ на день, и могли воспослѣдовать, по фантазіи князя, во всякое время дня и ночи, когда лишь ему взбредетъ въ полу-татарскую его голову страстная или ревнивая мысль посѣтить пріятельницу, въ которой онъ души не чаялъ.
Въ настоящее время князя нѣтъ въ городѣ: уѣхалъ на торжества по открыто какого-то патріотическаго монумента въ одномъ изъ уѣздовъ. Но стража отъ того не менѣе неусыпна, ибо, если въ администраціи и полиціи богоспасаемаго града сего спросить любого подъ строгимъ, конечно, секретомъ: кого онъ болѣе страшится: самого ли грознаго князя Аники Еруслановича или Эмиліи Ѳедоровны Вельсъ, отвѣтъ почти навѣрное послѣдуетъ въ томъ смыслѣ, что, молъ, —
– Его сіятельство… что же!.. такимъ ангеламъ во плоти – въ раю мѣсто… Но ихъ превосходительство Эмилія Ѳедоровна порядокъ лю-ю-юбятъ!..Чрезвычайно какъ любятъ порядокъ ихъ превосходительство!.. И князь то самъ, когда къ нимъ ѣдутъ, такъ всегда бываютъ въ сомнѣніи, не было бы взыска. Ходить-ходить, кружить-кружить передъ зеркаломъ то съ камердинеромъ: смотри, Виталій, внимательнѣе, нѣтъ ли гдѣ пушинки на мундирѣ, да не криво ли сидитъ паричекъ…
Какимъ образомъ Эмилія Ѳедоровна Вельсъ превратилась въ ихъ превосходительство, и кто произвелъ ее въ генеральскіе чины, покрыто мракомъ неизвѣстности. Во всякомъ случай, супругъ ея Людвигъ Карловичъ, подарившій бѣдной дворяночкѣ, урожденной дѣвицѣ Панталыкиной, громкую остзейскую фамилію фонъ Вельсовъ, здѣсь не причемъ. Онъ, въ чинѣ коллежскаго асессора, гдѣ то далеко чѣмъ то служить, не то въ Ташкентѣ, не то въ Благовѣщенскѣ, получаетъ отъ супруги весьма солидную пенсію, и всѣ его брачныя обязанности сводятся единственно къ условію: не попадаться на глаза ни дражайшей своей половинѣ, ни ея вельможному покровителю.
Симеонъ Сарай-Бермятовъ принадлежитъ къ числу тѣхъ гостей Эмиліи Ѳедоровны, предъ которыми команда ея тѣлохранителей тянется въ струну, когда они подкатываютъ къ подъѣзду ея квартиры, хотя въ городѣ онъ не пользуется ни любовью, ни хорошею репутаціей, да и не занималъ, покуда, никакихъ сколько нибудь видныхъ должностей. Попасть къ Эмиліи Ѳедоровнѣ Вельсъ постороннему человѣку, помимо дѣлового визита, который надо испрашивать въ особомъ, довольно сложномъ порядкѣ, черезъ третьи лица, – весьма трудно, но для Сарай-Бермятовыхъ двери ихъ бывшей гувернантки всегда открыты.
И сейчасъ Симеонъ былъ принять, несмотря на весьма позднее время, настолько позднее, что Эмилія Ѳедоровна, не ждавшая посѣтителей, была уже въ домашнемъ халатикѣ, и бездокладный гость нашелъ ее, по указанно служанки, въ интимномъ будуарѣ, рядомъ съ спальнею, y письменнаго стола, усердно пишущею на голубой бумагѣ письмо, которое, при задверномъ окликѣ и входѣ Симеона, она спрятала въ ящикъ и звонко щелкнула замкомъ.
Красивая женщина была Эмилія Ѳедоровна. Красивая и сильная. Когда она, въ желтомъ плюшевомъ халатикѣ своемъ, встала на встрѣчу Симеону, пружинное движеніе стройнаго тѣла ея напомнило пуму въ звѣринцѣ, взыгравъ, поднявшуюся y рѣшетки на дыбы. И глаза ея алмазно сверкали, какъ y пумы, хотя были не зеленые, но темно-каріе, a подъ немного слишкомъ густыми, сближенными темнымъ пушкомъ, бровями казались они совсѣмъ черными…
– Ба! Неужели вспомнилъ? – дружески улыбнулась она всѣмъ янтарнымъ, румынскимъ лицомъ своимъ, подавая Симеону маленькую, горячую ручку, въ изумрудныхъ кольцахъ, которую Сарай-Бермятовъ поднялъ было къ усамъ своимъ довольно небрежно, но, услыхавъ, что надо было ему что-то вспомнить, задержалъ ее на всякій случай и, хотя покуда ровно ничего не помнилъ, дважды горячо поцѣловалъ.
– Ну, еще бы не вспомнить… конечно, вспомнилъ! – съ чувствомъ произнесъ онъ.
– Вотъ за что спасибо, такъ спасибо!.. Ты знаешь, я уже не настолько юна, чтобы праздновать этотъ свой день, и даже грѣшна! – скрываю его отъ всѣхъ новыхъ знакомыхъ… Но какъ то немножко грустно было: неужели изъ старыхъ друзей… отъ тѣхъ временъ, когда я была не madame фонъ Вельсъ, но хорошею дѣвочкой Миличкой Панталыкиной…. неужели всѣ такъ мало думаютъ обо мнѣ, что никто не вспомнить? И вдругъ – ты… Откровенно говоря: меньше всѣхъ на тебя надѣялась и тѣмъ болѣе довольна: такой счастливый сюрпризъ!
– Вотъ ловко попалъ! – мысленно восхищался Симеонъ, – ужъ истинно не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь…
A вслухъ говорилъ:
– Вспомнилъ, Миличка, вспомнилъ… Извини: днемъ было слишкомъ хлопотно, не могъ заѣхать и поздравить, но, какъ только освободился, сейчасъ же потребовалъ лошадей: хоть и поздно, думаю, но – авось, простить, лучше поздно, чѣмъ никогда… Извиняюсь лишь, что съ пустыми руками. Когда я ѣхалъ къ тѣбѣ, уже всѣ порядочные магазины были заперты…
– Какіе пустяки! Зачѣмъ мнѣ? Я тебѣ и такъ рада. Не дорогъ твой подарокъ, дорога твоя любовь.
Послѣднія три слова Эмилія Ѳедоровна произнесла съ насмѣшкой – не то надъ Симеономъ, не то надъ собою, и безпокойные темные глаза кольнули лицо Симеона двумя острыми алмазными гвоздиками… Онъ сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ ни взгляда, ни тона, и, на пригласительный жестъ ея, равнодушно опустился въ фигурныя, пунцовымъ шелкомъ обитыя кресла, изображавшія разинутую пасть дракона, такъ что челюсти сего ужаснаго звѣря служили облокотнями, a подушкою для сидѣнья былъ языкъ.
– Курить можно?
– Можно… Но лучше перейдемъ въ диванную.
– Развѣ ждешь Анику? – усмѣхнулся Симеонъ.
– Именно потому, что не жду, и не надо курить здѣсь.
– Его привилегія?
Двуногая "пума" сверкнула алмазными глазами и кивнула головой, отвѣчая съ небрежнымъ сарказмомъ:
– Одна изъ немногихъ.
– Да вѣдь ему, по вашей конституціи, ревновать не полагается?
– И вообще, и къ тебѣ особенно…
– Такъ что же?
– Милый другъ, всѣ вы мужчины болѣе или менѣе фетишисты. И въ любви, и въ ревности. Когда мнѣ нравится какая-нибудь замужняя дама, я доказываю ей свое расположеніе прежде всего тѣмъ, что даю ей вѣрнѣйшій рецептъ противъ ревности мужа и любовниковъ… Пойдемъ.
– Можно узнать? – спросилъ Симеонъ, лѣниво слѣдуя за ея мягко ползущимъ по коврамъ, желтымъ, вспыхивающимъ въ изломахъ матеріи, хвостомъ.
– Пожалуйста, – возразила она, открывая въ диванной электричество и располагаясь съ ногами на турецкой софѣ. – Не дорого стоитъ!.. Очень просто. Сходясь съ мужчиной, женщина должна, прежде всего, окружить его кольцомъ маленькихъ житейскихъ фетишей, увѣрить его, что они необыкновенно важны, и что они-то именно и символизируютъ его право на нее… Понимаешь?
– Понимаю… Тонко!
Она засмѣялась, потягиваясь, и сказала:
– Я увѣрена, что, если бы моему Аникѣ Еруслановичу донесли, будто я вотъ тутъ въ диванной отдалась тебѣ, это его меньше огорчитъ, чѣмъ, если бы его сіятельное обоняніе учуяло въ моемъ будуарѣ запахъ чужой сигары или папиросы.
– Разсказывай!
– Увѣряю тебя… Всѣ вы такіе. Фетишисты! фетишисты! да!
– Ты и ко мнѣ эту мудрую систему примѣняла въ прежніе славные дни наши? – надменно усмѣхнулся Симеонъ.
Пума сверкнула глазами и легла подбородкомъ на бѣлыя, изумрудныя руки свои.
– Нѣтъ, – сказала она съ тягучею медлительностью, не то грустя, не то насмѣхаясь, – нѣтъ… къ сожалѣнію, тогда нѣтъ. Была молода, была глупа, была честна…
– Сколько искренней скорби о томъ, что не успѣла вырядить своего ближняго въ дураки!
Эмилія Ѳедоровна остро посмотрѣла на него и слегка прикусила алую губку.
– Будешь скорбѣть, когда вспомнишь, въ какую дуру меня-то самое ближній вырядилъ, – протяжно сказала она.
Симеонъ смѣшался и, потерявъ отвѣтъ, усиленно курилъ, окружаясь синимъ дымомъ… A госпожа фонъ Вельсъ, равнодушная и спокойная, разсказывала ему про вчерашній пикникъ, устроенный въ честь ея казеннымъ пригороднымъ лѣсничествомъ, какъ все было безвкусно, неумно и скучно…
– Единственный интересный человѣкъ былъ твой братъ Модестъ, да и тотъ вскорѣ напился до того, что отъ него надо было прятаться…
Симеонъ сдѣлалъ гримасу отвращенія.
– Сокровище! – процѣдилъ онъ сквозь зубы.
– Ничего, – успокоительно возразила Эмилія Ѳедоровна. – Онъ алкоголикъ изъ легкихъ. У него это быстро и ненадолго. Съ рюмки хмелѣетъ, въ полчаса вытрезвляется.
– То и скверно, – сердито возразилъ Симеонъ. – Пьяный онъ нахалъ, a спохмѣлья золъ, какъ ехидна. Охота тебѣ съ нимъ якшаться.
Эмилія Ѳедоровна потянулась пумою въ желтомъ плюшѣ.
– Люблю неврастениковъ. Какъ лоттерея. Шутъ, шутъ, a вдругъ – пулю пуститъ?
Симеонъ усмѣхнулся, качая головою.
– Мальчишекъ къ себѣ приближать стала… Обидный признакъ, душа моя.
– Что дѣлать? – равнодушно возразила Эмилія Ѳедоровна. – Старѣюсь. Сегодня мнѣ исполнилось тридцать лѣтъ.
Симеонъ саркастически обнажилъ серпы свои.
– Для публики – двадцать четыре? – подчеркнулъ онъ.
– Ты не публика.
Она уставила локти, какъ подпорки, на мягкую пеструю ткань софы, положила подбородокъ и щеки въ ладони и, пристально глядя на Симеона, говорила, янтарная лицомъ подъ черною массою сдвинувшейся впередъ прически, сверкающая глазами изъ подъ черныхъ, слишкомъ густыхъ, бровей и изумрудами въ маленькихъ розовыхъ, заслоненныхъ тьмою волосъ, ушахъ и на бѣлыхъ, погруженныхъ въ эти волосы, пальцахъ.







