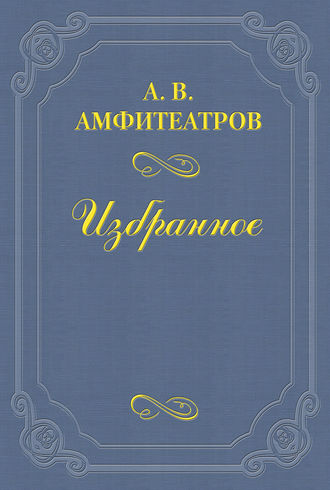
Александр Амфитеатров
Паутина
– Я очень благодарна тебѣ, что ты, все-таки, пріѣхалъ. Тридцать лѣтъ для женщины важный срокъ. Переломъ. Мнѣ было бы грустно, если бы въ такой день ты не захотѣлъ повидать меня. Ты такъ много значилъ въ моей жизни.
Симеонъ поклонился съ двусмысленною вѣжливостью, которая отвѣтила на прочувственный тонъ г-жи Вельсъ уклончивымъ, но прозрачнымъ отказомъ принять бесѣду въ такомъ сантиментальномъ направленіи.
– Видишь ли, Миля, – сказалъ онъ, повертывая, – круто и грубо по своему обыкновенію, – разговоръ съ этой опасной и скользкой для него темы. – Видишь ли, Миля. Хотя подарка я тебѣ для дня рожденія не принесъ, но кое что пріятное для тебя все-таки имѣю.
Онъ вынулъ бумажникъ и изъ бумажника – пачку кредитокъ. "Пума" на софѣ смотрѣла на него заискрившимися глазами, выраженіе которыхъ не говорило о большой радости.
– Пріѣхалъ я, между прочимъ, затѣмъ, чтобы передать тебѣ остальныя деньги, согласно нашему условію. Получи.
Она пожала плечами.
– Если тебѣ угодно, – пожалуй, давай. Я могла бы ждать. Мнѣ все равно.
– Очень угодно, – рѣшительно сказалъ онъ. – Я изъ тѣхъ людей, которые, покуда знаютъ за собою денежный долгъ, чувствуютъ себя несчастными, душа ноетъ, и мозги скулятъ, какъ слѣпые щенята.
– Долгъ долгу рознь, – бросила "пума" какъ-бы не ему, a въ воздухъ, осіявъ Симеона серьезными, предостерегающими глазами.
Симеонъ умышленно пропустилъ это замѣчаніе мимо ушей.
– Этою тысячей мы съ тобою по мерезовскому дѣлу квиты, – сказалъ онъ, протягивая Эмиліи Ѳедоровнѣ руку съ пачкою. Та, видимо, раздумывала, брать или нѣтъ, и красивые пальчики лѣвой руки, которою она наконецъ взяла деньги, слегка дрожали подъ изумрудами.
– Ужъ не знаю, – двусмысленнымъ тономъ недоумѣнія возразила она, безъ благодарности пряча пачку подъ желтый халатикъ свой, за лифъ, – ужъ не знаю, Симеонъ, квиты ли мы.
Правая щека Симеона прыгнула, но онъ сдержался и сухо отвѣчалъ:
– Я свои обязательства исполнилъ и даже съ излишкомъ.
– Но я то въ своихъ обязательствахъ просчиталась, – холодно возразила Эмилія.
Онъ пожалъ плечами.
– Вина не моя.
Она смотрѣла на него въ упоръ блестящими укоряющими глазами и, качая прическою, которая мохнатымъ курганомъ плясала на тѣни, говорила медленно и вѣско:
– Ты едва надѣялся умолить дядю хоть на третью часть отъ Мерезова, a успѣлъ выклянчить все.
– Что же тебѣ Мерезова жаль? – зло усмѣхнулся Симеонъ.
Она, искусственно холоднымъ жестомъ, отвернулась и стала тянуться пумою, почти лежа на спинѣ.
– Что же тебѣ Мерезова жаль? – повторилъ Симеонъ.
Она, все въ той же позѣ, отвѣчала со строгимъ укоромъ:
– Прошли годы, когда я жалѣла мужчинъ. Но, конечно, разорять его я не собиралась.
– Хорошо онъ разоренъ! Двадцать пять тысячъ я ему долженъ выдѣлить.
– Изъ пятисотъ слишкомъ? – ѣдко возразила Эмилія. – Безъ меня было бы наоборотъ.
Щеку Симеона страшно дернуло.
– Объ этомъ теперь говорить поздно, – произнесъ онъ съ тяжелымъ усиліемъ надъ собою, чтобы не отвѣтить рѣзкостью.
Она равнодушно возразила, лежа все также навзничь и не глядя на него:
– О, я знаю и не спорю. Просчетъ свой хладнокровно пишу себѣ въ убытокъ, a на будущее время кладу памятку.
– Врядъ ли намъ придется считаться еще разъ, Эмилія. Я кончаю дѣла свои.
– Слышала я. Невѣсту ищешь?
– Можетъ быть.
– Лилію долины? – говорила она въ носъ, съ паѳосомъ актрисы изъ мелодрамы. – Невинный ландышъ весеннихъ рощъ?
– Не смѣйся! – сказалъ Симеонъ съ новою судорогою въ щекѣ.
Тогда Эмилія Ѳедоровна вдругъ перешла изъ позы лежачей въ сидячую и, схвативъ руками колѣни, устремила въ лицо Симеона испытующій взглядъ сверкающихъ очей своихъ:
– Женился бы ты лучше на мнѣ, – спокойнымъ и твердымъ голосомъ, безъ всякой неловкости и волненія, произнесла она.
Предложеніе это Симеонъ слышалъ уже не въ первый разъ, привыкъ къ нему, какъ къ своеобразному чудачеству своей собесѣдницы, и потому отвѣчалъ со спокойною сдержанностью, нисколько не боясь Эмилію Ѳедоровну обидѣть:
– Ты знаешь мои взгляды на бракъ.
Она опять откинулась навзничь, точно онъ ее ударилъ, и долго лежала, молча, съ закрытыми глазами.
– Да, въ ландыши я не гожусь! – услышалъ онъ наконецъ, и, тоже помолчавъ въ искусственной, нарочной паузѣ, потому что отвѣть его былъ готовъ сразу, произнесъ тихо, интимно:
– A я злопамятенъ и ревнивъ къ прошлому.
Она поймала звукъ неувѣренности въ его голосѣ и улыбнулась про себя и недала Симеону оставить за собою послѣднее слово.
– Которое самъ сдѣлалъ! – строго подчеркнула она.
– Не одинъ я! – смѣло и сухо огрызнулся Симеонъ.
Этого пункта въ спорахъ съ старою своею пріятельницею онъ никогда не боялся. Эмилія не нашлась, что возразить, и промолчала. Она лежала и думала, Симеонъ молчалъ и курилъ.
– Жаль, что бастуешь, – сказала Эмилія, наконецъ. – Аника мой страхъ въ гору идетъ. Баллотировался бы ты въ предводители. Годъ за годъ, ступенька за ступенькою, я тебя въ министры вывела бы.
Онъ отрицательно тряхнулъ головою.
– Въ короли зови – не пойду. Усталъ.
– Я тебя крупнѣе считала.
– Не ты одна. Я сегодня съ Вендлемъ говорилъ уже на эту тему. Пройдутъ два-три года, и всѣ, кто воображалъ меня волкомъ какимъ-то, убѣдятся, что я спокойнѣйшій старосвѣтскій помѣщикъ, съ единственнымъ идеаломъ: дожить въ мирѣ со своею Пульхеріей Ивановной до восьмидесяти лѣтъ.
– A сестры? – послѣ долгой паузы, выжидающимъ голосомъ, будто вся настороженная, спросила Эмилія.
Симеонъ презрительно дернулъ плечами и, оскаливъ серпы свои, бросилъ короткое безразличное восклицаніе:
– Ба!
Тогда Эмилія Ѳедоровна быстро поднялась и сѣла на софѣ, спустила ноги на полъ и, сдвинувъ брови, сверкая глазами, заговорила тономъ человѣка, который не только видитъ своего неуважаемаго противника насквозь, но ничуть и не намѣренъ скрывать отъ него свое неуваженіе:
– Если-бы я была твоею сестрою, я постаралась бы опозорить имя твое, которымъ ты такъ чванишься, какъ только сумѣла бы хуже.
– Очень радъ, что ты не моя сестра! – насмѣшливо улыбнулся смущенный Симеонъ.
A она продолжала, негодуя:
– Хорошую молодость ты имъ устроилъ, нечего сказать! Вѣдь въ вашемъ домѣ дышать нечѣмъ: тоска и злоба углекислотою ползутъ.
– Выйдутъ замужъ, устроятъ жизнь по своему, – старался какъ можно равнодушнѣе парировать онъ.
Она съ презрѣніемъ возразила:
– A гдѣ женихи?
– Зоѣ рано еще, a вокругъ Аглаи мало ли увивается? У братьевъ товарищей много. И студенты, и офицеры.
– Это не женихи, но такъ, бывающіе молодые люди. Аглаю за человѣка безъ состоянія выдавать нельзя. Она красавица.
– Разборчивою невѣстою съ ея приданымъ быть не приходится.
– Красавица замужемъ за нищимъ либо мученица, либо кокотка.
– Уже это – на отвѣтственности будущаго супруга, – равнодушно возразилъ Симеонъ.
– Тебѣ, слѣдовательно, только бы ее вдвоемъ съ кѣмъ-нибудь въ церковь, къ аналою впихнуть? – ядовито язвила, сверкая глазами, Эмилія. Но Симеонъ былъ какъ въ броню закованъ. На саркастическій вопросъ ея онъ отвѣчалъ почти съ добродушіемъ:
– И хотѣлось бы – поскорѣе. Ты имѣешь на нее вліяніе. Внушай при случаѣ, что пора развязать брату руки.
Она засмѣялась горько, оскорбительно.
– Лишнее, мой милый. Ты сестрамъ настолько надоѣлъ, что – было бы за кого, a выскочатъ безъ оглядки.
– Любезныя слова ты мнѣ говоришь!
– Развѣ ты ихъ отъ меня одной слышишь? – холодно возразила она.
Онъ примолкъ и окутался облакомъ дыма. Эмилія Ѳедоровна тоже долго молчала, обнимая колѣна свои, задумчиво сверкая въ пространство алмазными глазами. Потомъ заговорила серьезно, внушительно:
– Какъ ты хочешь, Симеонъ Викторовичъ, a для Васи Мерезова ты обязанъ что-нибудь сдѣлать… Побѣдитель долженъ быть великодушнымъ.
– Долженъ… обязанъ… – иронически повторилъ Симеонъ. – Какъ, право, y васъ, женщинъ, все это категорично и скоро…
– Ужъ не знаю, скоро ли y насъ, женщинъ, – строго оборвала Эмилія, – но тебѣ, мужчинѣ, я совѣтовала бы этимъ поспѣшить.
– Зачѣмъ? – глухо спросилъ онъ, уклоняясь отъ взгляда ея.
Она отвѣчала значительно и протяжно:
– Для успокоенія общественнаго мнѣнія.
Правая щека Симеона прыгнула судорогой.
– Вотъ оно! – подумалъ онъ про себя, но промолчалъ.
– Въ городѣ тобою очень недовольны, Симеонъ…
Онъ отозвался съ сердцемъ:
– Вотъ на что мнѣ – извини за выраженіе – въ высокой степени… наплевать.
– Не думаю, – возразила она спокойно, – не думаю, чтобы такъ… не думаю, чтобы совершенно наплевать, Симеонъ… Особенно для человѣка, мечтающаго сорвать въ законномъ бракѣ благоуханный ландышъ.
– О, что до этого касается, – криво усмѣхнулся онъ, – то съ тѣми средствами, которыми я теперь могу располагать, ландыши рвать не трудно… И дьяволъ сорветъ, a надѣюсь, я имѣю, все-таки, нѣкоторыя физическія и моральныя преимущества предъ этимъ джентльмэномъ.
– Ты же, помнится, о женитьбѣ по любви мечталъ? – со спокойнымъ удивленіемъ возразила Эмилія. Симеонъ кивнулъ головою.
– И мечтаю.
– Не похоже…
– Женюсь на той, которую полюблю, – объяснилъ Симеонъ.
– A она?
Онъ горько усмѣхнулся.
– A она мнѣ вѣрна будетъ. Я стану ее беречь, какъ зѣницу ока, и она мнѣ будетъ вѣрна. Дѣти будутъ… много дѣтей… хорошихъ… Сарай-Бермятовыхъ!
Алмазные глаза Эмиліи Ѳедоровны затуманились не то презрѣніемъ, не то жалостью.
– Это… любовь? – спросила она съ разстановкою. Онъ пожалъ плечами.
– Чего же ты хочешь? Я не дуракъ и знаю жизнь. Въ мои годы, съ моей изломанной жизнью, я не могу разсчитывать на большее… Ландыши отлично растутъ на перегноѣ и, вѣроятно, очень ему благодарны за питаніе, но врядъ ли они пылаютъ къ нему нѣжною страстью.
Эмилія Ѳедоровна, зажавъ янтарное лицо въ бѣлыя ручки, осіянныя изумрудами, глядѣла на него, изъ-подъ чернаго лѣса прически, долго, вдумчиво, серьезно.
– Несчастный ты человѣкъ, Симеонъ! – вздохнула она.
Сарай-Бермятовъ дрогнулъ щекою.
– Ну, вотъ, – пробормоталъ онъ съ усиліемъ перевести гримасу въ улыбку, – дожилъ и волкъ до того, что жалѣть его стали…
– Несчастный, истинно несчастный, – повторила она. – Жалѣла я тебя и тогда, когда ты за этимъ своимъ наслѣдствомъ охотился, a теперь вдвое жалѣю. Плохо твое дѣло. Погубить оно тебя. Лучше для тебя было бы никогда не прикасаться къ нему…
– Ну, я другого мнѣнія, – сухо возразилъ онъ, – и притомъ, милая Сивилла…
Онъ выразительнымъ кивкомъ указалъ на мѣсто, куда Эмилія Ѳедоровна только что спрятала полученныя отъ него деньги. Янтарь лица ея чуть покраснѣлъ, будто зажегся внутреннимъ огнемъ, но отвѣчала она спокойно, голосомъ равнодушнымъ, ничуть не дрогнувшимъ и не повышеннымъ.
– A что мнѣ? Я тутъ орудіе, человѣкъ посторонній… Ты попросилъ y меня помощи, я тебѣ сказала, что помощь моя будетъ стоить столько то, ты заплатилъ, я помогла, – и сегодня, вотъ, ты самъ же, какъ только пріѣхалъ, поспѣшилъ заявить мнѣ, что мы квиты… Ну, квиты, такъ квиты. Но права психологической критики чрезъ это я, надѣюсь, не лишена…
– Зачѣмъ же помогла, если вѣрила, что помогаешь во вредъ мнѣ? – недовѣрчиво усмѣхнулся Симеонъ.
Она искусственно удивилась, широко открывая алмазы глазъ.
– Да кто ты мнѣ? Мужъ? братъ? отецъ? любовникъ? Э, миленькій! "Було колькы", какъ говоритъ мой кучеръ Ничипоръ… Имѣешь свой разумъ въ головѣ, на что тебѣ моя маленькая женская смѣтка… Квиты, голубчикъ, – квиты!
Онъ, насупясь, молчалъ въ табачномъ дыму, a Эмилія Ѳедоровна, смѣнивъ ироническій тонъ на дѣловой и согнавъ улыбку съ лица, говорила строго и раздѣльно, совѣтуя такъ, будто приказывала:
– Однако, квиты, да не совсѣмъ. Въ наши коммерческіе расчеты вмѣшалась, къ несчастью, психологія, и она, увы, не удовлетворена. Я рѣшительно не могу позволить тебѣ пустить Васю Мерезова нищимъ по міру…
– Нищій съ двадцатью пятью тысячами рублей! – огрызнулся Симеонъ.
– Велики деньги! У него, я думаю, долговъ вдвое.
– Я ихъ дѣлалъ, что ли, чтобы за него платить?
– Ты не ты, но кредитъ Мерезову оказывали, какъ вѣрному и законному наслѣднику покойнаго Лаврухина, и, конечно, если бы ты не перехватилъ завѣщанія…
– Что за выраженія, – вспыхнулъ Симеонъ. – Понимаешь ли ты, что говоришь!
Она съ любопытствомъ смотрѣла на его дергающуюся щеку.
– Извини, пожалуйста, – этимъ грубымъ, но короткимъ словомъ я хотѣла только сказать: если бы, покуда мы съ Мерезовымъ были за-границей, ты не сумѣлъ заставить старика Лаврухина написать завѣщаніе въ твою пользу… ничего болѣе!
– Да, да, – сердито проворчалъ онъ, – но вышло y тебя болѣе… и много… очень много болѣе! Ты думаешь, я не знаю, какія сплетни распространяются обо мнѣ по городу? У меня сегодня Вендль былъ… анонимки получаю… смыслъ фразы твоей я очень хорошо понимаю, Эмилія… очень…
– Я не думала сказать тебѣ что-либо непріятное и обидное, – возразила она. – Если такъ вышло нечаянно, то еще разъ извиняюсь. Но… разъ уже нашъ разговоръ коснулся этихъ слуховъ, я позволю себѣ спросить тебя: какъ ты къ нимъ относишься?
Онъ всталъ съ мѣста и, стоя, положилъ руки въ карманы брюкъ, дерзкимъ, фамильярнымъ жестомъ, котораго не позволилъ бы себѣ при посторонней женщинѣ, и отвѣчалъ, дергая щекою, съ смѣлымъ вызовомъ:
– Прежде чѣмъ отвѣчу, мнѣ любопытно знать: какъ ты къ этому относишься?
Она, молча, шевельнула плечомъ… Онъ вглядѣлся въ окаменѣлый янтарь лица ея и, въ внезапномъ ужасѣ, выставилъ впередъ руки съ растопыренными ладонями, будто для самозащиты.
– Вѣришь?!
Она, молча, сомкнула рѣсницы.
– Вѣришь, что я…
Въ голосѣ его зазвучали страшныя ноты… Она взвѣсила ихъ въ умѣ своемъ, – потомъ открыла глаза и мягко сказала:
– Я не вѣрю, что ты тутъ прямо при чемъ либо, но вѣрю, что въ пользу Мерезова было составлено какое то завѣщаніе, и что завѣщаніе это исчезло неизвѣстно куда…
– Вѣришь?!
Она, молча, склонила голову.
И оба молчали.
И тихо было въ пестрой и блеклой турецкой диванной, подъ фонаремъ, который расцвѣчалъ ея узоры своею острою, не мигающею, электрическою жизнью.
Наконецъ, Симеонъ поднялъ опущенную, будто раздавленную, голову и произнесъ значительно, рѣзко, твердо:
– Вѣрить подобнымъ слухамъ, Эмилія Ѳедоровна, все равно, что считать меня воромъ.
– Далеко нѣтъ, – спокойно остановила она, – это значитъ только, что ты пришелъ и сѣлъ на пустое мѣсто, не поинтересовавшись тѣмъ, почему оно опустѣло.
– Ты мнѣ помогала въ томъ, чтобы я сѣлъ на мѣсто это, да, ты мнѣ помогала! – воскликнулъ онъ, обращаясь къ ней почти съ угрозою. – Помни это!.. Если ты берешь на себя смѣлость меня осуждать, то не исключай и себя: значить, ты моя соучастница.
Она рѣзко возразила:
4– Поэтому то я и не безразлична къ тому, какъ городъ это принялъ и что говоритъ… Я совсѣмъ не желаю быть припутана въ молвѣ людской къ грязному дѣлу… Ты опять киваешь, что мнѣ заплачено? Ошибаешься. Мнѣ заплачено за дѣлежъ, a не за грабежъ.
Онъ угрюмо молчалъ, a она, сверкая глазами, насѣдала на него все строже и строже.
– Ты, когда рѣшилъ раздѣть Васю Мерезова, не учелъ его значенія въ городѣ, ты позабылъ, что онъ всеобщій любимецъ…
Презрительно засмѣялся Симеонъ.
– Завтра я открою домъ свой всякому встрѣчному и поперечному, устрою разливанное море вина за обѣдомъ и ужиномъ, наприглашаю гитаристовъ, цыганистовъ, разсказчиковъ изъ русскаго и еврейскаго быта, найму двѣ-три тройки безсмѣнно дежурить y моего подъѣзда – и буду, если захочу, такимъ же любимцемъ… вдвое… втрое!
– Сомнѣваюсь. Ты не изъ того тѣста, изъ котораго вылѣпливаются общіе любимцы. Тутъ надо тѣсто разсыпчатое, a ты… уксусный ты человѣкъ, Симеонъ! – засмѣялась она, сверкая живыми алмазами глазъ и каменными огнями серегъ. Да и, во всякомъ случаѣ, это будущее, a Мерезова любятъ и въ прошломъ, и въ настоящемъ.
– Чѣмъ же я виноватъ, если, для того, чтобы угодить вашему милому обществу, надо быть не порядочнымъ человѣкомъ, a пьяницей, мотомъ и развратникомъ? – угрюмо откликнулся изъ табачнаго облака Симеонъ. – На этихъ стезяхъ бороться съ Василіемъ Мерезовымъ y меня не было ни времени, ни средствъ, ни охоты, ни натуры… Притомъ, – презрительно усмѣхнулся онъ, – наблюдая за любезнымъ братцемъ моимъ, Модестомъ Викторовичемъ, не замѣчаю, чтобы способъ Мерезова былъ уже такъ непреложно дѣйствителенъ. Негодяйства и безпутства въ Модестѣ не менѣе, однако не очень то красива его городская репутація. Скоро ни въ одинъ порядочный домъ пускать не будутъ.
– Чему же ты радуешься? – холодно остановила его Эмилія. И, такъ какъ онъ не отвѣчалъ, a только курилъ и дымилъ гнѣвно, она покачала съ грустью темнымъ снопомъ волосъ своихъ, заставивъ сквозь ночь ихъ блеснуть зелеными звѣздами, изумрудныя серьги.
– Какъ вы, Сарай-Бермятовы, всѣ ненавидите другъ друга… Какая ужасная семья! Всѣ одичали, озвѣрѣли… Только Матвѣй, да Аглая и сохранили въ себѣ искру Божію…
– Юродивый и блаженная, – презрительно бросилъ Симеонъ. – Виктора еще помяни! Не достаетъ въ коллекціи.
– Виктора я слишкомъ мало знаю, – грустно сказала Эмилія Ѳедоровна, – онъ всегда чуждался меня… A ужъ съ тѣхъ поръ, какъ я сошлась съ Аникитою Вассіановичемъ, повидимому, я совершенно утратила его уваженіе… Что же? онъ правъ. Мое общество не для такихъ послѣдовательныхъ ригористовъ…
Симеонъ сердито курилъ и зло улыбался.
– Вотъ какъ въ одинъ прекрасный день, – грубо сказалъ онъ, – этотъ самый ригористъ прострѣлитъ твоему Аникитѣ его татарское брюхо, тогда ты достаточно узнаешь, что за птица этотъ господинъ Викторъ нашъ.
Эмилія оглядѣла его съ внимательнымъ недовольствомъ.
– Удивительный ты человѣкъ, Симеонъ!
– Ну и удивляйся, если удивительный… – пробормоталъ онъ, безсознательно повторяя "Гамлета".
– Очень удивительный: неужели ты не понимаешь, что ты вотъ сейчасъ на брата доносъ сдѣлалъ?
– Кому?… Тебѣ?… Ты, кажется, ни генералъ-губернаторъ, ни полицеймейстеръ, ни жандармскій полковникъ, ни прокуроръ…
– Такъ ли ты увѣренъ въ томъ, что говоришь? – остановила она его ледянымъ голосомъ. Онъ, смущенный, умолкъ.
– То-то вотъ и есть! Эхъ ты!..
– Ты сегодня нервная какая то, – бурѣя лицомъ, пробормоталъ онъ, – говорить нельзя: придираешься къ словамъ… Кажется, не трудно понять шутку… между своими…
– Ты думаешь? Наивенъ же ты, если не лжешь. Между своими! A Аникита Вассіановичъ мнѣ чужой? Подобныя шутки въ наше время отправляютъ людей на висѣлицы и въ зерентуйскія стѣны…
Симеонъ молчалъ, и по упрямому лицу его Эмилія ясно видѣла, что, собственно говоря, онъ рѣшительно ничего не имѣетъ противъ того, чтобы Викторъ именно въ зерентуйскія стѣны и былъ заключенъ… И было ей и жаль, и противно…
– Глупая сантиментальность! – произнесла она, думая вслухъ, – и за что только я васъ, Сарай-Бермятовыхъ, люблю? Такъ, вотъ, застряли зачѣмъ то вы всѣ въ душѣ моей съ раннихъ годовъ дѣвическихъ… и давно бы пора выкинуть васъ вонъ изъ сердца, какъ изъ вазы букетъ завядшій. A вотъ – не могу, держитъ что-то… Глупая сантиментальность!.. Но – берегись, не злоупотребляй, Симеонъ! не злоупотребляй!
Эмилія Ѳедоровна встала, хмуря, сдвигая къ переносью полуночныя брови свои.
– Ну-съ, – произнесла она рѣшительно и опять какъ бы приказомъ, – время не раннее… Еще разъ спасибо за честь, что вспомнилъ новорожденную, и тысяча эта, которую ты привезъ, – merci, – пришлась мнѣ кстати, a теперь отправляйся: y меня дѣловыя письма не дописаны… A Мерезова ты мнѣ, какъ хочешь, изволь устроить, – иначе поссоримся, это я тебѣ не въ шутку говорю…
– Странная ты женщина, Эмилія! Ну, сама подумай, чего ты отъ меня требуешь? Сама же говоришь, что y него долговъ на пятьдесятъ тысячъ… Что же – прикажешь мнѣ, что-ли, ни за что, ни про что подарить ему стотысячный кушъ: половину на расплату съ долгами, половину на новый пропой?
– Зачѣмъ сразу гиперболы?
– Да дешевле его на ноги не поставить…
– Долги можно и не сразу гасить. Если онъ половину заплатить, то обновить кредитъ и будетъ въ со стояніи жить, a Аникита Вассіановичъ дастъ ему хорошее мѣсто…
– Украсите вѣдомство! – злобно засмѣялся Симеонъ.
– Э! не хуже другихъ!
– Слушай, – быстро заговорила она, поспѣшно, обѣими руками поправляя прическу, что всегда дѣлала, когда оживляла ее вдохновляющая мысль. – Я укажу тебѣ путь къ примиренію… благодарить будешь! И волки сыты, и овцы цѣлы… Слушай: отчего бы тебѣ не прикончить всей этой родственной непріятности въ родственномъ же порядкѣ? Давай женимъ Васю на Аглаѣ… вотъ и сплетнямъ конецъ.
Сарай-Бермятовъ хмуро молчалъ, размышляя. Идея ему нравилась.
– За Аглаей всего пять тысячъ рублей, – нерѣшительно сказалъ онъ. – Какая же она Мерезову невѣста?
– Отъ себя накинешь…
– Да! все отъ себя, да отъ себя!
– Знаешь, Симеонъ: иногда во время подарить единицу значитъ безопасно сберечь сотню.
Тонъ ея былъ значителенъ, и опять Симеонъ почувствовалъ угрозу, и опять подумалъ про себя:
– Вотъ оно!
– Я подумаю, – отрывисто произнесъ онъ, поднося къ губамъ руку Эмиліи.
– Подумай.
– Сомнѣваюсь, чтобы вышло изъ этого что-нибудь путное, но… подумаю… доброй ночи.
– До свиданья… A подумать – подумай… и совѣтую: скорѣй!..
– Вотъ оно! – снова стукнуло гдѣ-то глубоко въ мозгу, когда Симеонъ, мрачный, выходилъ отъ Эмиліи Ѳедоровны и, на глазахъ козырявшихъ городовыхъ, усаживался въ экипажъ свой… – Вотъ оно! Гдѣ трупъ тамъ и орлы…
Съ унылыми, темными мыслями ѣхалъ онъ унылымъ, темнымъ городомъ, быстро покинувъ еще шевелящійся и свѣтящійся центръ для спящей окраины, будто ослѣпшей отъ затворенныхъ ставень… На часахъ сосѣдняго монастыря глухо и съ воемъ пробило часъ, когда, поднимаясь въ гору, завидѣлъ онъ издали въ дому-казармѣ своемъ яркое окно, сообразилъ, что это комната Матвѣя, и, приближаясь, думалъ со злобою, росшею по мѣрѣ того, какъ росла навстрѣчу сила белаго огненнаго пятна:
– Жги, жги, ацетиленъ то, святъ мужъ!.. Горбомъ не заработалъ, не купленный… О, отродья проклятыя! Когда я только васъ расшвыряю отъ себя? Куда угодно… только бы не видали васъ глаза мои, только бы подальше!







