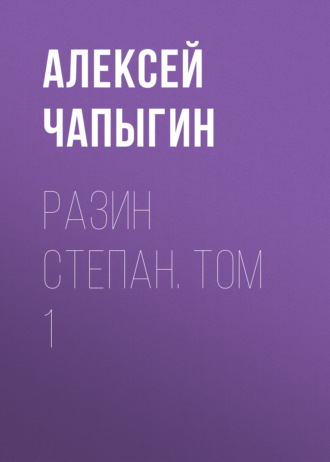
Алексей Чапыгин
Разин Степан. Том 1
Площадь радостно и буйно загудела.
– Вот те тут все, боярин! – сказал Ефим.
Зазвонил жидко старый колокол церкви Ивана Воина. Боярин снял мурмолку, дьяки скинули шапки. Младший дьяк, крестясь, думал:
«Ужели старый в церковь пойдет? Как пес, я жрать хочу…»
Боярин по опустевшей площади пошел к церкви.
9
Жгучий день, с белой от света водой реки, ночью затянуло как будто бы стеклянной занавеской. Тени от домов и деревьев легли по белому песку хрустально-зеленоватые. Краски одежд – кафтанов, летних кожухов и пестрой плахты – стали мутно-тусклые. Давно уж большая луна стоит на водянисто-зеленоватом небе. Много огней в доме атамана; из отодвинутых рам из окон плывут дым и пар. Пьяные казаки, казачки, мужики в лаптях, свитках выходят, шатаясь и тычась, на крыльцо атаманской избы; с крыльца кто ползет, кто идет, пригнувшись, на двор. А бабы, девки, подпив, собрались под окнами в большой круг, начинают высмеивать невесту:
– Зачинай, односумка!
– Тутот-ка можно!
Одна запевает:
Как у нас-то на свадьбе
Хмель да дуда-а.
Ду-ду-ду…
Хмель говорит – я с ума всех сведу! —
Дубова бочечка, бочечка, бочечка…
Верчена в ей дырочка, дырочка.
Кто вертел, тот потел да потел.
Стенько, ты не потел, да свое проглядел.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду.
– Стенько, а невеста не придалась! Стенько, гони сюда ее матку, – хомут ей наложим, хитрой бабе!
– Зачинай, односумка-а, ты!
– Ще вы, бисовы дочки, по-московицки граете?
– Ой, а московицко жениху любо-о!
Гей, у Дону камышинка заломана.
Старым дидом девка зацелована.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду,
Дубова бочечка, бочечка,
Верчена в ей дырочка, дырочка-а!
До основания вздрогнуло крыльцо атаманского дома. На крыльце, топнув ногой, стоял жених, кудри закрывали половину лица, на широких плечах поблескивал в лунном отсвете атласный белый кафтан, залитый на широкой груди красным хмельным медом. В правой руке Разина – пистолет:
– Гей, жонки, и тот, кто позорит мою молодую жену!
Толпа женщин хлынула за ворота атаманского двора, но и дальние слышали страшный голос:
– Того, кто кричит лжу, я зову на расправу!
Он поднял опущенную голову, мотнул ею – лицо бледно, над высоким лбом дыбом встали черные кудри.
– Где ж вы, лгуны?
По двору атамана бродили только пьяные. Разину никто не отвечал. Недалеко от крыльца плясала старуха в рваной плахте. Седые жидкие волосы выбивались из-под плата, закрывали ей лицо; она пела:
Не бийся, матынко, не бийся…
В червоные чоботы обуйся,
Щоб твои пидкивки брежчали,
Щоб твои вороги мовчали.
Помолчав, Разин сказал:
– Не таскать вам, жонки, по городу брачную рубаху Олены… Кто придет за рубахой, того окручу мешком и в воду, как пса! Иное что старики любят, то мы кончили любить!
Хмуро оглянув двор, Разин ушел в светлицу.
– Уж знать, что кончили! Женихи, бывали, невесты не пили, не ели, а они пьют и едят! – крикнул кто-то.
За полночь было. Шли с зажженными свечами в фонарях, с музыкантами, которые играли на дудках. Атаман Корней, без шапки, пьяный и грузный, в бархатном кожухе с кованым кружевом по подолу, в узорчатых зеленого сафьяна сапогах, провожал до дому молодых. Степан, обняв за талию свою невесту в голубой кортели, с золоченым обручем по лбу и волосам, шагал твердо, глядел перед собой и молчал. Молодая склоняла ему на широкое плечо детскую голову с большими глазами, иногда тихо спрашивала:
– Стенько, любишь ли меня?
Разин молчал.
– Стенько, ты слышишь?
– Слышу, Олена… молчу – люблю!
На крыльце хаты крестника атаман поцеловал обоих в губы, сказал:
– Любитесь, дети! Ночь хорошая… ночь… Эх! – и ушел…
Дома всю ночь пил вино.
10
Из хаты, где живет боярин, старые дьяки посланы с поручениями. Даже татарчонок, часто прислуживающий боярину, отослан служить на пиру у атамана.
Окна светлицы плотно задвинуты. Дома – двое: боярин и молодой дьяк Ефим. Перед дьяком на столе длинная, клеенная из листов бумага, в руке, для письма, гусиное перо. Откинув на время спесь, боярин сидит рядом с дьяком на скамье, обитой шкурой черного медведя, на пустом столе горят свечи. Боярин думает. Дьяк молчит. Старик оглянул окна в хате.
– Ино ладно, что окошки пузырем крыты: шарпальники, вишь, разумнее в деле сем наших московских, – те слюду, а нынче удумали многие стклянные ставить; рубят дырье в стенах мало не в аршин и обрамление к стеклам тонявое приправляют, а все – не к месту.
– Правда, боярин! То не ладно – велики рубить окошки, – тихо согласился дьяк.
– Вот я надумал, – пиши!
– «Государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великия и малыя и белыя Русии самодержцу, холоп твой Пафнутько Васильев, сын Киврин, челом бьет! В нонешнем, государь, году августа 5-го дня, по указу твоему, приехал я, государь, сюда и сел у круга войска донеского на корм к Корнейке Ходневу Яковлеву отаману…» Все ли списал толково?
– До единой буки, боярин!
– «А как, государь, сказался я и взялся доводить до тебя про все и вся, то довожу без замотчанья. Город донеской Черкассы, государь, не мал, а на острову, округ – палисад, да порос мохом и инде снизился до земли, башни и роскаты – кои ветхи, а кои покляпились… В городу делены станицы, а курени козацки – в ряд, и промеж огороды – сады… Майдан, государь, широк, и на майдану – церква святого Ивана Воина, и мало не розвалялась, а строят, государь, от имени твоего кирпишную, да кладут мешкотно, а образы в церкви у них скудны, и не едина образа нет на золотной доске – все на красках. К церкви, государь, козаки не усердны, ходят, как на торгу. Пушек на башнях немного, и думно мне, что донские козаки их пропили, ибо они великие бражники, да им оттого страху мало, что пушек недочет, – никто на их город не полезет. Кому, государь, придет охота смертная в осиное гнездо лик и браду пхать? А на майдану и посторонь сего – лари с розны товары, торгуют парчой и ясырем, иманным в Терках и у калмыки, а торг, государь, ведут кизылбашцы да армяня. Многи шинки, а стоят в шинках жидовя с греком. И как указано, государь, где быти и волю вызволять твого светлого имени…» Ладно ли слово, дьяк?
– Какое, боярин?
– «Вызволять».
– Мекаю я, лучше – «вершить», боярин.
– То слово лучше – пиши!
– «…вершить… и как указано мне от тебя, великий государь, и сыскных дел комнатной государевой думы – сыскать заводчика солейного бунта, и я сыскал, сидя ту, и весь их воровской корень, откудова исшел, сыскал же. А корень тот, государь, исшел от прахотного старичонка, вора Тимошки Рази, почетна и ведома у них во многих воровских делех; и старичонка того, вора Тимошку, я, государь, убрал и воровской его язык заклепал, а о том, став на светлые твои очи, не утая, обскажу по ряду». То все исписал?
– Все ладно, боярин!
– «И еще довожу, и думно мне, что наша ту кормильца-поильца Ходнева Яковлева я бы, самого взяв, держал под крепким караулом, да силы на то не имею». Написал?
– Про то про все написано, боярин!
– «С воеводой сноситься – далеко, а ратного уряду, опричь беглых холопишек и смердов, кои в городишке водятся, в сих местах надти не мочно, иных и мочно, да веру дать им опасно… А что, государь, Корнейку отамана я сужу сильно, то сие тако: оный Корнейко примает, государь, купчин с Воронежа, и купчины те воруют, государь, противу имени твоего: наезжают в Черкасской с зельем и свинцом, а та справа зелейная идет по рукам гулебщиков – охотников на воровские делы на Волге и на море, да и старые козаки, стакнувши с самим отаманом, ворам многую справу дают и воровской прибыток дуванят заедино с ворами же. Да оный же Корнейка, государь, имал с Москвы от сестры государыни и великой княгини боярыни Морозовой ковер, шитой к церкви, а шит на ковре «Страшной суд», и тот ковер, государь, опялен у Корнейки в поганом месте, где всякие людишки тамашатся, игры играют и где он пиры дает в светлице… А округ нас, государь, едины лишь шарпальники донеские, и хоша имя твое, государь, при нас поминают с почетом, да и непристойных речей говорят немало, а кичатся, что никому же послушны». Ну, дьяче?
– Еще мало – и все, боярин!
– «Заводчика, государь, сыскал плотно – оный Стенька, сын Рази, в сих местах – свой, среди лихих людей самой лихой и пакостной, а Корнейке отаману родня есть и нынче оженился, ежели сие мочно свадьбой звать, а тако: оповестил на майдану при стечении многого люда себя с девкой живущих в блуде… По-нашему – сие беззаконие, сысканное без пытки, после чего таковых на Москве по торгам водят нагих и кнутом бьют…»
Боярин долго молчал.
Дьяк сказал:
– Писано о всем том, боярин!
– Не спеши – пиши, дьяк, толком: не к месту бук да ерей не ставь, ижиц, знаю я, много лепишь, – и мне смеялись сколь… За таковое, мотри, мой дубец по тебе пойдет, а время приспеет – и заплечному над тобой потрудиться укажу…
– Были ошибки, боярин! Нынче я письмо познал много…
– Не бахваль!
– «Взять того заводчика Стеньку, государь, силом не мочно, а, думно мне, возьму я ево через Корнейку отамана. Я, твой холоп, государь, улещаю оного отамана посулами: «Мы-де тебя возведем в почести» и, думно мне, государь, что сей Корнейка погнется на нас и вора того Стеньку Разю пошлет на Москву в станичниках, а на Москве, великий государь, твой над ним суд и расправа будет… Прости, государь, твоего холопа, что молвлю слово советливое, только брать, государь, как берут ныне на Пскове воров, что свейскую[59] величество королеву лаяли, не годится – не крепко и людьми убытошно, а как я прибираюсь – тише и много пригоднее. Не осуди, государь, что якобы бахвалюсь. Я только так к слову сие о псковских ворах молвил. А еще, государь, из сюда довожу, что землю сии козаки пашут мало, а кто из шарпальников належно пахотной, того выбивают из сих мест вон… А пошто у них такое деется, то, слышал я, – воевод и помещиков боятся только на Украине, там много пахотных…» Еще кое-что припишем, дьяк. Все ли по ряду?
– Все, боярин!
– Не оглядел я тебя, как писать зачали, – каки на тебе портки?
– То все ведаю, боярин, за письмом меня пот долит, так я на колешки бархатцы стелил ветхи…
– Смекнул? Ино крашенинными портками всю бы грамоту замарал! Сказывать могу, и не бестолково выходит, а вот подпишусь с трудом… Мы, дьяк, ужо зачнем государю писать не хуже Афоньки Нащоки… Нынче же наладить надо Сеньку дьяка… Бородат, ступью крепок и черевист мало… Пущай до Москвы милостыней идет – с виду голец, с батожком по-каличьему доберется… Надо его уже обрядить в сукман да ступни и втай переправить через реку… Вожа ему не надо – дорогу ведает. Да еще, Ефим, пиши малу грамоту к воеводам, чтоб не держали ряженого дьяка.
– Так, боярин, всего лучше твою грамоту довести государю…
За окном зазвенели детские голоса. Боярин сказал:
– Дьяк, кто там воет?
Ефим спешно кинулся и, приоткрыв окно, взглянул:
– Козацки робята, боярин! Вишь, с поля идут, рожи царапаны. Не впервой – ежедень в бои играют.
Голоса приближались, задорно пели:
Дунай, Дунай, Дунай,
Сын Иванович Дунай;
Ты гуляй, козак, гуляй —
Воевод лихих не знай…
Гей, Дунай, Дунай, Дунай.
Боярин, вытянув на столе сухую желтую ладонь, сжал ее в кулак:
– У батек переняли песню? Ужо, шарпальники, землю и спины вам распашем и воевод лихих посадим! А ну, дьяк, перечти-ка грамоту, да подпишусь, и припечатаем…
11
Разин сидит в шинке против распахнутой настежь двери. Кудри упали на лицо… За тем же широким, черным от многих питий столом сидят молодые казаки: Васька Ус и, с бледным лицом, с шрамом на левой скуле, худощавый, костистый, Сережка Кривой. Мертвый под бельмом глаз прищурен, правый остро и жадно глядит; блестит в ухе кольцо золотой серьги. Пьют крепкий мед из смоляной бочки, что у шинкаря за стойкой. Черноволосый грек зорко сторожит казацкие деньги; ждет, когда крикнут: «Подавай!»
Против дверей вдали – палисад городской стены, ровен с землей – белая полоса берега Дона пылит дымной пылью, серебряной парчой светится Дон. Ряд боевых челнов застыл, чернея четко на рябоватом блеске воды.
– Купчины с Воронежа дадут пороху, свинцу! – сказал Ус.
– А тут они, в городе?
– У сородичей, в Скородумовой, есть все!
– А у меня, браты, есть боярское узорочье.
Разин поднял руку с медным кубком и опустил; затрещала столовая доска, вздрогнули стены от голоса:
– Соленой, меду-у!
Грек выскочил из-за стойки, поставил, поклонившись, железный кувшин на стол:
– Менгун, козаки, менгун…
– Сатана! Даром не можно?
Разин кинул на стол талер.
– Узорочье есть; то сказывать нече, – челны набьем свинцом и – гулять!
– Руки есть, головы – на плечах!
– Пьем, браты! Ишь, сколь серебра на Дону, простору хочется!
– Браты мы, Степан. Руку, дай руку! – жилистая рука с длинными узловатыми пальцами протянулась через стол. Разин скрыл ее, сжав. Сверху легла широкая лапа с короткими жесткими пальцами Васьки Уса.
– А тож я брат вам, козаки!
– Пей, допивай!
– Допьем, Степанушко!
– А ты, Степан, опасись Корнея, – не спуста отец твой Тимоша не любил его…
– Сережко, знаю я, все знаю…
– Нынче, Степан, тебя в атаманы?
– Можно! Иду…
Мимо дверей всех шинков прошел казак-глашатай, бивший палкой по котлу-литавре, висевшей на груди на кушаке.
– Гей, гей, козаки! К станичной батько кличет…
– Зряще ходим мы сколь дней – круче решить надо, а то атаман опятит!
– Не опятит, Серега, гуляем!..
Встали, пошли, тяжелые, трое…
12
Молодуха Олена, повязав голову синим платком из камки, косы, отливающие золотом, наглухо скрыла. На широких бедрах новая плахта, ходит за мужем, пристает, в глаза заглядывает:
– Ой, Стенько, сколь ден душа болит, – что умыслил, скажи?
Разин – в черном бархатном кафтане нараспашку, под кафтаном узкий, до колен шелковый зипун, на голове красная шапка, угрюмые глаза уперлись в даль.
Старые казаки, взглядывая на шапку Разина, ворчат:
– Матерой низовик и шапка запорожская, – негоже такое!
На площади много хмельных, голоса шумны и спорны:
– Стенько, уж с молодой приелось жареное, аль из моря соленого захотел?
– Хороша жена, да козаку не дома сидеть… Олена! Она у меня – эх!
Степан слегка хлопает рукой жену по мягкой спине и хмурится – мелькнуло в голове коротко, но ясно другое лицо: так же трепал на Москве из земли взятую.
– Ну, шапка! – Запорожская шапка высоко летит от сильной руки в голубую высь.
– Слышьте, козаки молодцы?!
– Слышим!
– Кто за мной на Волгу? Насаду рыбу лови-ить?
– Большая рыба, козак?
– Тыщи пуд!
Полетели шапки вверх: Сережкина баранья с красным верхом – первая; вторая, запорожская – Васьки Уса.
– Эх, лети моя!
– А наша что, хуже? Лети!
– И я!
– Что, козаки атаманы, сколь шапок, столь охотников!
Звеня литаврой, в станичную избу с площади прошел глашатай:
– Гей, козаки, атаман иде!..
Из приземистой хаты, станичной избы с широким, втоптанным в землю крыльцом, казаки вынесли бунчук: держит древко – с золоченым шариком, с конским хвостом наверху – старый есаул Кусей, а за ним еще есаулы и писарь. Все казаки и есаулы, как в поход, одеты в темные кожухи, только атаман Корней в красном скорлатном кафтане; по красному верху его бараньей шапки – из золоченых лент крест. В руках атамана знак его власти – брусь[60]. Топорище бруся обволочено черным, перевито тянутым серебром. Все стали близ церкви в круг; сняв шапки, перекрестились. Снял и атаман шапку; входя в середину круга, перекрестился. Когда атаман снял шапку, блеснула в ухе белая серьга, а черная коса с проседью легла на его правое плечо.
Кинув наземь шапки, есаулы положили перед атаманом бунчук и несколько раз поклонились атаману в пояс, – шапки подняли, надели, атаман – тоже. Корней Яковлев тряхнул головой, сказал громко:
– Зовите, атаманы молодцы, тех козаков, кои самовольством вот уже не един день, не спрося круга, собираются в гульбу…
Круг стал шире, те казаки, что кидали шапки, встали перед атаманом.
Атаман, опустив брусь к земле, блеснул серьгой, громко спросил, водя глазами по толпе:
– А знаете ли, молодняк-козаки, что в станичной избе есть колодки, чепи, коза и добрая плеть?
– Знаем, батько!
– Кого в атаманы взяли для гульбы?
– Стеньку Разю – хрестника твоего!
– А ведомо ли вам, козаки, что круг тайно постановил?
– Нет, батько!
– Так ведайте. На тайном кругу Степан Разин взят старшиной в зимовую станицу на Москву есаулом. Почесть немалая ему, и загодя хрестник поедет, привезет от царя на всю реку жалованье, да о вестях наказать, что писали к нам воеводы из Астрахани: «Куды будут походы царя крымского с его ратью?» – о чем через лазутчиков мы накрепко проведали. А еще узнать в Москве – время ли от нас чинить турчину помешку или закинуть? О том сами вы неведомы, а потому я, атаман, приказую вам, молодняк, забыть о моем хрестнике, и так как вы по младости неведомы тайных дел круга, то вины ваши отдаю вам без тюремного вязеня и не прещу, козаки, гулять: исстари так ведется, не от меня, что козак – гулебщик… И ведаю: не спущу вас, самовольством уйдете. Посему берите иного атамана, гуляйте в горы, в море, куда душа лежит…
– Добро, батько! Благодарствуем.
– Берем Сережу!
– Кроме хрестника – не прещу! Ты же, Степан, не ослушайся круга, круг не напрасно под бунчук вышел. Иди домой и исподволь налаживай харч, воз и кони, – падет снег, старшина позовет.
Разин молча махнул шапкой, выйдя из круга, обнял жену:
– Домой, Олена!
Олена сорвала плат с головы, махала им, поворачивая радостное лицо в сторону атамана. Атаман пошел в станичную избу, только на крыльце, отдав брусь есаулам, снял шапку и в ответ на приветствие молодухи помахал.
– Иди, жонка! Продали меня Москве, а ты крамарей приветишь.
– Ой, Стенько, сколь деньков с тобой!.. Спасибо Корнею.
– Женстяя душа и петли рада!
Плюнул, беспечно запел:
Козаки гуляют
Да стрелою каленой
За Яик пущают…
Опустив голову и скрипя зубами, скомкал красную шапку в руке:
– Дешево не купят Разю!
– Ой, Стенько, боюсь, не скрегчи зубом… Ты и во сне скрегчишь…
Москва боярская
1
Светловолосая боярыня сорвала с головы дорогую, шитую жемчугами с золотом кику, бросила на лавку.
– Ну, девки, кто муж?
– Тебе мужем быть, боярыня!
– Муж бьет, а тебя кто бить может? Ты муж…
С поклоном вошла сенная привратница:
– Там, боярыня Анна Ильинишна, мирской худой человек тебя просит.
– Чернцов принимаю… Иным закажи ходить ко мне.
– «Был-де я в чернцах, ведает меня боярыня…» – слезно молит.
– Кто такой? Веди!
Привратница ввела худого, тощего человека в рваном кафтане, в валяных опорках. Человек у порога осел на пол, завыл:
– Сгноили, матушка княгиня! Лик человечий во мне сгноили, заступись.
– Кто тебя в обиде держит, Василий?
– По патриаршу слову отдали боярину головой в выслугу рухляди!
– Какой рухляди?
– Ой, милостивая! Ни душой, ни телом не виноват, а вот… Поставил, вишь, на наше подворье боярин Квашнин сундук с печатями, в сундуке-то деньги были – тыща рублев, сказывает, да шапка бархатная с дужкой, с петелью большой жемчужной, да ожерелье с пугвицы золотными, камением. И все то с сундука покрали. А я без грамоты, мужик простой – едино, что платье монастырско… И не мог я к боярину вязаться – оглядеть дать, что там под печатьми, цело ли?.. И ни душой, ни телом, а по указу патриарха содрали с меня черное, окрутили во вретище, выдали боярину, а Квашнин Иван-то Петрович, озлясь много, что не по его нраву суд решил, что не можно ему с монастыря усудить тое деньги его и рухляди, говорит: «Буду я на тебе, сколь жив ты, старой черт, воду возить с Яузы, кормить-де не стану, – головой дан, что хочу – творю по тебе!» И возят, матушка, на мне замест клячи не воду, а навоз – в заходе ямы, и стольчаки чищу и всякую черную работу. Пристанешь – бьют батоги, не кормят, не обувают. Вишь, на мне уляди ветхи, так и те не из жалости купец гостиные сотни Еремов дал, что ряды у Варварских ворот… А Квашнин боярин, не оправь его душу, как бывает хмелен в шумстве – а бывает с ним такое почесть ежедень, – кличет меня, велит рядить в скоморошью харю, рогатую, поганую, велит мне играть ему похабные песни да ползучи лаять псом, а голосу мово не станет – пинками ребра бьет и хребет ломит чем ни попади… Боярыня же его, Иванова Устиния Васильевна, пьяная, в домовой байны, что у них во дворе у хмельника, раз, два в неделю, а и более лежит на полке, девки ее парят, да зовет меня тож парить ее, а в байны напотдаванно, аж стены трещат; я и малого банного духу не несу, с ног меня валит от слабости, сердце заходится, и как полоумный я тогда деюсь. «Парь, сволочь! Игумна парил – парь, я повыше буду». И паришь, а она экая, что гора мясная… А вретище не велит скидать, паришь ее в одежке… И бредешь, не чуя ни ног, ни главы после всего того, в угол какой темный, дрожишь дрожмя, свету божью не рад и не чаешь конца аду сему… Хоть ты, светлая княгинюшка, умилостивись над стариком.
– Не княгиня – боярыня я, Василий! Но как я вступлюсь! Сам знаешь: противу царя да патриарха сил нет.
– Ой, матушка княгинюшка! Попроси боярина Бориса Ивановича – пущай Квашнина боярина уговорит: пошто вымает из меня душу? Пошто гноит во мне лик человечий?
– Не забуду, Василий. Иди, скажу Борису Ивановичу!
– Земно и слезно молю, матушка!
Старик ушел.
– Ну, девки, зачинай…
– А вот те скамля, боярыня, ляжь-ко, ручки сложи.
Боярыня легла на скамью, крытую ковром, к правой ее руке девки положили плеть. Встали кругом скамьи, запели:
Мой-от нов терем
Растворен стоит.
Мой-от старой муж
Во гробу лежит…
Мой-от старой муж
Из гроба встает,
Из гроба встает,
Жонку бить почнет…
Стару мужу я
Не корилася…
– Вставай, боярыня! Бей плеткой жену.
В горенку вошла мамка Морозовой, крепкая старуха с хитрыми, зоркими глазами. Она в кике с крупным бисером, в коричневом суконном опашне, расшитом по подолу светлыми шелками.
Стуча клюкой, кинулась на девок:
– Трясуха вас бей, ужо как пожалует, возьмет боярин, на съезжую сдаст, – там не так плетью-то нахлещут, а ладом да толком… И тебе, матушка боярыня, великий стыд есть дражнить боярина Бориса-то Иваныча. Холит, слушает во всем тебя, налюбоваться не знает как, – еще, прости бог, скоро киоту закажет да молиться тебе зачнет. Пуще ты ему самого патриарха… А кто тебе дарит листы фряжские, говорящих птиц заморских и узорочья? Ты ж, Ильинишна, и мало не уважишь боярина, ишь, игру затеяла! Ведаешь, что боярин за то и седеть стал, что печалуется, как лучше угодить тебе?.. Ведаешь, что слова о старом муже не терпит, а как разойдется в твой терем, да послушает, да озлится, – тогда что? Мне – гроза, тебе – молонья?
Старуха замахала клюкой и снова кинулась на девок:
– Пошли отсель, хохотухи, потаскухи!
– Ну, мамка, не играем боле, не гони их, а вот пришла, так сказку скажи, мы и утихнем…
– Сказку – ту можно… Отчего, мати Ильинишна, сказку не сказать?
Мамка с помощью девок залезла на изразцовую лежанку:
– Скамлю дайте!
Девки поставили скамью, старуха на скамью плотно уставила ноги, склонила голову, упершись подбородком на клюку, заговорила:
– «Жил это да был леневой мужик, и все-то у него из рук ползло, никакая работа толком не ладилась… Жил худо и вдово – бабы замуж за него не шли… Была у того мужика завсегда одна присказка: «Бог даст – в окно подаст!» Спит это леневой мужик, слышит, во сне говорит ему голос: «Ставай, Фома! Иди за поле, рой под дубом на холму – клад выроешь…» Проснулся леневой мужик, почесался, на другой бок перекатился и опять храп-храп. Сызнова чует тот же голос: «Ставай, Фома, иди, рой!» Сел мужик на кровати, а спать ему – любое дело… клонит ко сну. За окном и заря еще не брезжит, второй кочет полуночь пропел.
«Пошто я эку рань!» Лег и опять спит, а голос это в третий раз зовет, да будто кто мужика в брюхо пхнул. Встал-таки леневой, ступни[61] обул, завязал оборки[62], в сенях это лопату нашарил и с великой ленью на крыльцо выбрался. А у крыльца это стоит купчина корыстной, – всю-то ночь, сердешный, маялся, не спал, ходил да от лихих людей это анбары свои караулил, – и спрашивает леневого:
– Пошто ты, Фома, экую рань поднялся?
– Да вот, – сказывает леневой, – сон приврался трижды: «Ставай, поди рой на холму на заполье клад». А мне до смерти неохота идтить… Вишь – сон, кабы человек какой сказал про то, ино дело!
– Давай схожу! Озяб. Покопаю, согреюсь, – говорит купчина, а сам это на зарю глядит, думает: «Скоро свет. Лихих людей не опасно…»
Отдал мужик купцу лопату, сам это в избу – и спать. Купчина холм сыскал, дуб наглядел, рыл да рыл и вырыл дохлую собаку.
Обозлился это купчина:
– Где – так разума нет, а над почетными людьми смеяться рад? Так я уж тебе! – И поволок, моя королевна, заморская мати, тое пропадужину в деревню, волокет, а в уме держит: «Тяжелущая, трясуха ее бей!» Приволок это купчина под окошко леневому Фоме да за хвост и кинул дохлое, а оконце над землей невысоко – угодил в окно, раму вышиб и думает:
«На ж тебе, леневой черт!»
Пала собака на избу и вся на золото взялась. От стука скочил это Фома:
– Никак мене соцкой зачем требует?
И видит – лежит по всей избе золото… Почесался мужик, глаза протер, сказал:
– Значит, это – коли Бог даст, то и в окно подаст».
– Ох, мамка! Лживая сказка, а потому лживая, что мало Бог подает… Ныне же приходил ко мне старик Василий, боярину Квашнину патриарх его головой дал, а боярин довел старика, что еле стоит. И думаешь, не молился тот Василий Богу и угодникам всяким? Да что-то ему не подает Бог!
– Ты, мати Ильинишна, королевна моя, пошто такое при девках сказываешь? А ну как они сдурна кому твои слова переврут, да их поволокут, а они повинятся: «От боярыни-де тое речи слышали»? Патриарх да попы – народ привязчивый, за веру не одного человека в гроб уклали…
– Ништо со мной будет, мамка, а вот скушно мне! До слез скушно…
– Ой, о Боге, королевна, заморская мати, не кощунь так! При чем тут Бог? Кому что сужено, то и корыстной купчина не уволокет, а к дому приволокет… Старику же тому, видно, планида – в беде быть. Не любит народ монахов, ныне еще жалобились государю: «Народ-де в нас палками кидает, когда идем круг монастыря с крестом, с хоругвью». А кого народ не любит, тот и Богу неугоден.
– Не любит, мамка, народ воеводу, бояр не любит, – значит, и Бог не любит их?
– Ах, мати Ильинишна! Запутала ты мою старую голову… Воеводы, бояре царю служат, монахи – Богу, а что деют? На виду пост постят, втай творят блуд, а корыстны, а народ в крепость к монастырям имают, а деньги в рост дают. И давно ли то время ушло, когда монахи-чернцы шумство великое водили, на ярмонках водкой торговали? Видно, тому Василию так и надо…
– Да, мамка, кабы тот старик игумном был! А то простой мужик, неграмотный, от воеводиных потуг, может, и в монастырь шел, а сказка твоя ленивого хвалит – ленивый и сказку уклал.
– Того не ведаю, Ильинишна! Что придумалось, то и сказалось…
– И невеселая… Лучше поведай-ка, что на Москве слышала?
– Ой, уж вот, моя королевна, нашла веселого в Москве! Скажу, только слушай: перво – питухи с кабаков шли да на бояр грозились, а их за то сыщики Квашнина боярина в Земской волокли батоги бить… Да жонке блудной – Улькой звать – голову ссекли: родущего своего удушила. Москва – она завсегда такая. Что в ей веселого? В Кисловке царицын двор – и трое вороты, у них решеточные сторожи, а кабатчика да питухов сыскали да вдову Дашку, царицыну постельницу, изловили, – поди, и ты ее, Ильинишна, знавала? Ера такая, развеселая, говорливая…
– Знала Дарью, – жаль, что с ней?
– Ширинку государеву заговаривала, будто и царицын след вымала…
– Мучат людей по наговорам пустым, – не верю я, мамка, в порчу!
– В порчу не веришь? Ой ты, королевна писаная, порча – лихое дело! Ну, еще про веселую Москву тебе скажу. В слободе, что от Арбатских ворот до Никитских, все истцы перерыли – сыскались там грабежники многи, а ставили воры шарпаное на пустой немецкий двор, что стоит за Никитскими вороты, а грабежникам подводчики были: решеточный сторож с Арбата да пристав Судного приказу подводили на тех, кого грабить! Кнутобойство им великое ныне, да по битой спине веники огнянные парят…
– Ой, мамка! Как много этого кнутобойства!.. Одного худого сыщут – десяток невинных убьют…
– И, мати Ильинишна, а как по-твоему – воров надо миловать? Сытой их медовой поить да по головке гладить?
– Говорила я Борису Ивановичу: худо это – бить. А он мне: «Берем меру из-за моря – там людей пытают и жгут покрепче нашего…» А все оттого худо у нас, что ничего мы не знаем ни о солнце, ни о небе, ни о вере чужой и народе не нашем, – попы нам знать о том не дают… Скажи, послов каких не видала ли?
– Нету новых, мати Ильинишна. Немчины – так те давно живут, и кои из них нынче в кизылбаши поехали, да тут кой день донеские козаки станишников своих прислали к государю за жалованьем, за хлебом, справом всяким… Да стой-ко, мати Ильинишна! Давно я тебе сказать ладила, а все с языка увертывалось: народ молыт, есть-де с теми станишниками тот, что в солейном бунте был и шарпал тогда сколько добра твоего, морозовского, а был он в отаманах… Вот бы проведать ладом те речи, поразузнать людей, которые приметы его помнят, а ты бы, мать, словечко шепнула боярину Борису-то Иванычу, уж боярин сыщет через Квашнина Ивана Петровича, тот в Земском сидит… Коли заводчик тута, а сыщут его, то честь-то тебе какая будет! Первая проведала! Сам бы царь-государь тебя за твое дело возвеличил.
– Ты, мамка, мекаешь, что для поклепов людей на Москве мало? Думаешь, что меня там недостает? Говоришь – тот, что в солейном был атаман?
– Тот, моя королевна, тот!
– Вы, девки, подите к себе! Играть сегодня не станем.
Девки ушли. Боярыня сама заперла за ними дверь в светлицу, вернулась, села на скамью к ногам мамки, опустила голову.
– Голову вешаешь и очи мутны, уж не сглазил ли тебя кто, моя Ильинишна, скажи-ко?
– Пустое это, не верю я в призор, мамка!
– Призор-от пустое? Нет, голубушка. Худой глаз – спаси Бог.
– Не любит меня никто, мамка! Душно, скушно в терему… на волю бы куда… Хоть с каликами, что ли, подти?
– Да ты с чего это, моя королевна? Что ты, Ильинишна, мать? Да нешто мало тебе любови, ласки от боярина Бориса-то?
– Горючее у меня сердце, мамка, как смола на огне. Сжигает меня мое сердце, а стар ведь он, муж…
– Ты сгоряча, дитятко, не скажи ему такого, – спаси Бог! Любит он тебя, собой не дорожит – во как любит! И я тебя люблю… с малых лет люблю… Царицу-то Марью мене люблю я… Ты мной пестована, байкана.
– Живи, мамка! Пошто тебе за меня помирать?.. А вот скажу, – боярыня подняла голову, – говоришь: «Взведи поклеп на козака, что в солейном бунте был». А мне вот его охота видеть здесь, у себя в светлице, спросить обо всем самого…
– Да ты сотвори, боярыня, Исусову молитву, – змия-аспида зреть своим глазом хошь! Как он убьет тебя? Ведь он ведомой душегуб, ежели он тот отаман солейной, станишник, шарпальник… огонь заразительной, болесть лютая – трясуха его бей!
– Чуй, мамка! Кабы не тот казак, меня бы тогда убили: он не дал… Не убили бы, спалили терем… Я же была недвижима… Теперь мне памятны его слова: «Спи – не тронут, не спалят!» Больна я была, но парчу, каменья дорогие и лица видела ясно, яснее, чем ныне вижу… Глаза его помню – страшные глаза…




