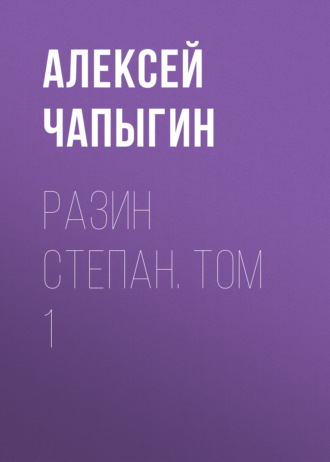
Алексей Чапыгин
Разин Степан. Том 1
– Фрол, где батя?
– Гляди – на полу.
Лучина попала сырая. Степан, ударив нетерпеливо по светцу, погасил тлеющие огарки. Полез под кровать рукой, нашарил ящик, вынул две сальных свечи, зажег.
– Эй, Фрол. Пошто на полу отец?
– Он застыл, Стенько!
– А-а-а! Фрол, беги на площадь. Ту близ, справо дороги, хата, в ей греки живут и баньяны[40] разные. Понял?
– Понял!
– Там, знаю я, немчин лекарь проездом стал, веди его… скажи… да на вот талер – еще дам! Скажи: не пойдет – с пистолем заставлю.
– Бегу, Стенько! Скажу…
– Ой, Олена, ежли мой отец отравно пил, я московитов бояр не спущу даром… Ты гляди – рука? Она – камень, так не помирают с добра… Подойди – старик мертвый, а не бойсь – золотой… В море малого меня брал пищали заряжать… Учил переходить на конь реки, и первый я из всех рубил, колол… От атамана уздечки, седла. Зато дьявол! Что сказываю? Все знаешь сама.
– Знаю…
– Ходи, не бойся, – вот его рука, подымаю, – он живой дал бы согласье… а? Ты моя, Олена? Беда, ой беда! Батько, старый Тимоша, отец!
Молодой, казак стоял на коленях, теребил свои кудри. Девка держала казака за плечи.
– Долго! Нейдет немчин? Ино сам пойду.
– Ты плачешь, Стенько? Я буду крепко любить…
– Не целуй, не висни, Олена! И не знаю я… что? что?
Открылась дверь. Торопливо, почти вбежал Фрол, за ним двое немчинов в черных плащах вошли в хату. На головах черные шляпы с высокими тульями и белым перьем. Оба в башмаках, при шпагах. Один остался у дверей, оглядывался подозрительно. Другой на тонких ногах решительно подошел, нагнулся к мертвому, потрогал под набухшим веком остекленевший глаз старика, пощупал холодную руку.
– Ту светит! Ту светит! – приказал он.
Степан водил огнем свечи, куда показывал лекарь.
– Tot! Помер, можно сказайт…
– Отрава или нет? Да правду сказывай, черная сатана!
– Мой правд, завсегда правд! Стар… сердце… Пил вина?
– Пил – был на пиру!
Другой черный подошел и, не трогая старика, нагнулся, долго внимательно глядел на мертвого.
– Не знайт! – сказал лекарь. – Пил вина, от сердца ему смерт… Schwarz das Gesicht?[41] – обратился он к другому, как бы призывая его в свидетели.
Тот молчал.
– Уходишь, немчин?
– Зачиво больше ту?
– Бери талер, пришел – бери! И все же лжешь ты, черный дьявол!
– Нейт, лжа нейт, козак!
Немцы ушли.
Луна была такая яркая, что песок по узким улицам, белый днем, белым казался и ночью. Шли иностранцы мимо шинков, закрытых теперь: воняло водкой, чесноком и таранью. Синие тени, иногда мутно-зеленые, лежали от всех построек, от мохнатых крыш из камыша и соломы. Тени от деревьев казались резко и хитро вырезанными. Немцы прошли мимо часовни с образом Николы, прибитым под крестом, возглавляющим навес. Часовня, рубленная из толстого дуба, навесом походила на могильные голубцы[42],– похоже было, что часовню рубил тот же мастер. Здесь иностранцы пошли медленно. Доктор сказал:
– Пришлось много спешить нам! Грозились, устал я…
Кругом была тишина и безлюдье, только изредка выли собаки, и где-то далеко-далеко в камышах голодно отзывался шакал.
Другой немец спросил:
– Почему, доктор, ты удержал истину? Старик явно отравлен.
– Мой друг, мы в сердце самой Скифии, а не в Европе… Заработав от них плату за наше беспокойство, мы за сохранение жизни своей обязаны благодарить всевышнего Бога, что можем еще приносить пользу той стране, которая дала нам жизнь…
Немцы говорили на гольштинском наречии.
– Какая прекрасная женщина находится при этом варваре! Ты посмотрел на нее, доктор?
– О да, у ней могучее тело и детское лицо. Могу засвидетельствовать: взгляд козака – необыкновенный, голос проникает до сердца. Зная истину, я с трудом удержал ее, чтоб не сказать ему. О, тогда нам пришлось бы бежать отсюда, ибо не знаем мы, какие последствия были бы нашей правды… Я же хочу подождать баньянов, рассчитывающих на барыши от разбойников… Я намереваюсь с купцами поехать в Индию – страну браминов, целебных растений и великих чудес!
– Здесь глубокий песчаный грунт, доктор, я изорвал чулки, а носить неуклюжую обувь не привык.
– Вы правы! Я думал об этом.
Немцы, неторопливо разговаривая, вошли в большую хату на площади – постоянное пристанище иностранных купцов.
5
В обширной хате в глубине атаманского двора устроились московские гости – боярин и три дьяка.
Внутри хата убрана под светлицу: ковры на стенах, на полу тканые половики, большая печь с палаткой и трубой; хата не курная, как у многих, хотя в ней пахнет дымом и глубокий жараток набит пылающими углями. Окна затянуты тонко скобленным бычьим пузырем, свет в избе тусклый, но рамы окна можно сдвинуть на сторону – открыть на воздух. Опасаясь жадных до государевых тайн ушей, боярин Пафнутий Киврин не открывал окон, но, распахнув дверь в сени, выпускал жаркий и угарный воздух избы. Боярин встал рано, открыв новгородского дела синий сундук, окованный узорчатым серебром, достал дедовский медный, под золотом, складень с изображением многих праздников, примостил раскрытый складень в углу на столе и, приклеив перед ним восковую свечу, зажег ее лучиной.
Раньше чем стать на колени, перекреститься, проворчал:
– Образов мало, а чтут ся христианами… В церкви почасту войну решают…
И, держа пальцы в двуперстном сложении, крепко пригнетая их во время креста ко лбу и груди, стал молиться. Мутный свет ползал по его желтому голому черепу. Боярин не завешивал дверей в горенку, где жили дьяки, – он любил досматривать своих людишек. Во время молитвы лезла в голову неотвязная мысль, боярин размашистее молился, стучал лбом, кланяясь в землю, но не мог устоять, подумал: «Здесь надо с людишками иной потуг, ино сбегут в козаки, тайны наши разглаголют».
Против дверей, в другой половине, дьяки обедали. На широком столе с голубой скатертью стояло большое блюдо жареных чебаков с поливкой из красного перца, тут же насыпанная до краев сушеными шамайками – мелкими рыбами – плошка глазированная красной глины.
– Штоб их сатана взял, чубатых! Просил баранины, они же, трясца их бей, щусей нажарили, – зычным басом сказал молодой дьяк в нанковом кафтане, длинноволосый и русый.
– Запри гортань, тише!.. Боярин на молитве. Лжешь. Зрико – тут лещи да корюха сушена…
– Бузу всегда лопают, нам ублажают ее… Просил квасу – нет! Мне брюхо натянуло с бузы, как воеводский набат…[43]
– Ой, Ефим! Станешь в ответ боярину… Ой, детина, мотри…
Ели дьяки руками, поевши, покрестились, вытерли руки о полы кафтанов. Два – бородатых дьяка. Ефим – молодой, едва показывались усы.
Молились дьяки своим образам, – в хате хозяйских образов не было. В половине дьяков на стене висела только лубочная картина местного изготовления: неуклюжий казак в красной шапке, в синей куртке, в штанах красных, заправленных в сапоги не по ноге, колол длинной пикой сломившегося назад ляха в зеленом кафтане, в голубой шапке с красным пером. Внизу крупная надпись: «Бисов ляше у Богдана-батька пляше».
Кончив молиться, боярин степенно и строго вошел к дьякам, захватив по дороге свой посох. Дьяки низко поклонились, касаясь пальцами полу.
– Утомился, боярин? Просим отведать наше немудрое яство! Я объедки приберу, сменю скатерть и кликну, чтоб дали самолучших яств…
Молодой дьяк говорил суетливо, готовый бежать.
Боярин остановил:
– Не вместно мне с вами – зван к атаману, а вот дух пустишь беспричинно… Клоп за тобой, детина, ездит, как за ханским послом вошь в кибитке.
Старшие дьяки стояли, склонив головы, ждали, когда боярин будет говорить тихо, почти шепотом: тогда бойся. Но боярин ровно и громко продолжал:
– Взят ты мной, Ефим, юнцом малым, книжному урядству обучен и чернилы приправлять, а ныне дозволение я оказал тебе многое, даже листы государю составлять доверился, ты и не помыслишь, сколь великой чести уподоблен, – клопа ведешь за собой…
– Прости, боярин…
На возражения дьяка боярин стукнул посохом в пол и нахмурился, что-то хотел сказать, но в воздухе за окном послышалось многоголосое пение, прогремело:
– Ура-а, бра-а-ты!
Вздрогнула земля от залпа пушек.
Боярин побледнел:
– Что это? Ефим, беги проведай!
Бородатые дьяки бросились к окнам. Младший стоял спокойно.
– То, боярин, с моря шарпальники вошли, свои чубатые стрету бьют…
Боярин ожил:
– Вот за то и люблю тебя, Ефим, что знаешь все, что затевается у них… Ох, угарно, у меня голова что-то скомнет, на ветер ба ино ладно, да боюсь…
– Чего убоялся, боярин?
– Ведь мы послы от государя, мног народ очи откроет, а народ – вор, злонравный народ! Отаманов своих мало слушает, так зло бы кое над нами не учинили!
– Страх мал, боярин! Турской посол, персицкой и иные в их городишке почасту стоят, мы, как все, – обыкли они к послам, ей-бо!
– А, так? Я вот армяк накину, и пойдем. Армяк хоша скорлатной, да покроем всего к месту ближе…
– Дай подмогу тебе, боярин!
Молодой дьяк вывернулся впереди боярина в его половину. Пожилые с завистью глядели вслед; когда боярин занялся платьем, один сказал:
– Обежит нас Ефимко! Боярина водит, как выжлеца[44] на ремне…
Другой так же чуть слышно ответил:
– То правда, Семенушко, обежал уж…
6
Боярин Пафнутий с дьяками неторопливо вышел за плетень атаманского двора…
Со сгорка видно им реку, белую от солнечного света. На серебре струй московские гости увидали страшные им челны шарпальников: длинные, с длинными веслами, почерневшие от воды и порохового дыма, опутанные толстыми ребрами полос из прутьев камыша. В челнах люди – в бархате, золотой и серебряной парче, в коврах; в красных шапках – запорожцы, в бараньих – донцы.
– Сатанинское сборище…
Боярин, бодая песок посохом, двинулся вперед. Дьяки – за ним.
Толпа казаков выскакивала из челнов на пристань. На пристани другая толпа своих била в котлы-литавры, играла на трубах и дудках. Тут же с берега стреляли холостыми из длинных пушек на дубовых колесах. По серебристой воде ползли тучи дыма, пахнущие порохом. Крики сотен голосов:
– Бра-а-ты з моря-а!
На бревенчатую пристань казаки из челнов вели пленных: мужчин, связанных и оборванных, с чужими бронзовыми лицами, в крови и царапинах; полуголых женщин в пестрых штанах. Женщин казаки вели несвязанными – за косы.
– Покупай, браты, ясырь! Всяка хрестится, жена будет!
Лица вернувшихся с моря – в черной крови, запекшихся шрамах, руки – тоже. Пестрая толпа с пристани направилась к часовне на площадь.
– К Мыколы! Морскому святому молебен за живое вертание з моря…
– Хто пысьменный? Нехай тот и поп буде!
– А ну, хрестись!
– Гундосый, ты?
– Тарануха?! Казак, здоров? Дай пощупаю, – жив…
Люди, вырвавшись из зубов смерти, из холодной утробы моря, радостно, до ошаления, смеялись, кричали, пели. Не дослушав молебна у часовни, растекались по улицам, лезли в шинки, ели. Кричали:
– Гей, крамарки[45], подавай бузу, тарань, шамайку!..
Торговки с корзинами из тонкого камыша жались к шинкам и бойко продавали рыбу, хлеб, куски жареной баранины. В одном месте московские гости увидали будку, закрытую дубовыми бревнами с трех сторон, открытую с четвертой, закиданную камышовой крышей с дерном. В ней на ярком солнопеке на обрубке дерева сидел, весь коричневый и рваный, в лохмотьях красных штанов, в лаптях и синей выцветшей куртке-зипуне, запорожец. Уличный цирюльник ржавым кинжалом скоблил ядреную голову казака, поливая ее из широкого глиняного горшка мутной водой, мылил куском грязного мыла. Тут же точил свою полуаршинную бритву о точило, стоящее на земле, помачивал точило той же водой, из горшка и правил кинжал о голенище сапога.
Запорожец, когда цирюльник с треском, словно счищая с крупной рыбы чешую, начинал скоблить его голову, жмурясь от солнца, кричал:
– Эге, добре! Брий, хлопец, гладенько, не зрижь тильки оселедця. Гоздек[46] у запорожцев не живет, живет гоздек у донцов, – воны волосы рощат, запорозци усы мают, бород им не треба! То московитска краса… Запорозцу бороду не можно носить, то яицки козаки носят, воны тож московитски данныки.
Иногда соскакивал с головы ляпак кожи, поцарапанное во многих местах бритьем скуластое лицо цирюльника хмурилось, он начинал усердно мылить порезанное место, поливая водой и смывая с лица казака льющуюся кровь. Казак успокаивал цирюльника:
– Плюй, хлопец, и посыпь земли! То не кровь, яка то кровь? Запорожска шапка красна – пид ей крови не видно!
Боярин сказал:
– Дьяче, все надо досмотреть и дослышать… – Он отошел от ларя цирюльника, встал в другом месте.
«Засвежи его, сатану!» – сказал про себя молодой дьяк, глядя на работу брадобрея, но, вскинув глаза, увидал, что боярин и два дьяка впереди, пошел к ним.
Тут четверо казаков, накинув на себя вместо жупанов ковры персидские и турецкие, кричали о своих подвигах:
– Наспускали мы им, браты, нехристям, бревен, колотят тыи бревна о цепи, – бурун метет волны… мы ж в камышах ждем!
– Стой, Лаврей, не то!.. Дай я скажу: тьма, ветер голову с плеч рвет, а турчин знай дует по бревнам з пушек! Бревна тай лезут на цепи, кидает их, цепи брежчат, аж в аду, а турчин воет: «Алла! Алла! Бузы-джи!» Ого, бусурман, и тебе на берегу лед? Да так и отсиделись в камышах. А как они иззябли да палить утихли – мы скок в море. Бей мухаммедан!
С саблей, усатый, в синем нарядном кафтане, подошел атаманский писарь.
– И все вы, браты, тут проскочили мимо Азова?
– Не, козак! Иные переволоклись в Миюс с Донца, Миюсом – в море, да и к нам тож пристали.
Толпа прибывала, теснилась; слушали, расспрашивали вновь. Удальцы, чтоб наконец отвязаться, обратились к писарю:
– А ну, пысьменный, кажи ты, что знаешь…
– Чого ему знать? Он у Корнея, у круга сидит!
– Буду я вам, козаки-браты, честь, как запорожской атаман Серко судил с салтаном…
– Эге, добре!
– То послушаем! На бочку, ставай на бочку…
Прикатили бочку, доску поперек дна кинули, подняли писаря:
– Чти-и!
Человек в синем поправил шапку, саблю одернул, вытащил из-за пазухи пачку бумаг, послюнив палец, перелистал и крикнул, взглянув на головы и шапки:
– А ну, не бодайтесь!
Бумагу, которую читать, бережно и медленно развернул, прочел громко: «Кошевой атаман Серко крымскому хану Myраду».
– Эй, чего чтешь? Чти к салтану турскому!
– А ту, к турскому салтану, бумагу я, козаки-браты, в станичной избе заронил, не сыщу!
От многих рук, вскинутых вверх, по белому песку замотались голубые и синие тени.
– А нехай ее чертяка зъист!
– Чти коли крымскому.
– Ну, козаки, чту. «Братья наши запорожцы, с вождем своим воюючи на човнах по Евксипонту, кос-ну-ли-сь му-же-ствен-но и самых стен константинопольских и оные довольно окуривали дымом мушкетным при великом султанове. И всем мешканцам[47] цареградски-им сотворили страх и смя-те-ние и некоторые одле-глейшие[48] селения константинопольские, запаливши толь счастливо, з многими добычами до коша своего повергнули».
– То Нечай с Бурляем – запорожцы – хорошо привиталися с турчином!
– И мы нынь его не забуваем!
Боярин сказал:
– Примечайте, дьяче: шарпальникам государев запрет ништо, приказано им турчина не злить…
Толпа, потная, пьяная, лезла слушать, надеясь, что писарь будет читать бумагу к султану. Солнце жгло головы и плечи. В глубоком небе чуть заметно, как муха на голубом высоком потолке, стоял над толпой какой-то воздушный хищник.
– Куркуль реет!
– Где? Не вижу. Эге, высоко!
– Высоко, бисова шкода!..
Писарь слез с бочки, казаки с моря кричали:
– Ты, пысьменный, пошто Дону служишь?..
– Служи Запорожью!
– Запорожцы никому не продались! Низовики продались московскому царю.
– А бо-дай вона выздыхала, царьская Московия, и с царем и з родом его!
– «С турчином греха не заводить, ждать указу», ведь так, боярин, писано государем и великим князем? – спросил один дьяк.
Боярин, гневно тыча в песок посохом, водя по толпе глазами, сказал шепотом:
– Разбойники позорят поносным словом имя государево, – негоже нам быть тут!
Москвичи двинулись дальше.
7
На площади недалеко от часовни Николы стоит деревянная церковь Ивана Воина с дубовым, из бревен, гнилым навесом над входом. Под навесом над низкими створчатыми дверьми с железными кольцами – темный образ святого. Иван Воин изображен вполуоборот, в мутно-желтых латах, опоясан узким кушаком, на кушаке недлинный меч в темных ножнах, под латами красные штаны, сапоги, похожие на чулки, желтые. Левая рука опущена и согнута к сердцу, в правой он держит тонкий крест, и вид у него как будто к чему-то прислушивается. В углу на клочках облаков какие-то лики…
Казаки входят и выходят из церкви, поворачиваются и на дверь крестятся. Ставят свечи тем святым, которые, по их понятиям, лучше помогают в походах и кому на войне дано слово поставить в старой церкви «светилку». В церкви два попа, присланные Москвою; каждый из попов привез по образу, писанному московскими царскими иконниками. Казаки обходят привезенные образа, ворчат:
– Не нашего письма образы… Христы на воевод схожи – румяны и толсты.
Про попов шутят:
– Древние. Поп попа водит и по пути спрашивает: «Як тебе имя, Иване?» – и до сих пор попы не ведают, кого кличут «Иване», а кого «Петр».
Читать попы не видят – службу ведут на память, вместо «аллилуия» часто произносят «аминь»… Казаки редко венчаются в церкви, больше придерживаются старины: объявляют имя жениха и невесты на майдане, строят для того помост, жених берет свидетелей за себя и за невесту.
Боярин с дьяками проталкивались на площадь к церкви. Не доходя площади – ряд торговых ларей и шинков-сараев. Москвичи, подойдя к ларям, рассматривая товары, приостановились: перед одним ларем ходил взад-вперед бородатый перс в широком кафтане из верблюжьей, крашенной в кирпичный цвет шерсти, в коротких, до колен такого же цвета штанах, с голыми ногами в башмаках на босу ногу, кричал, как гусь:
– Зер – барф! Зер – барф![49]
Идя обратно, взывал тем же голосом:
– Золот – парш[50], золот – парш!
– Эй, соленой!
– Он не грек – баньян, мултанея.
– Не, пошто? У тех по носу мазано желтым и в белой чалме, а этот в синей, да все одно. Эй, почем парш, чесотку продаешь?
В глубине ларя сидел другой перс – видимо, хозяин, в халате из золотой с красными разводами парчи, в голубой, вышитой золотом чалме, – ел липкие сласти, таская их руками из мешка в рот; черная с блеском борода перса была густо облеплена крошками лакомств.
Когда с зазывающим покупателей персом разговаривали, он улыбался, махал руками, кричал громче первого:
– Хороши парча! Хороши, дай менгун[51], козак!
Боярин подошел к ларю, подкинул вывешенные светлые полотнища на руке, сказал:
– Добрая парча! Надо зайти купить… На Москву такой не везут…
Прошли, почти не взглянув на лари с синей одамашкой-камкой[52], коротко постояли у ларя с бархатами: бурскими, литовскими и веницейскими.
– Бархаты продают, разбойники, не в пример лучше московских: цвет рудо-желтой, золотным лоском отливает…
Дальше и в стороне – ларь с сараем. Сквозь редкие бревна сарая из щелей сверкали на свет жадные чьи-то глаза. Ларь вплотную подходил к сараю. В сарай из открытого ларя – дощатая дверь, завешенная наполовину персидским ковром; по сторонам ларя – ковры удивительно тонких узоров. Боярин развел руками и чуть не уронил свой посох с золоченым набалдашником:
– Диво! Вот так диво! Этаких ковров не зрел от роду моего, а живу на свете довольно…
В ларе два горбоносых, высоких: один в черной шапке с меховым верхом, другой в черной мохнатой; из-под кудрей овчины глядели острые глаза с голубоватыми зрачками; оба в вывернутых шерстью наружу бараньих шубах.
– Кизылбашцы[53], нехристи, – проговорил Ефим.
Боярин оборвал дьяка:
– Холоп! Спуста не суди: кизылбашцы – те, что парчой торг ведут, эти, думно мне, лязгины!..
Один из горбоносых, выпустив изо рта мундштук кальяна, стоявшего за ковром на столике, закричал:
– Камэнумэк, арнэлахчик! Мэ тхга март! Цахумэнк халичаннер Хоросаниц ев-Парскастанц Фараганиц!
Снова бойко и хищно схватил черной лапой с острыми ногтями чубук кальяна и с шипеньем, бульканьем начал тянуть табак.
– Сатана его поймет! Сосет кишку, едино что из жил кровь тянет… Ей-бо, глянь, боярин, со Страшного суда черт и лает по-адскому! – вскричал Ефим.
– Запри гортань! Постоим – поймем, – упрямо остановился боярин.
Другой горбоносый закричал по-русски:
– Господарь, желаете ли купить девочку или мальчика?.. Еще продаем ковры из Хоросана и Персии – Фарагана[54].
Первый горбоносый опять крикнул, коверкая русские слова.
– Сами дишови наши товар! – кричал он гортанно-зычно, словно радовался, что знал эти чужие слова. Тонкий, сухой, с желтым лицом. Бараний балахон на нем мотался, и когда распахивался, то на поясе с металлическими бляхами под балахоном блестел узорчатыми ножнами длинный кинжал.
Боярин подошел, потрогал один ковер.
– Хорош ковер – фараганский дело! – сказал тот, что кричал по-русски.
Стали торговаться. Дьяки молча выжидали; только Ефим увивался около – гладил ковры, прикладывался к ним лицом, нюхал. Боярин приторговал один ковер, черный человек бойко свернул его, получил деньги, заговорил, шлепая по ковру коричневой рукой:
– Господарь, купи девочка… терская, гибкая, ца! – Он щелкнул языком. – Будит плясать, бубен бить, играть птица – не девочка, ца! Летает – не пляшет…
Боярин молча махнул рукой одному из бородатых дьяков, передал ковер:
– Неси, Семен, ко мне!
Дьяк принял ковер.
– Дьяки, идем дале!
Дьяки поклонились и двинулись за боярином. Ефим подошел к боярину ближе, заговорил быстро:
– Глядел ли, боярин, на того, что по-нашему не лопочет?
– Что ты усмотрел?
– Видал я, боярин, у него под шубой экой чинжалище-аршин, – видно, что разбойник, черт! Продаст да догонит, зарежет и… снова продаст!
– Ну, уж ты! Сходно продают… На Москве таких ковров и за такие деньги во сне не увидишь…
– Им что, как у чубатых, – все грабленое… Видал ли, колько в сарае мальчишек и девок малых: все щели глазами, как воробьями, утыканы!
– Да, народ таки разбойник! – согласился боярин и прибавил: – А торгуют сходно…
Под ногами начали шнырять собаки, запахло мясом, начавшим тухнуть. Мухи тыкались в лицо на лету, – в этих рядах продавали съедобное.
Бурые вепри, оскалив страшные клыки, висели на солнопеке несниманные, они подвешены около ларей веревками к дубовым перекладинам. Мухи и черви копошились в глазах лесной убоины. Тут же стояли обрубленные ноги степных лошадей, огромные, с широко разросшимися неуклюжими копытами. Мясник, бородатый донец, кричал, размахивая над рогожей-фартуком кровавыми руками:
– Кому жеребчика степного? Холку, голову, весь озадок? Смачно жарить с перцем, с чесноком – объяденье!
– Ты, кунак, махан[55] ел?
– Ел, – бойко отвечает мясник, – и тебе, козак, не запрещу: степная жеребятина мягче теленка. Купи барана, вепря – тоже есть.
– А ну кажи барана! Пса не дай…
– Пса ловить не время, пес без рог… Баран вот!
– Сытой, нет? Aгa!
– Нехристи! Жрут, как татарва: коня – так коня, и гадов всяких с червью купят, тьфу! – Боярин плюнул, нахмурился; говоря, он понизил голос.
Дьяки, побаиваясь его гнева, отстали.
Старик, постукивая по камням, пыля песок посохом, шел, спешно убегая от вида и запахов рынка.
– Идет не ладно, а сказать – озлится!
Молодой дьяк ответил бородатому:
– Пущай…
– Озлится! К гневному не приступишь, мотри…
Боярин разошелся в шинки: дубовые сараи распахнуты, из дверей и с задов несет густой вонью – водки, соленой рыбы и навоза. Здесь едко пахнет гнилым, моченным в воде льном.
Старик чихнул, полой кафтана обтер бороду и закрыл низ лица. Отшатнулся, попятился, повернул к дьякам.
Заглядывая боярину в глаза, Ефим заговорил:
– Крепко у нас на Москве, боярин, эким по задам торгуют, чубатые еще крепче, мекаю я?
– Занес, сатана! К церкви идем, а куды разбрелись? Водчий пес! Где – так востер, тут вот глаз туп.
– Церковь у них древняя, боярин, розваляется скоро. Наши им нову кладут, да они, вишь, любят свое – так тут, подпирать чтоб, столбы к ней лепят.
– Кабы на Москве о церкви такое молвил – свинцу в глотку: не богохуль на веру… Я ужо тебе!..
Дьяк ждал удара, но боярин опустил посох. Дьяк, сняв шапку, заговорил жалостливо:
– Прости, боярин! Много от ихней бузы брюхом маюсь, ино в голове потуг и пустое на язык лезет.
– Ну и ладно! Тому верю… Только не от бузы брюхо дует – от яства: брашно у разбойников с перцем, с коренем, а пуще того – неведомо, кого спекли: чистое ли? Ты, дьяк, ужо с опаской подсмотри за ними…
– Чую, боярин. Дай буду путь править вот этим межутком – и у церкви.
Старик, боясь опередить дьяка, шел, боязливо косясь на шинки, где со столов висели чубатые головы и крепкие, цвета бронзы, руки. В шинках пили, табачный дым валил из дверей, как на пожаре, слышались голоса:
– Рони, браты, в мошну шинкаря менгун!
– Пей! На Волге тай на море горы золота-а!
– Московицки насады да бусы[56] дадут одежи тай хлеба-а!
– Гнездо шарпальников! – шипел боярин.
8
На площади собрались казаки и казачки, мужики в лаптях, в широких штанах и белых рубахах, – к церкви скоро не пройдешь.
Недалеко от церкви возведено возвышение, две старые казачки бойко постилают на возвышении синюю ткань и забрасывают лестницу плахтами ярких цветов.
Боярин тихо приказал:
– Проведай, Ефим, кому тут плаха?
Дьяк от шутки господина с веселым лицом полез в толпу: вернувшись, сообщил:
– Женятся, боярин! Шарпальники московских попов не любят и крутятся к лавке лицом за по гузну дубцом…
– То забавляешь ты! А как по ихнему уставу?
– Стоят, народу поклоны бьют, потом невесту бьют!
– Ты сказывай правду!
– А вот их ведут! Проберемся ближе, узрим, услышим, не спуста мы – уши да око государево…
– Держи язык, кто мы! Крамари мы… Не напрасно разбойник тако величал нас…
– Ближе еще, боярин, – вон молодые…
На возвышение с образом в руках, прикрытым полотенцем, в синем новом кафтане, без шапки вошел черноволосый Фрол Разин. Следом за ним два видока[57], держа за руки один – жениха, другой – невесту, вошли на помост, поклонились народу. Фрол с образом отошел вглубь, не кланяясь. Видоки каждый на свою сторону отошли, встали на передних углах возвышения.
Жених взял невесту за руку, еще оба поклонились народу.
На Степане Разине – белый атласный кафтан с перехватом, по перехвату – кушак голубой шелковый, на кушаке – короткий кривой нож в серебряных ножнах с ручкой из рыбьего зуба. На голове – красная шапка с узкой меховой оторочкой. Черные кудри выбивались из-под шапки.
Невеста – в коричневом платье, на голове – синяя прозрачная повязка: повязка спускалась сзади, ею были перевиты русые косы.
– Шарпаной на ем кафтан, боярин, московской, становой, виранной жемчугами, – зашептал Ефим.
– Пошто толкуешь спуста! Али я покроев кафтана не знаю?
Другой дьяк шепнул:
– Чуют нас, бойтесь…
– Еще дурак, – сказал старик, – ништо кому сказываем. – Он все же опасливо оглянулся и, не видя, кто бы ими занимался, прибавил: – Палача бы сюда! Помост налажен, и сидению нашему конец!
Ефим начал громко смеяться.
– Пасись, дьяк, – народ не свой!
Жених на помосте, выставив правую ногу в желтом сафьянном сапоге, взяв шапку в левую руку, стал креститься. Невеста, глядя на церковь, – тоже. Потом оба поклонились на все стороны. Жених голосом, далеко слышным, проговорил:
– Жена моя, атаманы молодцы, и вы, добрые козаки, и люди, все вот! Кто не ведает ее имя, тому сказываю: она – Олена Микитишна, дочь вдовицы козака Шишенка…
– А ведаешь ли, козак, что батько твой Тимоша ныне помер?
– Мертвого не оживишь, козак! Что есть – не поворотишь. Ведаю смерть и отца жалею, да гулебщику-козаку сидеть дома мало; отойдет свадьба, снесем упокойного, благо – он в своем дому, и на могиле над ним голубец справим – по чести.
– Женись, козак! Нету время охотнику дома сидеть, слезы ронить.
– Дид древний – во сто лет был!..
Жених повернулся к невесте:
– Олена Микитишна! Будь жена моя, – стану любить и, сколь можно, хранить тебя и дарить буду.
Разин поклонился невесте в пояс.
– А ты, Степан Тимофеевич, будь моим мужем любимым, и только до тебя я придалась душой – и телом тебе придамся…
Невеста поклонилась жениху в ноги. Потом встали рядом, глядя вперед на толпу.
Видок со стороны жениха одернул на ремне черкесскую саблю. Его широкая грудь под синим кафтаном подалась вперед, но он молчал, одергивая черные небольшие усы, поправил под запорожской шапкой густые, как у калмыка, черные волосы, заговорил негромко:
– Атаманы, ясаулы и весь народ! Я, Василий Лавреев, прозвищем Васька Ус, козак, ведомый вам, – в охотниках хожалый атаманом, – даю честное слово свое за жениха Степана Разина, в товарищах ратных ведомого, что буду держать его на правду, чтоб он не обижал жену свою Олену Микитишну, и до вас доводить, ежели нечестен с женой будет.
Видок, не кланяясь народу, отошел в глубь помоста.
Кто-то крикнул в толпе на площади:
– Ведомые видоки! Через год, а то ближе, другому невесту полой закрыть придется…
– Там увидим! – ответил еще голос.
Сухой и крепкий, среднего роста, с золотой серьгой-кольцом в правом ухе, поправляя рукой короткий нож на шелковом кушаке, заговорил невестин видок, и голос его зазвенел на всю площадь неприятным и резким звоном:
– Я Сергей Тарануха! От бельма в глазу званный Сережко Кривой в охотниках хожалый с малых лет, – мою саблю нюхали кизылбаши, турчин, татарва и кай-датские горцы. Ведаю невесту Олену Микитишну честной девкой, буду сказывать без лжи вам, атаманы, народ весь, и мужу ее Степану Тимофеевичу, что усмотрю: худые дела за ей не скрою!
Одернув полу красного, с перехватом, кафтана, видок отошел.
– Разойдутся – суди, кто худ, кто хорош!
– Ладу не будет, – не нам судить!
– А ну, цолуйтесь, молодые, да потчевайте народ водкой!
Жених с невестой отступили. На помост бойко вошла старая казачка в плахте, в белой рубахе. В морщинистых руках она держала рогатую кику, расшитую по розовому желтыми смазнями[58], с белым бисером. Старая поклонилась жениху, невесту поцеловала в губы и тут же сняла ловко и быстро с головы дочери повязку, скрутила в узел косы и, обнажив шею и уши молодой, прикрыла косы новым убором.
Старая, переменяя убор на голове дочери, говорила громко:
– Уши отомкнула тебе, чтоб мужа слушать! Волосы подбираю, чтоб не мотали, хозяйству не мешали. Люби мужа, Оленушка!
Поклонилась молодому в ноги:
– А ты, Степанушко, люби дочь мою… в строгости держи и не греши, коли что худое скажут…
– Буду любить, Анна Андреевна!
В красном бархатном московском кафтане со стоячим козырем, расшитым жемчугом и золотом, на помост медленно, степенно вошел сам войсковой атаман. Фрол передал атаману образ. Молодые поклонились в пояс Корнею Яковлеву и образ поцеловали.
Атаман сказал:
– Буду я вам, Степан и Олена, заместо отца вашего Тимофея Рази и нынче прошу к посаженому и хрестному отцу в дом свадьбу пировать!
Передав образ Фролу, атаман повернулся к народу и крикнул громко:
– Пир на пир – живым, а мертвым – память вечная! Вчера пировали, атаманы молодцы, дела делали; нынче прошу радость делить с моим хрестником, хрестницей и со мной, их батьком!






