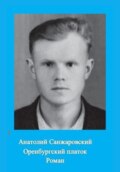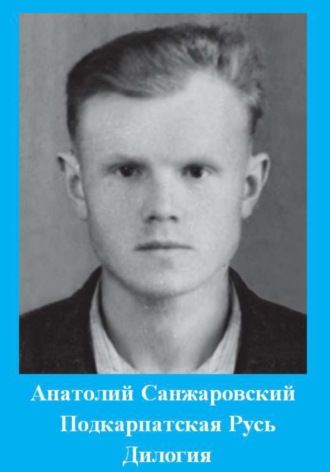
Анатолий Никифорович Санжаровский
Подкарпатская Русь
– Платить, платить-то за карточку чем? Камешками?
– А-а, – опало вздохнула София.
Вкоренилась тишина.
Сам собой поднялся разговор о твоём будущем.
– Неужели на то, чтобы мыть посуду, прежде надо кончить школу непременно с отличием? – как бы самоё себя тихо спросила ты и заплакала в голос: никогда, никогда не быть тебе в университете, где спала и видела себя. Дорога вылилась совсем иная. На ресторанную кухню.
За стеной надставил ухо хозяин.
В ясности расслышал твой плач, вкатился катком.
Был он лысый, как тыква, короткотелый, круглявый. Всемером не обхватить.
– Софи! Почему плачет Маргарет? – Хозяин немного говорил по-русски.
Вы долго молчали. Всё стеснялись. Потом таки и выложи, что ты хотела дальше учиться, да не можешь. Отцу, ломившему на шахте по две смены, нечем было платить за учебу.
– О! – воскликнул хозяин. – Нога ногу, а человек человека подпирает. Я помогу тебе добиться до высокого образования. Ты будешь учиться. Я одочерю тебя!
Ты не согласилась на удочерение.
– Хорошо. Тогда я нотариально делаю так, что все расходы на учёбу оплачиваю я. Твоя прекрасная Софи – она у меня на почёте! – спасла мне наследника и разве после этого я имею право не помочь тебе? Прости, пани, тут, – подолбил себя пальцем в грудь, – я вовсе не такой, как с лица.
Что правда, то правда. Какой уж родился, такой и есть. Сверху не подрисуешь.
Лицо, как гречаник порепанный, громоздкое – решетом не накроешь.
Обидел Господь лицом.
Так сердце вставил славянское, отзывчивое.
Ты любила велосипед, бег, плавание, теннис… Была большая умница. Круглая отличница. С одного прочтения запоминала наизусть любой стих. В совершенстве знала четыре языка. В год проходила по два университетских курса. Была весёлого духа.
В университете не могли не заметить твоей редкостной одарённости. Под конец учёбы пригласили со всеми почестями, раскланиваниями в достопочтенные правительственные хоромы штата.
Мог ли твой отец, сманутый сюда блудильниками-вербовщиками, хоть подумать, что его дочка высоконище так залетит?
Никогда…
Не верил старый, припадавший здоровьем шахтер тому, как всё поворотилось. Не верила и ты сама. Нереально всё было. Как в сказке.
Но и из своей сказки ты видела быль.
А быль была та, что по ту сторону океана тиранствовала война. Под войной, в оккупации, изводились мама, Мария, Иваночко.
– Там – смертная беда…
Нанедолго хватило тебе твоей сказки; пришла ты к значительному лицу.
– Почему до сих пор не открыт Второй фронт? – сдавленно выплеснула свою боль.
– Чем больше спешка, тем меньше скорость, – чуже, туманно ответило значительное лицо.
– То есть, тише едешь – дальше будешь?
– Наверняка.
– Но – куда не едешь, там вообще не будешь! Может, кому-то и без разницы, откроют Второй фронт, не откроют. Зато лично мне не всё равно. Там у меня полсемьи. Моё место сейчас там. И только там!
– Позвольте, – оживилось значительное лицо. – А кроме умения произносить зажигательные речи, что вы можете ещё? Не смущайтесь… Вопрос поставим так. В качестве кого вы хотели бы отправиться туда?
– Бомбардировщицы. Да чтоб не одна! Один кол плетня не удержит.

– Похвально! Огонь огнём тушится. Запомните время это, – значительное лицо значительно указало на старчески хрипевшие, сухо потрескивавшие стенные часы. – Пятнадцать двадцать. С этой минуты вы… Хваткий, широкий ум, природный организаторский дар, знание уймы языков… Полсемьи там… Да кому ж как не вам взяться за создание женского воздушного флота?! Видит Бог и вы тоже, за вами пойдут. Особенно те пойдут, чья родословная бежит оттуда… Вы согласны?
Давножданная детская мечта твоя наливалась явью, единственным смыслом, ради чего и стоило жить. Военная летчица не так уж и мало может помочь своим в далёком Добробратове. Да если не одна… Целый полк если!?
Замлевшая от радости, золотясь, ты обновлённо ответила:
– Могли бы и не спрашивать. Лишние вопросы ещё никого не украшали.
– Девушки! Идите к нам в авиацию! – звала ты с газет, с листовок, по радио. Каждый день ровно в пятнадцать двадцать начиналось твоё, лично тебе отведённое эфирное время. – Девушки, жёны! Вы можете ускорить победу над фашизмом. Вы можете добиться того, чтобы солдаты вернулись живыми. И, может быть, один из них окажется тем самым, за кого Вы молились, кого Вы ждали… Наконец-то открыт Второй фронт! В этот решающий час встаньте, женщины Америки, рядом со своими мужьями, рядом со своими любимыми. Война не может ждать…
Твой зов первыми услыхали русские и украинки, полячки и чешки, словачки и сербиянки.
Ты поднимала других, вместе с ними училась летать, училась бить распроклятого чёрного врага.
– Ма-а-мо-о… Иваночко… Скоро уже…
Открывался люк.
Бомбы, как гвозди, сыпались стоймя.
Бомбы казались тебе гвоздями, которые внизу, на земле, со стоном надёжно вколачивались в ясно наметившийся уже гроб войны.
С задания ты возвращалась выморенная, выжатая усталостью, иной раз – с блёсткими тропками слёз на лице.
В небе никто не видел твоих слёз, и ты не стеснялась дать им волю.
Девушка и на войне девушка.
И, конечно, не всегда со слезами на глазах. Слёзы – минутная слабость. Кто от неё спрячется?
Тебя знали всегда сильной, как и подобает командиру…
Я не знаю, где сейчас тот парень русин, я не знаю, что с ним.
У вас в эскадрилье он был один. Помнишь, самовольно выкружил он из боя и вернулся на базу, ругая вдруг забарахливший двигатель?
Ты проверила – никаких повреждений!
Можно было судить парня по всем строгостям войны.
Но ты не спешила с судом.
Мягко, как это могут ласковые девушки, вызнала, почему же это он, доброволец, смалодушничал, почему вышел из боя.
Ты поняла, что перед тобой не трус, а просто лётчик скороспелый. Он многое не знал, многое не умел, оттого и испугался первого боя.
Ты тут же села с ним в его самолёт и поднялась в бой, что ещё продолжался.
Наглядно, в бою, показала и как уходить от зенитного огня, и как уходить невредимым от прожекторов…
Но не могла научить его уйти от любви к тебе. Тем более, ты и не хотела, чтобы он ушёл. Если прежде, до этого совместного боевого вылета, вы просто играли в переглядушки, то теперь, провожая восторженными глазами сбитый тобой падающий чадящей головёшкой самолёт, он поцеловал тебя, поцеловал впервые там, в небе, со стыдливой осторожностью поцеловал то ли в благодарность за преподанный урок мужества, то ли то был поцелуй его души, его любви, то ли то было всё разом.
Ты не противилась. Напротив, потянулась навстречу своему первому поцелую. И… последнему.
И каким орёликом бился потом тот парень, твоя первая любовь, твоя последняя любовь…
Девушка одного поцелуя…
В другой раз горевший самолёт сел с зависшими бомбами.
Самолет мог взорваться в любую секунду, а экипаж не появлялся. Похоже, случилось что-то страшное.
Но к самолёту никто не смел идти. Ты побежала одна, вытащила раненого пилота за несколько мгновений до взрыва…
Тебя так и подмывало махнуть на все строгости войны и хоть на минутку да закатиться в Добробратово.
Это ж такая близь!
Но война была война, ни на ноготь не отходила ты от курса.
И только однажды…
В бою загорелся твой «Бостон». Соколиком ты называла его. И уже горящим соколиком старанила-таки подбивший тебя самолет.
«Всё… Теперь можно уходить», – и выкружила против ветра.
Думала, ветер собьёт пламя? Поможет тебе?
Ведь ветер шёл с добробратовской стороны…
Ветер в лицо шёл с родной стороны…
С маминой стороны…
А пламя не унималось.
Чёрный след клубился, гнался за тобой.
А земля отцов наплывала всё ближе. Всё шире…
Русиния…

Торопилась ты к ней до самого последнего мига, покуда взрыв в воздухе не обрубил чёрную верёвку.
Славная девочка, сгоревшая в родном военном небе, назад, за океан, вернули тебя героиней.
Наградили особой именной медалью:
Светлой памяти Маргариты Бабинец, верной дочери США.
Не обошёл тебя вниманием президент Франклин Рузвельт:
В память о рядовой Маргарите Бабинец, армейский серийный номер А – 312631, которая погибла во время несения службы в Американской зоне 27 июля 1944 года.
Она стоит в нерушимом ряду несгибаемых патриотов, которые дерзновенно погибли ради того, чтобы Свобода жила, крепла и приумножала свои щедроты.

Свобода жива и потому жива Она, поскольку продолжают жить дела и достижения большинства людей.

PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Высокие чины приезжали к твоему отцу. Расшибленный твоей гибелью, не оставившей ничего от тебя, он лежал лежмя.
Благодарили чины за тебя.
Уверяли, что в знак особых твоих заслуг ты будешь похоронена на военном кладбище. Говорили, что будет на твоей могиле памятник. И будут на нём такие слова:

«Светлой памяти Маргариты Бабинец, верной дочери США».
Говорят, отец попросил добавить в текст одно лишь слово и вышло так:
«Светлой памяти Маргариты Бабинец, верной дочери Русинии и США».
Но…
Глухое пенсильванское местечко Юнион-Сити.
Обычное кладбище.
Прощание…
Перед гладко обтянутым тканью с просторными белыми и красными полосами гробом, на тёмно-льдистой, зеркальной подставке, тускло холодили глаза перевитые лентами цветы.
Астры, гладиолусы, колокольчики, розы, много роз…
И посреди цветов, будто вырастая из них, поднималась ты на увеличенной карточке.
Справа от карточки, из букета, стояли внаклонку два пониклых звёздно-полосатых флажка.
На карточке ты стоишь в самолёте: тот самый момент, когда улетала на войну. Вскинута рука… То ли здороваешься с кем, то ли прощаешься…
На твоей мемориальной плите выбиты твои даты:
26 февраля 1923 – 27 июля 1944
И в трауре склонился над тобой американский флаг.
Рядом с твоей могилой холмится могила отца.
Отец на тринадцать лет пережил тебя, младшую из дочерей, навсегда оставшуюся двадцатиоднолетней.
Каждый день приходил отец к тебе…
Молча беседовал с тобой…
Не хотел покидать тебя одну в чужой земле, не смог от тебя уйти. По временам почему-то корил себя:
– Мало положил в меня Бог воли.
И завещал похоронить его рядом с тобой.
Полсемьи в Америке, полсемьи в Доробратове…
А знаешь, хвалёные Штаты не дали маме за тебя пенсию. И знаешь почему?
В тамошних твоих бумагах вроде не нашли подтверждения, что ты дочь своей матери. До войны мама семнадцать лет жила с тобой в Штатах. Никто не спорит. Да вот где подтверждение, что тебя родила именно твоя мама? Куда оно, негодное, запропастилось? То ли того подтверждения и не было в бумагах, что менее всего вероятно, или не угодное кому то подтверждение пропало из бумаг, что, напротив, ближе к вероятию уже хотя бы потому, что на свет человек покуда может выйти лишь из лона матери, насколько доподлинно известно это не только гордой науке. Иного, обходного пути пока не открыто. Все прочие-иные варианты, когда детей наискивают в капусте или покупают в уценёнках, суд под внимание не берёт.
А может…
Да что ж гадать в пустой след?
В Америке тебя помнят.
Про тебя даже сделали кино. Только с тем кино получилось грустное «кино».
На первые глаза так смотришь – всё вроде правда.
Ты любила велосипед, бег, плавание, теннис – правда.
Была весёлого духа – правда.
Была круглая отличница – правда.
С одного прочтения наизусть запоминала любой стих – правда.
В совершенстве знала четыре языка – правда.
В год проходила по два университетских курса – правда.
A как ты попала в питтсбургский университет, как добилась высшего образования?
Про это молчок. И не только про это.
Тогда черёд говорить тебе.
Славная девочка, скажи, ну а правда, что ты – индианка? Не русинка, не русская – именно вот индианка?
Это киношники повернули тебя, писаную смуглянку русинку, в индианку.
Раскатали всю про тебя правдушку с пустячным добавленьицем – стала ты индианкой, поскольку им срочно приспичило сляпать фильмишко, который должен был сладкопевно пропеть осанну, ах как гармонично развиты индейцы, корневые американцы.
Мол, напрасно мир гудит, что индейцы в резервациях нужду трясут, ходят с рукой. А на поверочку, они эка какие вундеркинды, эка какие интеллектуалы, прохлаждаются по университетам, катаются, как вареники в сметане, – вот-де как широко живут-цветут индейцы у нас! Любуйтесь ими да не верьте миру. Мир-де врёт!
Сёстрам Анне и Софии – они повыскочили в Штатах замуж, выстарились уже, обсыпанные внуками, – посулили по двадцать пять тысяч долларов. Каждой свашке по милой колбаске. Только подтвердите, что ты, славная девочка, что они сами, что ваши родители – индейского корня.
Сестры не подтвердили.
Кина не вышло: держалась кобыла за оглобли, да упала.
Славная девочка…
За долгими годами не потерялся, не пропал твой подвиг в небе, взявший всю тебя без остатка.
Не затерялась широкая жизнь твоя земная.
Вас с отцом не забыли Ваши.
В позату осень приезжала к Вам мама, Анна Петровна.
Проведала…
Посадила на Ваших кургашках по калине…
32
Как идёшь занимать, знай, что надо и отдавать.
Совсем разбили старого Голованя истории родного отца и Маргариты.
Будто тяжёлыми камнями привалило его; еле держась на ногах, в печали стоял перед своей могилой.
Усталые слезы катились по щекам.
Была уже плотная ночь. Слёз его не видели сыновья.
Где-то вдали мерцали тусклые точечные огоньки, мерцали зовуще.
Из этой вечной ночи он всю жизнь уходил, так и не ушёл. Уходил к отцу в Штаты, уходил забрать его в Белки, уходил в мыслях ещё прошлой весной, а отца, а отца-то, как узнал от сынов, давным-давно нет, пал в бою где-то уже у самого родного дома…
И Маргарита упокоилась там…
С высоты их смертей низким, подлецким увиделось ему вдруг его невозвращенье тогда, в тридцать первом.
– Хлопцы!.. – покинуто, с донной тоской всхлипнул старик, припадая к Петрову плечу. – Сынки!.. Какой же и подлюга Ваш нянько! Живьяком запхнуть, – качнулся верхом к приподнятой плите над своей могилой, – мало… Взял билет – ан письмо из Белок: твоя Аннуся перед всем селом крутит подолом, забыла и думать про тебя, не нужон ты ей и на понюх. Зараз к ней прибрехался сам пан прынц! Невжель сменяет она прынца Рудольфио на тебя?.. Вот такое писание прибежало тогда ко мне от Клавди…
Промолвил это старик, шатнулся как бы от себя, от своего голоса, от того, что произнёс – от этого проклятого имени Клавдя.
«И как можно было верить ей?.. Но… Это ты сейчас такой одномысленный, одного решения. А тогда… Как не поверить было?»
Перед стариком – память заходила уже за разум – в зыбке выступили блёклые картины, как уходил в Канаду.
Завтра ехать, а сегодня в вечер выследила его Клавдя на овчарне.
«Хучь оно и поють, што в чужой кошаре не разведёшь овец, да… Иваночко, любчик ты мой… Хучь и гуляли мы с тобой, а взял ты таки Анну… Хучь и выскокла посля я за свого Торбу, а кохаю всё тебе одного. Завтра ты вместях с ним уедешь… Було время, не любились мы. Так сёдни, в твой последний вечир, ты – мой! Хучь под кусточком! Да мой! Ты уедешь… На кого мне смотреть? Кем жити? Кого любити? Дай мне дитё… В дите я буду век любити тебя…»
Была она в тот месячный вечер такая чистая, такая вся пронзительная… Такой он её и запомнил. Не мог он ей не поверить…
Время научило его сомневаться.
«А ежли накарябала по ревности?»
При встрече с Лизой Торбихиной старик воспалённо всматривался в неё, силясь найти в ней, в кумовой дочке, свои черты и лишь одни глаза признал схожими со своими.
«Да и тут, может, совпадение… Можь, ничего моего и не пошло в Лизку… Не оставил по себе никакой памяти, Ревнушка Клавдя и настрочи. А я и прими за чистую доброту ко мне. А тут, выходит, не доброта – ненависть водила рукой… Не мне, так и не Анне!»
– Клавуне дать веру? – после оторопелого молчания громыхнул Петро, вернув старика из его далека. – Этой брехучке?
– Я, сынки, как на духу… Таскал меня враг с этой Клавдей…
– Конечно, со злости она и накарябай непотребствие такое, – выразил предположение Иван.
– Со злости… не со злости… Только порвал я тогда билет домой… Поверил… Да приведи Господь в Белки, я от живой Клавдёхи не отойду!.. Вот этими… – дрожаще потянулся дряблыми, без силы руками, вышепнул: – За… ду… шу…
– Если ехать только за этим, так поздно, – с тощим смешком хахакнул Иван. – Рак языка всё сделал уже за Вас ещё на Зимнего Николу.
– Виноват… виноват… Кругом виноват!.. Перед Вами… Перед мамкой… И што теперь? Што можно теперь? Што?!
Старика начинал колотить озноб. Будто остатком сознания вспомнив что своё, спасительное, выкрикнул стонуще:
– А можно!.. Мо-ожно!.. Нужно!..
Запальчиво посыпал точно в бреду сухими словами:
– Какой трудный ни будь день, а к ночи, сыны, надобно всем собираться вместе… Вместе!.. До кучи!..
И стремительно пожёг прочь.
Через мгновение он уже бежал, от этой кладбищенской ночи бежал, бежал туда, где далеко впереди маячили, едва просекались сквозь плотную тьму квёлые, еле заметные, еле угадываемые точки огней.
– Вместе!.. Вместе!..
Силу его хрипа забирало расстояние; старик удалялся.
– Иван, – тихо бросил Петро, – вот тебе горячее спецзадание Родины. Давай вбéжки, – качнул головой в сторону ещё кругло белевшей отцовой шляпы.
– А с руки? А ну он до ветру!
– Он до ветру, так и ты до урагану! Станешь где в отдальке. Побрызгаешь своим сахарком… В таком состоянии… Мало ль чего под горячку может… Знай дуй не стой!
33
Не спеши поперёд батька в пекло,
а то вскочишь и не найдёшь, где и сесть.
Поневоле заяц бежит, раз лететь не на чем.
Неизвестно, сколько – и минуту, и пять, может, и все десять – Иван, прижимая к груди сиротливо позвякивавшую вэдээнховскую медальку, мелкой пантерой крался в ночи за отцом, плакавшим по-детски тяжело, навзрыд.
Хладнокровно убедившись, что никаким ветром и не пахнет, подживился, воспрянул Иван.
Ступая с торжественной осторожностью, не пуская из вида отца, тянулся тенью, выжидал, давая дальше отойти отцу от Петра, от Марии.
На краю кладбища, откуда уже вовсе не было видать ни освещённой изнутри машины, ни самого Петра, Иван, подобравшись, – сейчас или никогда! – неслышными барсучьими прыжками настиг отца и, задержав дыхание, полуобнял за плечи, мягко качнул к себе.
Старик обомлело ахнул, подрубленно повалился на спину.
Поддержал Иван, не дал упасть.
Попенял сквозь мелкие вязкие смешки:
– Нянько, нянько… Что ж это так Вы своих пугаетесь?
Как-то разом, устыженно перестав плакать, отец сухо, без охоты заоправдывался:
– А разбери, Иваша, в этой могильной теми… Где свои, где там чужие…
– А разве ещё не разобрались? – с вкрадчивым восторгом накатывался Иван. – Свои – здесь, чужие, – потыкал себе за плечо, – пристыли там!
С горьким отчуждением хмыкнул старик. Откликнулся:
– Ты у меня нигде не просидишь… Схватчивый… Всем суд скорый дал… Родного брата в чужаки списал… А я кто у тебя? Свой? Чужой?
– Ня-янько! – укоризненно развёл руками Иван. – Про что Вы? Петро, этот поджанишник, как себе знай. Но мы-то с Вами всё понимаем. Свои!
Внезапно старик остановился, будто прикипел; стал и Иван.
– Это ты, – медленно, в холодном раздумье ткнул в Ивана, – да я, – поднёс щепотку себе к груди, – свои?
– А невжель чужие? Разь во мне не Ваша кружит кровушка? Не Ваши гены? Не Вы назвали меня Иваном в свою честь? Да мы с Вами и лицом и статью как два глазочка!
Старик судорожно вздохнул:
– Кабы сверху и кончалась наша похожесть… Кабы только сверху были под одну масть…
– Совсем не пон-нимаю, – без пережима играл Иван голосом. – Нянько не рад, что его родной сын с ним на одну покройку… Другие, между прочим, этим гордятся. А Вам, вишь, проть нрава. Не в честь попал, что я – вылитый Вы!
– Одного поля ягодка… До этого я дошёл в первый же день, как только Вы нагрянули… Побачил я в тебе, сыну, свою плохую копию, навовсе плохую… поганую… Ты можешь всё, что мог и что могу я, а это мне страшно, сыну, стра-ашно… Я не люблю себя, не люблю в тебе себя, а потому…
– … а потому в первый же вечер принародно объявляете, что завещание оставляете Петру?
– Да! – взрывчато подтвердил старик.
– Ло-овко Вы намахнули сети на Петра… На этого… Прикинули: если Петро не дубарь, дотумкает, что, огребя наследство, ему прямая корысть будет прикопаться здесь, потому как не останься, он получить получит через инюрколлегию, а это невредно б знать, что от наследства, пропущенного через инюрколлежское сито, перепадёт ему один пшик иль в лучшем случае нарядная дырушка от бублика… Или дуля с маком… Мда-a… Хочешь крутыми капиталами ворочать, – загадочно рассуждал Иван, – оставайся, голова, загребай в натуре всё! Но, – он скользко, с нажимом усмехнулся, – этот пень в два обхвата не оценил Вашего гениального ума, не оценил Вашего шедеврального хода. Пристегнулся к этой Манечке и ни черта ему не надо. Ни черта! Может, сейчас он с ней на Вашей плите разговляется. А Вы к нему с наследством… Будто поприличней нету преемника…
– Какой же ты поганец! – взвизгнул старик и уже в следующий миг со всей мочи хряпнул сына по лицу в ладонь широким ковбойским ремнём.
Удар вышел смачный, звучный.
– Да Вы что, ох-херели?! – заорал Иван, метнувшись тенью в сторону.
Переломившись в поясе, угнувшись, ударился Ванюк в бега.
Придерживая одной рукой штаны, другой старик сыпал убегавшему жидковатыми скачками сыну ремня.
– Да я Вам что, малец? – задушенно мычал Иван. – Да у меня внуков больше, чем у Вас волосёнок на понималке![69]
Старику удары казались мяклыми, ватными; разозлившись на самого себя, что не может срезать с ног сына, бросил придерживать штаны, из обеих рук так хлобыстнул Ивана по ребрам, что в том что-то не то сухо хрустнуло, не то охнуло, и Иван, вытянувшись, со всего роста съехал на землю.
Однако сам старик, запутавшись в штанах, как муха в паутине, ковырнулся в одно время с сыном; долбя в землю увесистой, большевесой пряжкой с изображением жеребца, захлёбисто грозился:
– Прибью, поганец!.. Не посмотрю на твоих внуков! Не посмотрю, что на голове осталось у тебя две волосёшки в семь рядов!
– Оно и у Вас не мохнатее…
Они лежали друг от друга метрах в трёх. Разбитые, не способные подняться. Устало переругивались.
– Надо было бить, когда укладывался поперёк лавки! – принципиально требовал своего Иван.
– А я отложил на за́раз… За мнойкой не закаржавеет. – Старик пробно взмахнул ремнём. – Вот отпыхкаюсь… Вот подымусь… Я ещё примну тебе, поджигалец, зелёный мох на заду… Ой и примну ж!
– Что ж Вы такой, извиняюсь, петух? А мамко говорили, что Вы у нас смирней травы…
– Правду казала… – Голос у старика наливался гневом. – А что ж ты у меня такой падучий до… Я так и знал, я так и чуял, станешь ты добиваться одного, ох, одного-о… Ох, Господи, паскудство и деньжура – всегда одним гуртом живут. Всегда! Кто же их разлучит? И когда?
– Увы, нянько, – вежливо отозвался Иван, – в наш с Вами век это не произойдёт. А потому чего скакать высоко? Давайте делать то, что надо делать.
На слове надо Иван сделал ударение.
– А что надо? – отрешённо буркнул старик.
– Для начала хотя бы уважать обычаи. Например, по обычаю, отец должен оставлять завещание старшему сыну. А он берёт и оставляет младшему. Может, возрасты сынов отец спутал?
– Не спутал, ой да не спутал… И обычай распрекрасно помнит… Тольке где, в каком человеческом законе записано, чтоб возради наследства сын бросал свою землю?
Внезапно старик твёрдо встал на ноги, карающе поднял ремень.
– Это кто же я, по-Вашему? – Охнув и держась за бок, прытко вскочил и Иван, не убирая остановившихся глаз с ремня и готовый во всякую секунду кинуться прочь, шелохнись только ремень. – Кто?
– Перемётная сума… Вероломец…
Иван отшатнулся, защитительно воздел руки:
– Я? Извиняюсь. Тогда Ваш дед, Ваш батько, Вы сами – кто? Да Вам ли резоны выставлять?
– Ядрён марш! – захрипел старик, звонко щёлкнув себя ремнём по неловко подставленной у живота ладони, поскольку мизинцем, вдетым в петельку брюк, придерживал их. – А невжель тебе, ползун, учить батьку?
Иван осмотрительно отшагнул.
Нежданным прыжком подобрался старик к зазевавшемуся Ивану, со всего маху ляснул ремнём по плечу.
Прянул ужаленный злой болью Иван в ночь, оглянулся лишь шагов через двадцать.
Старик шёл медленно, без аппетита. Не останавливаясь, уходя боком, зажаловался Иван нудким, восковым голосом:
– Что ж так биться? Живьём же в могилу уроете…
– А мне, сыну, – глухо, понуро подавал старик слова, – краще бачить тебя в могиле, чем живого такого… Непотребное, ох, непотребное, сыну, вертишь языком, как вода мельничным колесом… Мельница мелет – мука будет, язык мелет – беда будет… Ну надо такое выворотить – батько-изменщик?.. Да, мы уходили со своей земли… Не с жиру уходили… Бились с горькой нуждонькой… Беда пихала нищую голь за море, к сытому куску… Деду с батьком доля обратной не дала дороги… У меня забрала её проклятущая Клавдюха… Устал… не годен говорить… нервы едят… слезы давят… Кусок хлеба был нашим поводырём, один он выволок нас из Белок… Что же тебя, сыну, гонит? – с укоризной помотал старик головой, поверх брючных петель застёгивая на ходу пояс.
Завидев это, обмяк Иван.
С опущенной головой, повинно поскрёбся назад, к отцу навстречу.
– У тебя что, – ещё глуше, доверчивей, со слезами в голосе продолжал старик, в полной растерянности вглядываясь в Иваново лицо, родное и получужое, – у тебя что, негде жить? Так не соломенка, не шевченковская хатка – дворец у самого! Нечего кусать? По два кабаняки на год колешь. Свои коровы, прорва курей-утей… Сам жа давно похвалялси, за стол не садишься без мяса! У тебя не на чем в гости скатать? А «Жигули» на что? Заездили тебя на работе? Так это вот золото, – царапнул ногтем медальку у Ивана на груди, медаль жалобно тенькнула, – за что тебе? А на что ты в отпуск исколесил все юга? Эх, хлопче, хлопче… А четыре дочки? А внуки? Разве тебе там, дома, нет заради кого жити?! Я всё это, сыну, взвесил ещё когда получил от Вас первое письмо. Покуда ждал, как я хотел, чтоба Вы оба остались здесь. А прилетели мои соколятки – край возробел. Не-е, думаю, такого чуда не может быти… Доволе с меня, пристынь хоть один… Но ежли останутся оба-два – я готов! Готов-то готов… Да разве это не разбоище – отнять у Русинии два таких сокола!? И выреши я тайком про себя, что попробую отщипнуть у неё самую малость. Дай, думаю, возьму для своей последней старости, возьму-ка из двух зол для Русинии большее… Пускай поделится со мной… Прибился я к мысли взять Петра. Он там меньше нужный. Не задалась жинка, нема ребятёжи – у тебя четверо их! Может, думку грею, тут подберёт свою судьбу с Марией?..
– Как же! – ядовито подвернул Иван. – Ух и ищет в поту, стахановец весь старается! – ткнул назад. – Поди, на Вашей плите! Конечно, извиняюсь, глубоко извиняюсь за прямоту…
– Ох, хлопче, твоя прямота поганей воровства…
– За жизнь, за всю жизнь я ни у кого ничего не спионерил… Я просто, открыто… Долгохонько таки, нянько, топчете Вы земельку… А не то что в чужих людях – в своих сынах заблудились. Не к тому, ой не к тому подъезжали Вы насчёт остаться при наследстве… Давайте напрямки. Не очень я поважаю людей, что хо-одят, хо-одят вокруг гвоздя… А надо гахнуть по шляпке и дело в шляпе. Быстро и точно по адресу.
– Ну-ну, скажи… Гахни без митинга.
– Зачем же Вы ферму?.. Раздорогуше Петрику почитай всё пристёгиваете?
Старик ждал этого вопроса, ждал весь месяц.
Знал, видел, что Петро не останется, почувствовал это старик в первый же день, как приехали сыновья, и только потому объявил написать завещание именно на Петра.
– Чего Вам унижаться перед ним, навязывать своё же добро? Не хочет, ну и не хочет. И не надо! А Вы посмотрить кругом внимательней. Может, сыщется душа, что с вечным благодарением приняла бы Ваше наследство?
– Не бельмастый… Вижу, вижу эту… А отписувать ей не стану. Чересчуру она этого хочет!
– А на что ж подсовывать тому, кому это не надо?
– Надо. Это надо мне. Это надо тебе.
– Предложение наоборот?
– Как угодно называй…
– Оставляя обоих, Вы ловчили, чтоб не остался ни один? Зачем же предлагать не предлагая?
– Чтобушко отвадить самого себя от мысли, что кто-то из Вас останется. Довольно, что я загиб здесь… Вы же, вы же нужны дома. Ваш дом там! Ваш дом – дома. А не в гостях.