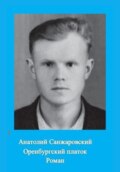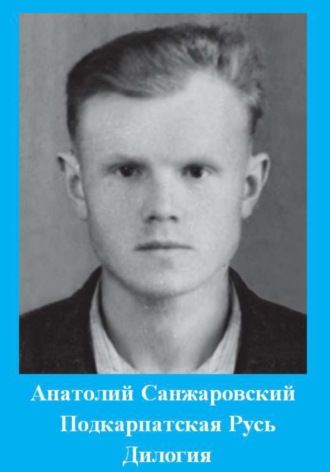
Анатолий Никифорович Санжаровский
Подкарпатская Русь
20
Не всякие следы ветер песком заносит.
Мила та сторона, где пупок резан.
В томительном ожидании звонка тягуче толклись на одном месте минутные стрелки стенных часов. Всем казалось, часы стоят, всю вечность стоят, и только равнодушный стук часов удерживал всех на своих местах.
Всё притихло.
Всё виновато присмирело перед далёкими Белками.
Всё ждало, ждало в нарастающем напряжении. В собранном, в цепком молчании уставилось всё на глянцевито черневший с тумбочки, покрытой расшитой накидкой, телефон.
«Боже правый, – судорожно думал старик Головань, – что ж за диковинка эта красная коробочка с кнопками? Без языка говорит с кем хочешь, слышит без ушей… Вот зазеленчит – слухай, Иване, сами Белки! Молодчага Иванко, намечтал позвонить. Просто так всё. А сам я до того во всю жизнёнку не доехал… А!.. Какую силищу дал человек телефону! Тут спроси – с того боку грешного шара быстрей молнии несут ответ. Диковинно… По горам, по болотам, по океанскому дну ходят слова, встречаются, расходятся… Как они расходятся там, на дне?»
Зазвонил телефон.
Пронзительно потребовал к себе внимания.
Будто подброшенный вскочил Иван. Схватил трубку.
Со станции сказали, что испытания его сеялки начались. Первые результаты обнадёживающие.
– О! – вскинул Иван палец. – Обнадёживающие!
Старики уважительно закивали головами.
Иван гордовато положил трубку.
И едва коснулась она рычажков, полоснул звонок.
Иван снова взял трубку.
Разом, точно пыль под веником, поднялись старики, застывше, уважительно сгрудились вокруг Ивана. Негоже сидеть да ещё врозваль, когда сами Белки говорят!
– Алё! Алё! – кричал в трубку Иван. – Алё!.. Иршава? Иршава! Иршава!!..
– Добры дзень, дорогый пан. Вас слухае Варшава, – сквозь шумы, трески продрался далекий медоточивый голос.
– О чёрт-мать! Что они! – Иван замолотил по кнопке. – Эй! Кто да ни будь! Станция!.. – И, услыхав заспанный сухой голосок, взмолился: – Дивчинка! Да что ж вы мне заместо Иршавы суёте Варшаву?!
– Чюто́чку-минюто́чку, – старательно ломая наши слова, попросила девушка с междугородки. – Сэчас исправим Варшаву на Иршаву…
Чужие придавленные слова, взвои, стоны, щелчки тесно толклись в трубке. Не было никакой надежды пробиться к дому сквозь эти тяжёлые помехи.
Иван обречённо поднёс трубку к старикам.
– Послушайте, что деется в мире… И грозятся, и лаются, и плачут, и мирятся… Чокнутый мир!
Старики, в мёртвом молчании кивавшие головами, дрогнули в испуге: вовсе неожиданно вывернулся из откатывавшейся, затухавшей трескотни Маричкин голос. Уверенный, ясный.
– Алло.
– Маричка! – крикнул Иван. – Дочушка! Здорово!
Молотил он торопливо, боялся, что чужие шумы снова накатятся, толсто накроют, забьют её голос.
– Привет тебе, дочушка, из потустороннего мира! – ляпнул он не думая и покосился на стариков.
В окаменелых лицах растеклась обида, и увёртистый Иван, больше адресуясь к старикам, нежели к Маричке, пустился в пояснения:
– Это ж натурально так! А ну глянь на глобусе, у тебя за спиной на телевизоре стоит. Глянь, где будет Калгари от наших Белок? Ей-же-ей, по ту сторону от воды. Так что не ошибаюсь я… Как ты там? Не разругалась ещё со своим Васильком?
– А чего нам ругаться? У нас с ним всё очень даже прехорошо!
У Ивана всё так и оборвалось.
– Невжель, – обмякло спал голосом, – невжель настолько хорошо, что может статься плохо?! Дочушка, – заговорил просительно, – ты у меня умница. Голова у тебя на плечах не только для платка. Поосторожней ты с этим соколиком. Поосторожней!
Маричка бросила с вызовом:
– Осторожничай не осторожничай – всё. С лаптями проехали! При Вас же отнесли заявку.
«Отнесли, ну и отнесли. А ты подберегись, – думал Иван, злобясь, что вслух не всё пальнёшь. – Я верю только убитому медведю. Уберегись до Петровок. До дня свадьбы…»
И в трубку:
– Дочуша! Всё твоё не уйдёт от тебя… Будь умничка! Побере…
– Нянько, какой же Вы вредина! Вы б говорили да оглядывались… Не устали нести шелуху? Даже из-за океана дохлёстываете своими цэушками![33] Да если не прекратите – я брошу трубку!
– Сдаюсь, сдаюсь, – примирительно хохотнул Иван, покашливая в кулак и клейко косясь на цепко ловивших каждое оттуда слово стариков. – Сдаюсь…
– Это Вам больше идёт, – повеселела Маричка. – А теперь порадуйтесь… Надийка у нас ударница. Хлопчика вчера родила. Пять триста! А рост – шестьдесят! Поёт гвардеец!
– Божечко мой! У меня внук! – крутнувшись, вскинул к старикам Иван руки, так что телефон сорвался с тумбочки, хрястнулся об пол. Иван быстро его подхватил и, размахивая руками – в одной была трубка, в другой сам телефон, – блажил, прыгал, как кот на раскаленной крыше: – У меня хлопчик!.. У меня ж хлопчик!.. Пять триста! И шестьдесят!.. У меня хлопчик! Пять триста! И шестьдесят!..
Казалось, его заело на этих словах и он уже с пузырьками пены в уголках тонких губ всё вопил, вопил, ничегошеньки не видя и не слыша.
Наконец пришла минута, Иван вернулся в себя и поражённо вылупился на телефон в руках, трудно соображая, а чего это у него телефон.
Однако через короткие мгновения догадался, что говорил с домом и что время ещё не вышло, догадался по дочкиному голосу, звавшему из трубки:
– Нянько! Нянько! Ну куда же Вы стёрлись?
– А никуда я, донечка, не пропадал, – искательно, как-то виновато буркнул Иван: – Тут я, туте…
Говорить стало не о чем. Иван замялся.
– Главное спроси. Про погоду, – с шёпотом потукал кум Ивана по локтю.
– Да! Какая там у нас погода? – пальнул Иван.
– А какая повсегда. Солнушко… Тёплышко… Погодистый денёшек. Я б хотела, а пусть всё лето будет такое… Я вот с поля прибегла… Дело к обеду…
– А тут в самом распале ночь. В самом распале…
Ивану пришла в голову превосходная мысль, и он, обругав себя дурнем, неизвестно на что попусту тратящим деньги и время, досадно щёлкнул себя по лбу. Во весь рот гаркнул в трубку:
– Донечка!
– Нянько! Вы что кричите? Я не глухая. Расхорошо слышу Вас и так…
– Донечка, мамко там далеко?
– А рядом стоят.
– Дай трубку. Нехай с няньком поговорят.
Вложил Иван в тряские отцовы руки трубку.
Скомандирничал:
– А ну говорите. Говорите с мамкой! Не смотрите на меня пугано. В трубку говорите!
Отец не удержал трубку. Трубка вывалилась у него из окаменелых рук и маятно закачалась над самым полом между отцом и сыном.
Из трубки доносился усталый, печальный голос матери.
– И-ва-ноч-ко-о… И-ва-ноч-ко-о-о… – ясно звала из-за океана старуха.
Сын с укором поднял трубку. Тесно прислонил к отцову уху.
Неуверенно отец взял трубку, прижался к ней дряблой, изжитой щекой и горько, навзрыд заплакал.
– Нянько! Нянько! – торопил Иван. – «Что ж литься рекой? Заказанное время выходит. Покупалки[34] идут. Плачено ж!» Скажите хоть слово!
Слёзы градом катились по старым щекам.
Старик покаянно прижимался к трубке. Ни слова не мог сказать.
– Говорите! Говорите же!
Иван сторожко потянулся ухом к трубке.
Прислушался.
Плач шёл и из трубки.
21
Где плетень пониже, там и перелезают.
Спящую собаку не буди.
Старики гости в печальном озарении уходили от Голованей, прижимая к груди по пластинке про Верховину.
Милый подарок с родного краю…
Тот-то что подымется в этот глухой час, когда услышат домашние, как «Верховину» поют сами верховинцы!
Слабая лампёшка перед входной дверью вовсе не кидала свету за порог. В жёлто-мрачной зыбке едва угадывалось ветхое крыльцо.
Кривой кум боком спускался в плотную ночь по печально-певучим ступенькам-клавишам, остановился не на третьей ли ступеньке от верха, поднял защитительно руку к идущим следом двум старикам.
– Хлопцы! Вы как знай себе. А я перепрячу надальшь, – и пустил пластинку за пазуху. Обстоятельно перекрестил обозначившийся кружок.
Два других старика не решались трогаться за ним с площадки крыльца, с ленивым попрёком сказали на то:
– Как ты, тюха-пантюха, был единособственник да так и закаржавел. Взял бы на сохранность и наши!
– Я что… – с близкой обидой в голосе пробормотал кум. – Я возьму. Тольке я считаю, всяк своё неси сам…
– А ежли мы себе по такой темени не доверяем?
Мария, провожая гостей, с щемливой улыбкой наблюдала с порога, как пьяненькие стареники чинно передавали свои пластинки. Видела, с какой гордостью кривой кум прятал к себе за пазуху пластинки своих товарищей. Видела, как те, двое, в один голос потребовали, чтобы он, с пластинками, непременно шёл только за ними, поскольку это будет надёжней, безопасней.
И кум, не двигаясь с места, переждал, когда те двое, взявшись за руки с детской верой в твёрдую силу протянутой руки, обминули его и бочком поскреблись к калитке в глухом дощатом заборе.
Так же, держась за руки, прошли на волю, на улицу, чёрную, затаенную.
Остановились, поджидают кума.
Едва подтащился кум к калитке, откуда ни возьмись накатился из тьмы чёрный ком, сшиб в калитке старика с пластинками и пожёг к крыльцу.
Закрывая входную дверь, Мария увидала на косяке цепкую молодую руку, с коротким обомлелым криком шатнулась назад.
– С каких это пор ты стала бояться своего сыночка? – с плутоватой ужимкой хохотнул Джимми и принялся небрежно сковыривать мизинцем её синюшные пальцы с её бледно-воскового лица.
– Джи! Чёртушка ты на примусе! Ну насмерть перепугал. Как налётчик какой!
Во дворе заслышались придушенные старые голоса:
– Что такое?
– Кто?
– Ох! По-овна пазуха осколков! Ох-ох-ох!.. – причитал кум.
Мария сразу узнала кума.
– Это ж гости! – уставилась на Джимми.
– Мне глубоко наплевать!
– Что ты, дублёный загривок, натворил?
– Ровным счётом ничего, если не считать, что в силу служебной необходимости сбил кого-то в калитке. Вижу, закрывается дверь. Я рванул со всех ног…
В дверь робко поскреблись.
Джимми вяло вывалился из-за двери по пояс.
Увидав человека в полицейском, кривой старик дёрнулся назад, резко взмахнув руками, – рубаха вырвалась из штанов и чёрным ручьём брызнули на пол осколки.
– Вот и всё… что вы нам оставили… – убито пролепетал старик, пятясь по сходкам вниз.
– Убирайся, покуда я добрый!
Мария прикрыла дверь.
– Как можно!.. – зашептала она с упрёком.
– Не врублюсь что-то… С каких-то пор что-то уже нельзя и дублёному загривку?
– Но это ж гости!
– Хороши гости! Проводили раз. Ждут вторых проводин? У меня это быстро!
– Оно и видно. Тебя что, звали к полуночи?
– Ну-у, – замялся Джимми, – дела… Совсем… совсем заколебали… Понимаешь, у шефа заболела прислуга. Пришлось дать марафон по магазинам. Прошу одного взвесить фунта полтора картошки, мне на раз. А ему смешно. Вы, говорит, первый, кто просит разрезать картофелину. Это у нас не принято… Кретин! Я в другую лавку. Там пакет на три фунта потянули четыре картохи. Каждая с локоть! Я никогда не видал такой крупной картошки!
– Конечно, в тарелке она всегда мельче.
– Потом, пока мыл полы, пока прогуливал мопса…
– Да-а… Чем выше взбирается обезьяна по дереву, тем лучше виден её зад…
– Ты это к чему?
– К недавнему повышению твоего шефа. Раньше он не заставлял тебя мыть ему дома полы.
– А ладно… Без убытка нет и выгоды.
– И что ты выгадал?
– Гарантию, что и завтра я ему буду нужен.
– Да не с пустыми руками! – Мария припала к сыну, зашептала устало: – Была у меня на днях под вечер эта драная кошка Капитолина. Хвалила бриллиантовые серьги!
Джимми вытянул лицо.
Кто-кто, а уж он-то знал, что это такое, когда жена его шефа нахваливает какую-нибудь вещичку в магазине матери ровно за месяц до дня своего рождения. Именно ровно за месяц. Минута в минуту! (Родилась она, по её рассказам, в закатный час.) Пунктуальная, всё предусматривающая… Дескать, понимаю, у тебя нет денег, но ты, проказник, по-прежнему хочешь служить под крылышком у моего благоверика. Вижу, не тянет быть лишним.[35] Так в чём же дело!? Вот тебе месяц сроку. Знай добывай капиталишко. Покупай да не забудь поднести мне желанный подарок в мой день!
Джимми срезанно привалился плечом к углу в прихожей.
Молчал.
– Ты даже не хочешь поинтересоваться ценой? Спешу обрадовать. Две двести, дорогуша!
– Да-а, начальству не воспретишь жизнь-красотень, – блёклым, чужим голосом буркнул Джимми, как бы на пробу постучав костями пальцев одной руки по костям пальцев другой.
– И что ты намерен делать?
– Я думаю, ты не бросишь меня на произвол беды… Отдашь мне серьги под честное моё слово.
– Не говори пошлостей. Где она у тебя та честность? В прошлом году той же Капи́ ты брал гранатовые серьги. Полтыщи твоего долга по сегодня висит на мне! Ты боишься не угодить своему начальству. Но без стеснений затягиваешь петлю у меня на шее.
– Клевета! Никакой петли у тебя на шее я не вижу.
Полуобняв Марию, Джимми в подтверждение своих слов повернул её к овальному тёмному зеркалу на стене.
– Смотри. Не петля – колье у тебя!
– А разве это колье не петля? Ты же знаешь, я взяла его лишь до утра. Утром оно снова будет под стеклом. В продаже. И так всегда. Куда пойти, кому показаться – иду в ночном золоте. Золото это только до утра моё, вроде как напрокат самовольно взятое. Носи и дрожи… Во всякую минуту может нагрянуть патрон. Откроются того и жди твои вечные долги – не лишняя ли я сама тогда?
– Бродвейский твой босс далеко, а мой через улицу. Отдай серьги. В рассрочку года за два как-нибудь выплачу.
– Уволь! Как-нибудь подожду отдавать. Хватит с меня бесконечных твоих подарочных долгов. Отныне я верю доллару только вот тут, – яростно потыкала себе пальцем в расправленную ладонь, узкую, длинную, как гроб. – Крайняя уступка: при получении вещи хоть тыщу наличными.
– Бедный я, несчастный я, – холодея, вслух подумал Джимми словами из прилипшей к нему песенки «Цель – грех». – Где я достану тебе целую тыщу?
– А где я достану тебе целых две? Отныне я верю джорджику только вот тут, – повторила она и ткнула пальцем в ладонь.
– У нас с тобой одна вера, – осклабился Джимми. – Я тоже верю только доллару. Только вот этому баксу…[36]
Он достал из кармана брюк долларовую бумажку и, небрежно держа её указательным и средним пальцами, повёл ею перед матерью, поднёс к самому лицу, будто давал понюхать ищейке кусочек вещи, которую предстояло найти.
Первым желанием было стукнуть по этой руке с одним долларом. Но Мария, трудно удерживая себя, лишь укорливо спросила:
– Это и все твои капиталищи?
– Больше того, что было в кармане, из него не достанешь.
22
Можно отвести лошадь на водопой,
но нельзя заставить её пить.
«Чёрт побери такую мами́! Жалко ей чужих побрякушек…»
Джимми выжидательно не убирал долларовую бумажку от лица матери. Чего он хотел? Чего добивался? Чтоб мать с извинениями за так отдала серьги?
Извинения вовсе не обязательны. А вот серьги… Серьги не помешали б ему. Серьги кинули б ему год спокойной жизни.
Неизвестно что толкнуло его в грудь, только кинул он липкий взор вбок и остолбенел. Оттуда, с тёмной лестничной площадки, в него целился из пистолета Гэс.
– Не тупи, – устало сказала мать Гэсу.
– Э-э! Полевой дворянин![37] Ты что, совсем плохой? – инстинктивно закрываясь руками, закричал Джимми. – Убери свою мухобойку!
– Было бы у моей пушечки два ствола, – продолжал целиться Гэс, – я б успокоил разом и тебя, и доллар в твоей руке.
– А доллар за что?
– За то, что он потрошитель. Думаешь, ты его держишь? Как же… На своём крючке он держит тебя. Он! Выпотрошил из тебя человека, вставил сволочь. За цент погубишь кого угодно. Даже мать! Не говоря о брате. Несчастный трус! Так испугаться игрушечного пистолета! – засмеялся Гэс и поднёс трембиту к губам.
От тяжёлого гортанного звука всё дрогнуло вокруг. Неустрашимый Джи невольно попятился назад, и Гэс, подыгрывая себе победным стуком по трубе, дуря завёл:
– Капитолина элегантна,
Она пи… пи… она ка… ка…
Она пикантна.
Капитолина молодая,
Она ху… ху… она ху… ху…
Она худая…
Джимми бросил руку с зажатым меж пальцами долларом в сторону Гэса.
– Полюбуйся, ма! И этот свистнутый типус был в блюстителях! Чёрт знай что горланить про жену шефа!.. Разве не закономерно, что его нет больше среди нас на работе?!
– Джи, ты слишком откровенен, – с мягкой осудительностью сказала Мария. – Что ты ни думай, а говорить так в лицо не имел права. Как-никак вы братья.
– Но этого так мало даже на то, чтоб хоть сколько-нибудь лицемерить! – вскричал Джи – Ты, ма, просто многого не знаешь и думаешь о нём лучше, чем есть он на самом деле. А между тем мы слишком многое ему позволяем, много позволяем лишнего. То хотя бы уже лишнее, что этот полевой дворянин ещё ходит по одним с нами улицам.
Гэс уставился на Джи. Медленно проговорил:
– Лакейский рыцарь, если я преступник, почему мне не наденут на руки браслеты?[38]
– Дать прикорот? – Джи коротко подумал, звонко прищёлкнул пальцами. – А дело!.. Пора тебя к чертям на переплавку! За мной не заржавеет.
Мария мятежно смотрела то на одного, то на второго. Ничего не понимала. Что происходит между ними? Что?
Дети, дети…
Когда только и успели вырасти? Выросли уже из той поры, когда, застав в потасовке, достаточно было раскидать по углам, сунуть каждому по яблоку, и меж братьями воцарялся мир.
Ушла та пора…
И теперь не растащишь по углам, не позатыкаешь яблоками рты.
– Гэс! Джи! Да что происходит? – допытывалась она с мольбой в голосе. – Имею я право знать или не имею?
– Имеешь, – полуласково, лениво заглядывая Марии в глаза, ответил Джи. Показывая всем своим видом, что он крайне безразличен к происходящему, скучно перекатился с пятки на носок. Качнулся назад, с носка на пятку. – Имеешь, но! – твёрдо поднял палец. – Если хочешь, чтоб он, – указал на Гэса, – уцелел, заставь его помнить: не дразни собак, пока не вышел из села!
– Я вынужден тебя огорчить, братуня, – с насмешкой в голосе возразил Гэс. – Я никуда не ухожу из нашего села. Я в нём живу. И я буду в нём жить, несчастный ты шефов подпёрдыш!
– Будешь, если заберёшь, дубак, с повинной – в просьбе поклон не в потерю, – если заберёшь свой поклёп на шефа и на меня и причешешь язычок! – выпалил Джимми.
С ужасом Мария стала выпытывать про писанину; то, что не хотел Джимми говорить матери, сказано, само выболтнулось с языком, выпало наружу, скрыть уже ничего не скроешь. Деваться некуда, заоправдывался Джимми:
– Видишь, ма, он у нас очень умный, только худенький. Этому лбу в два шнурка не н равятся ни шеф, ни я… Один он у нас в округе на тыщу миль кругом хороший, кругом прав. Святошик! Забомбись!.. Оказывается, шеф ни за что его уволил и если уж кого и гнать взашей, так это меня, поскольку, как настрогал в своём писании этот праведник, я и вымогатель-ракетчик, я и состою в связи со всякой преступной нечистью…
равятся ни шеф, ни я… Один он у нас в округе на тыщу миль кругом хороший, кругом прав. Святошик! Забомбись!.. Оказывается, шеф ни за что его уволил и если уж кого и гнать взашей, так это меня, поскольку, как настрогал в своём писании этот праведник, я и вымогатель-ракетчик, я и состою в связи со всякой преступной нечистью…
– Что ты?! – сжалась Мария. – И всё это валит брат на брата?
– На родного! – подсказал Джимми. Повернулся к Гэсу. – Никто б тебя не выпер, ты б уже, как и я, имел свои шикарные колёса, не таскай на плечах вместо головы кошёлку. Темно-растемно в твоей кошёлке… Стал всем солью в глазах. Столько проработать и ни разу не поблагодарить ше-фа!!! А сколько поводов! И Рождество, и день рождения, и день повышения, и день первого выговора, и день снятия выговора, и день второго выговора, и… С шутками, с прибаутками всё б слилось гладко. Наконец, у шефа есть жена, есть дочка, есть, к твоему сведению, мопс. У всех у них куча своих праздников…
– Наплевать мне на их праздники!
– А почему тогда шефу не наплевать на тебя на одного? Хочешь брать – научись сперва сам давать. Да не из своего кармана. В этом вся мудрость. И тогда ты будешь свой. Ничто так не роднит людей, как общие грехи.
Гэс потерянно повёл вокруг, задержался глазами на матери, и Мария, покорная, тревожная («Горе ты моё, горе, как же ты в этой жизни выстоишь?») не выдержала воспаленно-вопрошающего, беспомощного взгляда, медленно, придавленно кивнула:
– Да, да… Мерзость и деньги всегда вместе… Ты глубоко ошибаешься, если считаешь, что в хозяйстве у полицейского ничего не должно быть кроме одной дубинки. А разве иначе устроен его желудок? И разве его дети меньше требуют сладкого? А разве его жена не любит наряды? Жизнь ставит так много вопросов! Приходит время, когда не отвечать на них просто невозможно. Отвечать делом, отвечать смирением… Не лезть в глаза, как муха, а поступать как все. Со временем и при терпении и тутовый лист становится атласом…
– … а человек атласным… с отливом, – добавил Джимми. – И тебе для этого так мало надо. Забери проклятуху свою бумагу, а там доверься мне. Не прогадаешь! Ну что? Ладно?
– И без ладно прохладно! – негнущимся калёным голосом полоснул Гэс и попятился в глубь тёмного коридора.
– Ну что, – сухо, сторонне сказала Мария, – если ты, Джи, опоздал к столу, может, войдёшь хоть поздороваешься с гостями?
– К гостям не обязательно. А к столу я никогда не опоздаю.
Джимми принялся шумно нюхать воздух и, безгрешно потирая руки, на цыпочках покрался к гостиной.
– Ты чего крадёшься, как вор?
– Профессиональная привычка, – извинительно улыбнулся, замер, держа левую ногу перед собой на весу, где застал непрерывный, густой голос машины. – Чего это так настырно ревёт твой «Мустанг»?
– Меня! Меня на вызов!! – В слепой радости Мария метнулась к двери. – Бывай!
– Чао, какао! – прощально поднял руку Джимми, лениво подумал: – «Хуже спаной девки. В ночь маточка полетела на свидание!»
Кругом стало тихо.
Джимми не доверял этой тишине. Всё так же, на одних пальчиках, подкрался к гостиной, бочком протиснулся в узкий размах двери.
«Колорадский жук кушать тоже хочет…»
Верхнего света зажигать не стал, не дай Бог увидит ещё кто.
Посветил карманным фонариком.
На развороченном столе не на чем было задержать глаз. Не то с трёх, не то с четырёх плоских тарелочек набралось картошки с мясом пускай не густо, а всё ж червячка уморить можно. Зато с питьём совсем беда.
Изо всех стаканов, изо всех бутылок рваной ниточкой слил опивки. На хороший глоток не хватило.
Он уже собрался уходить, когда ненароком сунул нос под стол. За ножкой бутылка! Початая. Там взяли сливовицы, гляди, пальца на два. Не больше.
От широты нахлынувших чувств он сел на пол, опрокинул бутылку в рот.
Джимми не из сорта тех, кто оставляет после себя хоть что-нибудь.
Пустую бутылку он добросовестно поставил на прежнее место. За ножку стола. Разомлело и цветасто улыбаясь, смахнул последние объедки в руку и дожевал по пути, пока тяжело нёс себя к своей машине.
А между тем только в стариковой комнате желтовато ещё тлелся низ тесного оконца.
Под лёгким одеялом старик жался к стене, молотил кулачком по незанятому простору кровати.
– Да разве мы не впоместимся? Не хочешь со мноюшкой, ложись в любой свободной комнате. Ну куда ты, смельчуган, на ночь глядючи?
– Нет, дидыко, не останусь. Ты лучше подари мне трембиту. А не подаришь, – Гэс просительно улыбнулся, – смаячу. Извини за откровенность.
– Ро́днушка ты мой! Трембитоньку мне самому воздарили… Сынки… С самой Родины везли. Как же такой подарок передаривать?
– Я понимаю, понимаю. Но и ты… – парень понизил голос. – Слушать молнию… Как бы я хотел всем им играть на молнии. – Гэс зачарованно, восторженно-отсутствующе гладил взором трембиту, стояла у стариковского изголовья.
– Это голос оттуда, роднуля ты мой. Я смотрю на трембиту и вижу, и слышу свой край, свою Русинию.
Не хотелось старику вот так сразу расставаться с трембитой. Не хотелось огорчать и внука.
Растерянность на лице проросла сомнением. Из сомнения выщелкнулась решительность.
– Дарю, роднуха! – радостью плеснул старик. – Дарю при одном условии. Каждый вечер играть ровно в десять! Я буду знать, что ты жив, что ты здоров. Буду знать, в какой ты стороне.
Завернувшись в одеяло, старик проводил парня до крыльца.
Хлопнула невидимая в темноте калитка.
Старик всматривается в ночь. Слушает уходящие шаги.
Шаги покрыла тихая, задумчивая песня.
– Над Канадой небо синее,
Меж берёз дожди косые.
Так похоже на Россию!
Только это не Россия…
Песня уходила от старика…