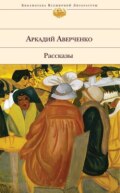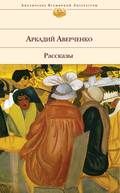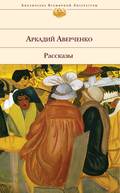Аркадий Аверченко
Московское гостеприимство
Преступление актрисы Марыськиной
Раздавая роли, режиссер прежде всего протянул толстую, увесистую тетрадь премьерше Любарской.
– Ого! – сказала премьерша.
Потом режиссер дал другую такую же тетрадь любовнику Закатову.
– Боже! – с ужасом в глазах вздохнул любовник. – Здесь фунта два! Не успею. Фунта полтора я бы еще выучил, а два фунта – не выучу.
«Дурак ты, дурак!», – подумала выходная актриса Марыськина.
– Это не роль, а Библия! – вскричала Любарская и сделала вид, что сгибается под тяжестью полученной тетрадки.
«Дура ты, дура, – подумала Марыськина. – Оторвала бы для меня листков десять – я бы вам показала!»
Потом получили роли: старуха Ковригина, комик Лучинин-Кавказский, второй актер Талиев и вторая актриса Макдональдова.
Марыськина с аппетитом проглотила слюну и спросила, сдерживая рыдания:
– А мне?
– Есть и тебе, милочка, – улыбнулся режиссер. – Вот тебе ролька – пальчики проглотишь.
Между двумя его пальцами виднелась какая-то крохотная, измятая бумажка.
– Это такая роль?
– Такая.
– Да где она?
– Вот.
– Я ее и не вижу, – обиженно сказала Марыськина.
– Ничего, – вздохнул режиссер, – она маловата, но зато дает громадный материал для игры. Подумай, ты богатая купчиха, гостья – во втором акте.
– А что я говорю?
– Вот что: «…в числе других гостей входит купчиха Полуянова. Целуется с хозяйкой… («с ней» – указал режиссер на Любарскую)… говорит: «Наконец-то собралась к вам, милые мои…» Солнцева. «Очень рада, садитесь». – «Сяду и даже чашечку чаю выпью». «Сделайте одолжение!» Полуянова садится, пьет чай».
– И это все? – с отвращением спросила Марыськина. – Хоть бы две странички дали…
– Миленькая! Да ведь тут игры масса! Погляди, быту сколько: «Наконец-то собралась к вам, милые мои…» Ведь это живое лицо! Купчиха во весь рост! А потом: «…Сяду и даже чашечку чаю выпью!» Заметь, ей еще и не предлагали чай, а она уже сама заявляет – «выпью»! Вот оно где, темное купеческое царство гениального Островского: сяду, говорит, и даже чаю выпью. Ведь это тип! Это сама жизнь, перенесенная на подмостки! Я понимаю, если бы хозяйка там предложила ей: «Выпейте чаю, госпожа Полуянова». А то ведь нет! Этакая бесцеремонность: «Сяду и даже чаю выпью». Хе-хе! Ты бесцеремонность-то подчеркни!
Марыськина с болезненной гримасой прочла еще раз роль и сказала:
– А мне тип Полуяновой рисуется иначе: эта женщина хотя и выросла в купеческой среде, но она рвется к свету, рвется в другой мир… У нее есть идеалы, она даже влюблена в одного писателя, но муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью. И она, нежная, тонкочувствующая, рвется куда-то.
– Ладно, – равнодушно кивнул головой режиссер. – Пусть рвется. Это не важно. Тебе виднее…
– Я ее буду толковать немного экзальтированной, истеричкой…
– Толкуй! Дальше… «Роль слуги Дамиана»! Это вам, Аполлонов. «Горничная Катерина» – Рабынина-Вольская!
Марыськина отошла в угол в задумчивости…
…Начался второй акт. Сцена изображала гостиную в доме Солнцевой (Любарская). Собираются гости, приходит комик Матадоров (Лучинин-Кавказский), с которым хозяйка ведет напряженный разговор, так как она ожидает появления своего любовника Тиходумова (Закатов), изменившего ей с баронессой. Должна произойти сцена, полная глубокого драматизма. Объяснение на первом плане; в глубине сцены – тихий разговор ничего не подозревающих гостей…
Когда поднялся занавес, на сцене была одна Солнцева. Она ходила по сцене, ломала руки и, читая какую-то записку, шептала:
– Неужели? О, негодяй!
В это время в гостиную вошла группа гостей, и Солнцева, согнав с лица страдальческое выражение, приветливо встретила пришедших.
Она поклонилась молчаливым гостям, поцеловалась с купчихой Полуяновой (Марыськиной), и когда суфлер сказал: «Ах, это вы… вот приятный сюрприз!» – хозяйка тоже обрадовалась и покорно повторила:
– Ах, неужели же это вы! Вот так приятный сюрприз!
Марыськина посмотрела вдаль и печально прошептала:
– Наконец-то собралась к вам, милые мои!
– Очень рада, – приветливо сказал суфлер. – Садитесь.
Хозяйка дома вполне согласилась с ним:
– Очень рада! Чрезвычайно. Отчего же вы не сади-тесь? Садитесь!
Марыськина истерически засмеялась и, теребя платок, сказала:
– Сяду, и даже чашечку чаю выпью! – Она опустилась на диван, и сердце ее больно сжалось.
«Все… – подумала она. – Все! Вот она и роль!..»
И неожиданно сказала вслух:
– Да… что-то жажда меня томит, с самого утра. Ну, думаю, приеду к Солнцевым – там и напьюсь.
Солнцева недоумевающе взглянула на купчиху.
– Сделайте одолжение, – согласился гостеприимный суфлер.
– Пожалуйста! Сделайте одолжение… Я очень рада, – преувеличила Солнцева.
– Да… – сказала Марыськина. – Ничто так не удовлетворяет жажду, как чай. А за границей, говорят, он не в ходу.
– Замолчите! – прошептал суфлер, меняя обращение с купчихой Полуяновой. – «Солнцева отходит к другим гостям».
– Что это вы, милая моя, такая бледная? – спросила вдруг Марыськина. – Неприятности?
– Да… – пролепетала Солнцева.
От приветливости суфлера не осталось и следа.
– Молчите! Почему вы, черт вас дери, говорите слова, которых нет? «Солнцева отходит к другим гостям»! Солнцева! Отходите!
Солнцева, смотревшая на Марыськину с немым ужасом, напрягла свои творческие способности и сочинила:
– Извините, мне надо поздороваться с другими. Вам сейчас подадут чай.
– Успеете поздороваться, – печально прошептала Марыськина. – Ах, если бы вы знали, душечка… Я так несчастна! Мой муж – это грубое животное без сердца и нервов!
Марыськина приложила платок к глазам и истерически крикнула:
– Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком!
– Замолчишь ли ты, черт тебя возьми! – прошептал энергично суфлер. – Оштрафует тебя Николай Алексеич – будешь знать!
– Передо мной рисуется другая жизнь, – сказала Марыськина, ломая руки. – Я рвусь к свету! Я хочу пойти на курсы. О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?!
– Успокойтесь! – сказала Солнцева и повернула к публике свое бледное, искаженное ужасом лицо. – Извините… Я пойду к другим гостям.
Марыськина схватилась за голову.
– К другим гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие паразиты и лгуны. Агриппина Николаевна! Здесь перед вами страдает живой человек, и вы хотите променять его на каких-то пошляков… О, бож-же, как тяжело… Все знают только – ха-ха! – богатую купчиху Полуянову, а душу ее, ее разбитое сердце никто не хочет знать… Господи! Какое мучение!
– Она с ума сошла! – сказал вслух суфлер и, сложив книгу, в отчаянии провалился вниз.
– Пусть я не святая! – вскричала Марыськина, подходя к рампе. – Я женщина, и я люблю… Пусть! И знаете кого?
Она схватила Солнцеву за руку, нагнула к ней искаженное лицо и прошипела с громадным драматическим подъемом:
– Я люблю вашего любовника, которого вы ждете! Он мой, и я никому его не отдам. Вам написали насчет баронессы – ложь! Я его люблю! Что, мадам, кусаете губы? Ха-ха! Купчиха Полуянова никого не стесняется – да! Я имею любовника, и фамилия его – Тиходумов.
– Вон со сцены! – проревел из-за кулис режиссер.
«Истерику бы, – подумала Марыськина. – Если уж чем выдвинуться, то истерикой».
Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали… Плач перемешался с хохотом, и из уст вырывались отрывочные слова:
– Пусть! Пусть… Я его вам… не отдам. Ты у меня его не возьмешь… змея!
Никогда зрителям не приходилось видеть более жалких, растерянных лиц, чем у актеров на сцене в этот момент. Все так привыкли говорить только по тетрадкам весом в два фунта, в фунт и четверть фунта, что самые простые слова, вырывающиеся у присутствующих при истерике, никому не приходили в голову.
И в то время, когда купчиха Полуянова билась в истерике, два гостя рассматривали картину, и один говорил другому вызубренные наизусть слова:
– А эта Солнцева богато живет… У нее шикарно!
– Говорят, у нее что-то есть с Тиходумовым.
– Кто говорит? Я об этом ничего не слышал…
Никому не пришло в голову даже предложить воды плачущей купчихе. Нахохотавшись и наплакавшись вдоволь, она встала и, пошатываясь, сделала прощальный жест по направлению к Солнцевой:
– Прощай, низкая интриганка! Теперь я понимаю, почему ты предлагала мне чаю! Я видела через дверь, как твой сообщник сыпал мне в чашку белый порошок. Ха-ха! Купчиха Полуянова только сама, собственной рукой, перережет нить свой жизни! Не вам, червям, бороться с ней! Прощайте и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, хихикающий Матадоров! Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни!
Марыськина вышла… и гром аплодисментов, низринувшись с галерки, разбился внизу, прокатился по партеру и замер в снисходительно похлопавших первых рядах…
* * *
Усталая, опустошенная, прошла Марыськина за кулисы, повернула в уборную и наткнулась на режиссера, который бежал прямо к ней.
– Вот твои вещи – их уже уложили. Тебе следовало двадцать восемь рублей, минус двадцать пять штрафу – три! На.
– Ладно, – сказала устало Марыськина. – Пусть… вещи на извозчика.
– Никифор! Выброси на извозчика ее вещи.
– Прощайте.
– Вон!
Сверх платья купчихи Полуяновой Марыськина натянула дряхлое, истасканное пальто, размазала рукой по лицу грим и с непроницаемым видом вышла, споткнувшись о порог.
Медицина
За утренним чаем Ната Корзухина посмотрела внимательно и беспокойно на мужа, провела рукой по его голове и спросила:
– Почему ты такой желтый?
Корзухин удивился.
– Желтый? Почему бы мне быть желтым?
– Я не знаю. Только очень желтый. Мне не нравится твой цвет.
– Хорошо, – пообещал Корзухин. – Постараюсь, чтобы этого больше не было!
Корзухин поднялся и ушел на службу. Через два дня утром жена опять сказала с беспокойством:
– Знаешь – ты опять желтый… Даже какой-то синеватый. А виски коричневые.
Корзухин испугался.
– Что ты говоришь?! О, черт возьми… Вот история…
– Тебе, вероятно, нельзя пить. Обратись к доктору.
– Все доктора мошенники.
– Уж и все! Иногда попадаются и не мошенники. Хочешь, я приглашу своего доктора, у которого я зимой лечилась? Очень хороший. Я напишу ему записку, и он сегодня после обеда заедет.
– Неужели я такой… желтый и синий?
– Ужас! Ужас! Прямо какой-то зеленый.
– Я смотрел нынче в зеркало. Как будто ничего.
– Так… – печально сказала жена. – Значит, жена врет, а зеркало не врет? Зеркало, значит, лучше? Почему же ты в таком случае не устроишься так, чтобы оно варило тебе по утрам кофе, заказывало обед, целовало тебя и ездило с тобой в театры…
– Зови доктора.
После обеда приехал доктор.
– Здравствуйте, Наталья Павловна. Я получил вашу записку и сейчас осмотрю вашего мужа.
Осмотр продолжался недолго. Доктор выстукал Корзухина, осмотрел его язык и убежденно сказал:
– Вам нельзя пить! Это для вас смерть.
– Что вы говорите? – побледнел мнительный Корзухин. – Что же я тогда буду делать?
– Что вы обыкновенно пьете?
– Немного водки, шампанское, ликеры…
– Вот водки вам и нельзя. И шампанского вам нельзя и ликеров.
– Стоит ли жить после этого?
– Стоит. Нужно только заниматься больше духовными запросами.
– Займусь, – с искаженным страхом лицом пообещал Корзухин.
* * *
– Ты кашлял во сне. Знаешь ли ты это?
– Нет, я спал.
– Ты кашлял. Я тебя уверяю – ты кашлял, а не спал.
– Почему же я сам этого не заметил?
– Очень просто: потому что ты спал. Тебе, вероятно, вредно куренье… Я уже давно косо посматривала на твои ужасные сигары. Сегодня позовем моего доктора – пусть он осмотрит тебя.
– Странно… Вчера только в департаменте мне говорили: как вы поздоровели!
– Да? Так если тебе говорят в департаменте такие приятные вещи – ты взял бы и поселился там, вместо того, чтобы приходить сюда. Конечно, человек ищет где глубже, а рыба… тоже ищет этого самого… как это говорится – как рыба об лед. Я бьюсь, как рыба об лед, измучилась, беспокоясь о тебе…
– Зови доктора. Зови доктора!
Приехал доктор и опять осмотрел Корзухина… Ната оказалась права. Доктор, даже не досмотрев голого Корзухина, всплеснул руками и сказал:
– Ой-ой! Вам нужно бросить курить… А то выйдет очень неприятная штука.
– Что же вы называете неприятной штукой?
Доктор поднял палец вверх.
– Туда пойдете.
– Вы, вероятно, хотите сказать, – со слабой надеждой в голосе прошептал Корзухин, – что куренье сигар расшатает мой бюджет, и мне придется перебраться этажом выше?
– Я говорю о смерти, – веско сказал доктор.
Корзухин сжал губы в мучительную гримасу, подошел к столу, схватил ящик с сигарами и решительно бросил его в огонь камина.
– Молодцом! – сказал доктор. – Зуб нужно вырывать сразу.
– И зуб? – пролепетал Корзухин. – И зуб… нужно?
– Нет, зуб пока не нужно. Это я так.
* * *
Через неделю доктор опять был у Корзухиных.
– Наталья Павловна телефонировала мне, что вы ночью бредили…
– Ей-Богу не бредил. Чего мне бредить?
– А вот мы посмотрим. Разденьтесь… Те-те-те… Батенька! Да у вас скверная вещь: я бы за ваши нервы ни копейки не дал.
Корзухин и не думал вступать с доктором в какую-нибудь коммерческую сделку, но все же встревожился.
– Что же мне делать? Ради Бога…
– Поздно ложитесь?
– Часа в три, в четыре. Бываю в клубе.
– Он, доктор, в карты играет, – пожаловалась Ната.
– Что вы говорите?! Это самоубийство! Вы хотите сохранить остатки вашего здоровья?
– Хочу!
– Клуб к черту. Карты к дьяволу. Сон – в двенадцать часов ночи. Перед сном обтиранье холодной водой.
– Хорошо… – скорбно сказал Корзухин. – Оботрусь.
* * *
…Доктор долго мял, тискал и выстукивал Корзухина. Он бил Корзухина кулаком по спине и спрашивал:
– Больно?
– Конечно, больно.
– А тут?
– Ой!
– Нервы, нервы и нервы. Нужно их успокоить. Вы музыку любите?
– Не выше оперетки.
– Нет, это не подходит. Вам нужно ходить на что-нибудь серьезное, действительно художественное. Гм… Вот что! На днях начинается серия вагнеровских опер. Достаньте абонемент.
– Как кстати! – воскликнула, всплеснув руками, Ната. – Мои знакомые как раз хотят уступить кому-нибудь абонемент. И мы вдвоем будем ходить… Вагнер – такая прелесть!
– Осмотрите меня внимательно, – заискивающе попросил Корзухин. – Может быть, найдете что-нибудь полегче, чем можно было бы заменить Вагнера. Обыкновенную оперу, что ли… Или цирк…
Доктор ударил Корзухина кулаком под ложечку и спросил:
– Больно?
– Еще как!
– Ну, вот видите – лучше Вагнера не придумаешь… Чудак человек… Говорит – цирк. Это все равно что больному ревматизмом давать пилюли от кашля. Медицина, батенька, такая вещь, что гм… гм!
Доктор сделался домашним врачом Корзухина. Однажды он осмотрел его, ощупал и сказал со вздохом:
– На этот раз – дело серьезное.
– Говорите – не мучайте меня – что такое? – скривился Корзухин.
– Мотор!
– Неужели есть такая болезнь? Вероятно, психо-мотор?
– Нет, просто мотор. Вам нельзя пользоваться извозчиком – никаких сотрясений! Слышите? Грудо-брюшная преграда не в порядке. Нужен мотор!
– Послушайте! – сказал Корзухин. – Вы доктор? Так. Вы осматриваете пациента?… Так, прекрасно. Он, предположим, болен. Хорошо. Вы садитесь и пишите ему рецепт. Существует правило, по которому с рецептом ходят в аптеку. Но я никогда не слышал, чтобы с рецептом бежали в автомобильный гараж!!
– Вы забываете о физическом методе лечения, – сухо сказал доктор.
– Это что за музыка?
– Механотерапия.
– Странно… – обиженно улыбнулся Корзухин. – У меня, может быть, и всей-то грудо-брюшной преграды на дешевенький велосипед наберется, а вы – целый автомобиль прописываете.
Доктор нахмурился.
– Я не гомеопат. Не нравится – можете обратиться к гомеопату. Он вам может даже швейную машину прописать. Пожалуйста!
И ушел, гулко хлопнув дверью в передней.
– Можно подержанный, – робко сказала жена.
* * *
Это было однажды осенью…
Корзухин лег после обеда спать, но ему не спалось: грезились разные болезни, эпидемии и несчастья. Он встал, оделся и, печальный, расстроенный, побрел к жене.
В дверях ее комнаты, перед портьерой, приостановился, услышав голоса. Прищурился… Потом опустился на стул у окна и стал слушать. Разговаривали двое:
– Вы должны, доктор, это сделать!
– Ни за что! Вы сами не знаете, чего просите… Нужно же знать меру.
– Я и знаю меру. Но мне необходимо иметь зеленую гостиную! Слышите? Вы должны это устроить. Наша старая красная опротивела мне до тошноты.
– Вы говорите вздор. Как я это сделаю?!
– Ваше дело. На то вы доктор.
– Это скорей дело обойщика.
– Придумайте что-нибудь! Скажите, что красный цвет ему вреден, а что зеленый там что-нибудь такое… увеличивает кровообращение, что ли. Или расширяет сосуды.
– Вздор! Зачем ему расширение сосудов?
– Скажите просто, что ему вредна красная гостиная.
– Да он ведь там никогда и не бывает.
– А вы найдите такую болезнь, чтобы ему нужно было сидеть в гостиной, намекните на кубический объем воздуха, а потом скажите, что такой красный цвет в гостиной ему вреден.
– Наталья Павловна… Это черт знает что! Он уже на автомобиле чуть не поймал меня. Если он догадается – подумайте, что будет… Я понимаю мои первые опыты – они хоть что-нибудь имели под собою… Хоть какую-нибудь почву… Конечно, куренье вредно, напитки вредны, картежная игра вредна… Но Вагнер – это безобразие, автомобиль – это наглость. У вас нет ни такта, ни логики.
– Ну, хорошо. Устройте мне последнее – красную гостиную – и ладно. Больше ни о чем не попрошу.
– Даете слово?
– Даю! Честное слово!!
– Ну, в последний раз. Господи благослови.
* * *
Доктор и Ната отправились в спальню на поиски Корзухина, но Корзухина там не нашли.
Отыскали его в красной гостиной. Он сидел на красном диване, тянул из горлышка бутылки коньяк и курил чудовищную сигару.
– А, доктор! – сказал он, подмигнув. – Здравствуйте! Не находите ли вы, что красный цвет гостиной мебели дурно влияет на меня? Кубический объем, как говорится, не тот. Хе-хе… Продается хороший автомобиль, дети мои! Срочно нужны деньги за выездом в клуб, и если я, черт побери, не заложу сегодня хорошего банчишки – потащите меня опять на Вагнера. Ха-ха! Дорогой врач! Ломаются нынче все преграды, в том числе и ваша грудо-брюшная, если вы не покинете немедленно одр тяжело больного Корзухина. Неужели мы никогда с вами, доктор, не увидимся? Ну, что ж делать… Я с этим совершенно примирился. Пошел вон!
Функельман и сын
(Рассказ матери)
Я еще с прошлого года стала замечать, что мой мальчик ходит бледный, задумчивый. А когда еврейский мальчик начинает задумываться – это уже плохо. Что вы думаете, мне обыск нужен, что ли, или что?
– Мотя, – говорю я ему, – Мотя, мальчик мой! Чего тебе так каламитно?
Так он поднимет на меня свои глазки и скажет:
– Что значит – каламитно! Ничего мне не каламитно!
– Мотя! Чего ты крутишь? Ведь я же вижу…
– Ой, – говорит, – отстань ты от меня, мама! У меня скоро экзамен на аттестат зрелости, а потом у меня есть запросы.
Обрадовал! Когда у еврейского мальчика появляются запросы, так господин околоточный целую ночь не спит.
– Мотя! Зачем тебе запросы? Что, их на ноги наденешь, когда башмаков нет, или на хлеб намажешь вместо масла? Запросы, запросы. Отцу твоему сорок шестой год – он даже этих запросов и не нюхал. И плохо, ты думаешь, вышло? Пойди поищи другой такой галантерейный магазин, как у Якова Функельмана! Нужны ему твои запросы! Он даже картоночки маленькие по всему магазину развесил! «Цены без запроса».
– Мама, не мешай мне! Я читаю.
Он читает! Когда он читает, так уже мать родную слушать не может. Я через тебя, может, сорок две болячки в жизни имела, а ты нос в книжку всунул и думаешь, что умный, как раввин. Гениальный ребенок.
Вижу – мой Мотя все крутит и крутит.
– Что ты крутишь?
– Ничего я не кручу. Не мешай читать.
Что это он там такое читает? Ой! Разве сердце матери это камень или что? Я же так и знала! «Записки Кропоткина»! Тебе очень нужно знать записки Кропоткина, да? Ты будешь больной, если ты их не прочтешь? Брось сейчас же!
– Мама, оставь, не трогай. Я же тебя не трогаю.
Еще бы он родную мать тронул, шейгец паршивый!
И так мне в сердце ударило, будто с камнем.
Куда, вы думаете, я сейчас же побежала? Конечно, до отца.
– Яков! Что ты тут перекладываешь сорочки? Убежат они, что ли, от тебя или что? Он должен обязательно сорочки перекладывать…
– А что?
– Ты бы лучше на Мотю посмотрел.
– А что?
– Ему надо читать «Записки Кропоткина», да?
– А что?
– Яков! Ты мне не крути. Что ты мне крутишь! Скандала захотел, обыска у тебя не было, да?
– А что?
Это не человек, а дурак какой-то. Еще он мне должен голову крутить!
– Что тебе нужно, чтобы твой сын в тюрьме сидел? Тебе для него другого места нет? Одевайся, пойдем домой!
Вы думаете, что он делал, этот Мотя, когда мы пришли? Он читал себе «Записки Кропоткина».
– Мотька, – кричит Яков, – брось книгу.
– А вы, – говорит, – ее подымете?
– Брось, или я тебя сию минуту по морде ударю.
И как вы думаете, что ответил этот Мотя?
– Попробуй! А я отравлюсь.
Это запросы называется!
– А чтоб ты пропал! Тебе для матери книжку жалко. Тебя кто рожал – мать или Кропоткин?
– А что вы, – говорит Мотя, – думаете? Может, я, благодаря ему, второй раз на свет родился.
Ой, мое горе! Я заплакала, Яша заплакал, и Мотя тоже заплакал. Прямо маскарад!
Вышли мы с Яшей в спальню, смотрим друг на друга.
– Хороший мальчик, а? Ему еще в носе нужно ковырять, а он уже Кропоткина читает.
– Ну, что же?
– Яша! Ты знаешь, что? Нашего мальчика нужно спасти. Это невозможно.
Так Яша мне говорит:
– Что я его спасу? Как я его спасу? По морде ему дам? Так он отравится.
– Тебе сразу – морда. Интеллигентный человек, а рассуждает, как разбойник. Для своего ребенка головой пошевелить трудно. Думай!
Яков сел, стал думать. Я села, стала думать. Ум хорошо, а два еще лучше.
Думаем, думаем, хоть святых вон выноси.
– Яша!
– А что?
– Знаешь, что? Нашего ребенка нужно отвлечь.
– Ой какая ты умная – отвлечь! Чем я его отвлеку? По морде ему дам?
– Ты же другого не можешь! Для тебя Мотькина морда – это идеал!.. Он ребенок живой – его чем-нибудь другим заинтересовать нужно… Нехай он влюбится или что?
– Какая ты, подумаешь, гениальная женщина! А в кого?
– Ну, пусть он побывает в свете! Поведи его в кинематограф или еще куда! Что, ты не можешь повести его в ресторан?!
– Нашла учителя! Что, я бывал когда-нибудь в ресторане? Даже не знаю, как там отворять дверей.
– Что ты крутишь! Что ты мине крутишь? Тебе это чужой ребенок? Это кропоткинское дите, а не твое? Такой большой дурак, и не может мальчика развлекать.
Так пошел он к Моте, стал крутить:
– Ну, Мотечка, не сердись на нас. Пойди с отцом немного пройдись. Я ведь же тебя люблю – ты такой бледненький.
Ну, Мотька туда-сюда – стал крутить: то дайте ему главу дочитать, то у него ноги болят.
– Хороший ребенок! Книжку читать – ноги не болят, а с отцом пройтись – откуда ноги взялись. Надевай картузик, Мотенька, ну же!
Похныкал мой Мотенька, покапризничал – пошел с папой.
Они только за двери – я сейчас же к нему в ящик… Боже ты мой! И как это у нас до сих пор обыска не было – не понимаю! За что только, извините, полиция деньги получает?… И Кропоткины у него, и Бебели, и Мебели, и Малинины, и Буренины – прямо пороховой склад. Эрфуртских программ – так целых три штуки! Как у ребенка голова не лопнула от всего этого?!
Ой, как оно у меня в печке горело, если бы вы знали! Быка можно было зажарить.
В одиннадцать часов вечера вернулись Яша с Мотей, а на другое утро такой визг по дому пошел, как будто его резали.
– Где мои книги?! Кто имел право брать чужую собственность! Это насилие! Я протестуюсь!!
Функельманы, это верно, любят молчать, но когда они уже начинают кричать – так скандал выходит на всю улицу.
– Что ты кричишь, как дурак, – говорит Яков. – От этого книжка не появится обратно. Пойдем лучше контру сыграем.
– Не желаю я вашу контру, отдайте мне моего Энгельса и Каутского!
– Мотя, ты совсем сумасшедший! Я же тебе дам фору – будем играть на три рубля. Если выиграешь, покупай себе хоть десяток новых книг.
– Потому только, – говорит Мотя, – и пойду с тобой, чтобы свои книги вернуть.
Ушли они. Пришли вечером в половине двенадцатого.
– Ну что, Мотя, – спрашиваю, – как твои дела?
– Хорошие дела, когда папаша играет, как маркер. Разве можно при такой форме кончать в последнем шаре? Конечно же, он выиграет. Я не успею подойти к бильярду, как у него партия сделана.
Ну, утром встали они, Мотя и говорит:
– Папаша, хочешь контру?
– А почему нет?
Ушли. Слава Богу! Бог всегда слушает еврейские молитвы. Уже Мотя о книжках и не вспоминает.
Раньше у него только и слышишь: «Классовые перегородки, добавочная стоимость, кооперативные начала…» А теперь такие хорошие русские слова: «Красный по борту в лузу, фора, очко, алагер». Прямо сердце радовалось.
Ну, пришли они в двенадцать часов ночи – оба веселые, легли спать.
Пиджаки в мелу, взяла я почистить – что-то торчит из кармана. Э, программа кинематографа. Хе-хе! После Эрфуртской программы это, знаете, недурно. Бог таки поворачивает ухо к еврейским молитвам!
Ну, так у них так и пошло: сегодня бильярд, завтра бильярд и послезавтра тоже бильярд.
– Ну, – говорю я как-то, – слава Богу, Яша… Отвлек ты мальчика. Уже пусть он немного позанимается. И ты свой магазин забросил.
– Рано, – говорит Яша. – Еще он вчера хотел открытку с видом на Маркса купить.
Ну, рано, так рано.
Уже они кинематограф забросили, – уже программки цирка у них в кармане. Еще проходит неделя – кажется, довольно, мальчик отвлекся.
– Мотя, что же с экзаменом? Яша, что же с магазином?
– Еще не совсем хорошо, – говорит Яша, – подождем недельку. Ты думаешь, запросы так легко из человека выходят?!
Недельку так недельку. Уже у них по карманам не цирковая программа, а от кафешантана – ужасно бойкий этот Яша оказался…
– Ну, довольно, Яша, хватит! Гораздо бы лучше, чтобы Мотя за свои книги засел.
– Сегодня, – говорит Яша, – нельзя еще, мы одному человечку в одном месте быть обещали.
Сегодня одному человечку, завтра другому человечку… Вижу я, Яков мой крутить начинает.
А один раз оба этих дурака в десять часов утра явились.
– Где вы были, шарлатаны?
– У товарища ночевали. Уже было поздно, и дождик шел, так мы остались.
Странный этот дождик, который на их улице шел, а на нашей улице не шел.
– Я, – говорит Яша, – спать лягу, у меня голова болит. И у Моти тоже голова болит; пусть и он ложится.
Так вы знаете что? Взяла я их костюмы, и там лежало в карманах такое, что ужас: у Мотьки черепаховая шпилька, а у Яши черный ажурный чулок.
Это тоже дождик?!
То Эрфуртская программа, потом кинематографическая, потом от цирка, потом от шантана, а теперь такая программа, что плюнуть хочется.
– Яша! Это что значит?
– Что? Чулок! Что ты, чулков не видала?
– Где же ты его взял?
– У коммивояжера для образца.
– А зачем же он надеванный? А зачем ты пьяный? А зачем у Мотьки женская шпилька?
– Это тоже для образца.
– Что ты крутишь? Что ты мине крутишь? А отчего Мотька спать хочет? А отчего в твоей чековой книжке одни корешки? Ты с корешков жить будешь? Чтоб вас громом убило, паршивцев!
И теперь вот так оно и пошло: Мотька днем за бильярдом, а ночью его по шантанам черти таскают. Яшка днем за бильярдом, а ночью с Мотькой по шантанам бегает. Такая дружба, будто черт веревкой их связал. Отец хоть изредка в магазин за деньгами приедет, а Мотька совсем исчез! Приедет, переменит воротничок, и опять назад.
Наш еврейский Бог услышал еврейскую молитву, но только слишком; он сделал больше, чем надо. Так Мотька отвлекся, что я день и ночь плачу.
Уже Мотька отца на бильярде обыгрывает и фору ему дает, а этот старый осел на него не надыхается.
И так они оба отвлекаются, что плакать хочется. Уже и экзаменов нет, и магазина нет. Все они из дому тащат, а в дом ничего. Разве что иногда принесут в кармане кусок раздавленного ананаса или половинку шелкового корсета. И уж они крутят, уж они крутят…
Вы извините меня, что я отнимаю время разговорами, но я у вас хотела одну вещь спросить… Тут никого нет поблизости? Слушайте! Нет ли у вас свободной Эрфуртской программы или Кропоткина? Что вы знаете, утопающий за соломинку хватается, так я бы, может быть, попробовала бы… Вы знаете что? Положу Моте под подушку, может, он найдет и отвлечется немного… А тому старому ослу – сплошное ему горе – даже отвлекаться нечем! Он уже будет крутить, и крутить, и крутить до самой смерти…