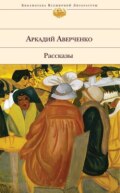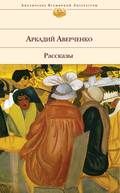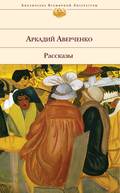Аркадий Аверченко
Московское гостеприимство
Высшая справедливость
Когда Раскатов ввалился в кабинет Кириллова – Кириллов недовольно поморщился:
– Вот еще черти тебя принесли. Тут человек работает, а ты зря шатаешься – только мешаешь.
Не обращая внимания на неудовольствие хозяина, Раскатов развалился на диване, похлопал перчаткой по колену и присвистнул…
– Работаешь? Тебе же хуже. Вот вы все – такие работнички: пока ты тут уткнулся в скучнейшие, дурацкие бумаги – живая жизнь проплывает мимо твоего носа!
Хозяин угрюмо промолчал, надеясь, что гость после такого сухого приема обидится и уйдет, но Раскатов был человек другой складки: он сладко потянулся, засвистал что-то из «Кармен» и вдруг сочно расхохотался.
– Ты чего? – угрюмо покосился хозяин Кириллов.
– Лимонова знаешь?!
– Что за странный вопрос: наш общий друг и приятель.
– То-то и оно, что приятель! Интересно мне сейчас взглянуть на его физиономию.
Кириллов лениво поинтересовался:
– А что с ним случилось, с Лимоновым?
– Ой, не могу молчать!! Ей-Богу, расскажу. Но… надеюсь, это будет между нами?
Кириллов промычал что-то невразумительное – нечто среднее между: «Да ладно уж…» и «Провались ты в болото со своими секретами».
Но Раскатов горел таким свирепым желанием рассказать, что принял это подозрительное мычание как торжественную клятву.
– Ну, так слушай! Ведь правда, жена Лимонова, Ольга Михайловна, – очаровательное существо?
– Мм… предположим! Что ж из этого следует? Позавидуем Лимонову, да и все.
– Нет, брат, ты брось!! Теперь не Лимонову нужно завидовать, а мне!
Кириллов привскочил с кресла:
– Что это значит?!
– А то и значит. Видишь ли, она мне давно нравилась… То есть, конечно, влюбленности особой не было, а так… Просто лакомый кусочек. Ухаживал я за нею вскользь, лениво, совершенно не думая, что из этого выйдет. А сегодня встречаю ее на улице, и вдруг приходит мне в голову шальная мысль: предпринять более энергичные шаги. Ну… то да се – разговорились. Соврал я, что нынче день моего рождения, и уговорил ее выпить по этому поводу бокал вина. Попали в ресторанчик, мигнул я лакею, чтоб дали отдельный кабинет, и вот… Началось невинными поцелуями, а кончилось… ха-ха-ха! Этакий бедняк этот Лимонов! Интересно бы на него сейчас взглянуть – какие у обманутых мужей лица бывают?…
Кириллов, негодующий и взволнованный, забегал по комнате.
– Послушай, Раскатов! Но ведь это же чудовищно. Ведь Лимонов твой друг…
– Голубчик!! Какое же это имеет отношение? Дружба одно, а… а… хорошенькая женщина совсем другое…
– Но ведь ты же осквернил его семейный очаг!!
– Философия. Тургеневская розовая водица.
– Ты обманул его дружбу, доверие!..
– О-о! Розовый пастушок, пасущий белых овечек на зелененькой травке. Брось! Ты дьявольски сентиментален, Кириллов, – вот уже не подозревал в тебе этого. Теперешняя жизнь, брат, жестокая штука. Общий девиз – хватай, что плывет в руки!
____________________
Кириллов молчал, о чем-то задумавшись, потом спросил странным дрогнувшим голосом:
– Значит, по-твоему, отбить у лучшего приятеля его законную жену – это ничего?
– А что делать, братуха! Нынче всяк сам за себя.
Кириллов неожиданно вскочил и, схватив руку Раскатова, горячо пожал ее.
– Спасибо, дружище!! Если бы ты знал, если бы только мог подозревать, как ты облегчил мою совесть!!..
Раскатов очень удивился.
– А что… такое? Что ты хочешь сказать?
– О, Раскатов! Если бы ты знал, как я терзался последнее время. Как мне было трудно, невыносимо трудно и тяжело – глядеть тебе прямо в глаза… Но твое признание, конечно, сняло камень с моей души.
– Экую ерунду человек мелет! Да что случилось-то?
Голос Кириллова звучал вдохновенно, почти экстазно:
– Слушай, Раскатов! Какое счастье, что я теперь могу тебе признаться во всем! Знай же, о, Раскатов, что я сделал по отношению к тебе такой же поступок, как ты – по отношению к Лимонову.
Раскатов застыл на месте, протянул вперед руки, будто защищаясь.
– Ты… ты… Стой! – беззвучно зашептал он дрожащими белыми губами. – Не хочешь ли ты сказать, что моя жена, Катя…
– Да!! Каюсь. Подошел такой момент, подхватил вихрь и закрутил! Она ведь у тебя красавица…
Раскатов застонал как раненый зверь и бессильно опустился на диван.
– И ты… ты мог так поступить со мной?!! Со своим лучшим другом?
– Да ведь ты же поступил так с Лимоновым…
– Э, «Лимонов, Лимонов»… Сейчас мы обо мне говорим, а не о Лимонове!! Боже мой, Боже, какая подлость…
– Почему?… – хладнокровно спросил Кириллов. – Ведь ты же давеча радовался своей победе – дай же и мне порадоваться.
– Будь ты проклят!! Ты разбил мою семейную жизнь…
– Брось! Тургеневская розовая водица.
– И ты еще смеешься, ты – мой близкий друг!!
– Розовые барашки на зеленой травке. Жизнь, брат, жестокая вещь. Нынче такое время, что хватай, если в руки плывет. Твоя же, брат, философия.
Раскатов вдруг поднялся с дивана; его розовое упитанное лицо исказилось и посерело…
С трудом выдавливая из себя слова, будто глотая застрявший в горле комок, он прохрипел:
– Ну, так слушай же ты!.. «Друг»! Я тебе все это выдумал, насчет Ольги Михайловны Лимоновой. Ничего между нами не было!! Просто я хотел похвастать лишней победой. Она для меня так же неприкосновенная, как и для тебя. Ну? Что ты теперь скажешь?!
Он с трудом проглотил бешеную слюну, давившую его.
Лицо Кириллова просияло, и он, подскочив к Раскатову, принялся энергично, благодарно трясти его за руки…
– Ты… Говоришь правду?! Ничего между вами не было?! Слава Богу, слава Богу!!..
– Да… – угрюмо покачал головой Раскатов. – Между мною и мадам Лимоновой ничего не было! Сознаюсь! Солгал. Но – ты?! Ты? Вползти в мой дом, как змея, вскружить жене голову, обмануть мое доверие…
Кириллов рассмеялся лучезарно и весело и обнял Раскатова за плечи:
– Да ведь и между мной и твоей женой ничего не было!!.. Клянусь тебе. Просто я хотел наказать тебя за твою подлость по отношению к Лимонову. И сочинил насчет Катерины Георгиевны – да простит она мне эту гнусность!
На лице Раскатова снова появился яркий живой румянец, сразу окрасивший его осунувшееся лицо.
– О? Правда? – радостно заторопился он. – Серьезно? Серьезно между тобой и Катей ничего не было? Ты можешь в этом поклясться?!
– Матерью своею клянусь, – серьезно и честно сказал Кириллов, открыто глядя в глаза гостю.
Гость совсем расцвел, и розы снова заиграли на его щеках и губах. Так восходящее солнце окрашивает мгновенно серый пейзаж, дремавший до того во мраке. Он минуты две глядел на хозяина, потом уголки его губ дрогнули, и он закатился таким смехом, что должен был, склонившись, опереться о спинку кресла…
– Что? Что с тобой?! – даже испугался хозяин.
– Да ведь… О-ой, не могу. Да ведь… я тебе опять соврал – насчет жены Лимонова. Было, голубчик, все было!! Я просто хотел испытать тебя – ох, не могу, сдохну от смеха – испытать тебя насчет своей жены, Кати!!.. А раз у меня дома все в порядке – вот же тебе! Пили мы вино с Лимонихой!! И целовались мы с Лимонихой!! И вообще. А ты мне клятву дал! Ишь, плутишка. Хотел своего друга напугать.
От его былой тревоги и страдания не осталось и следа. Лицо сияло, и глаза сверкали победно-торжествующе.
– Знаешь что?… – брезгливо сказал Кириллов. – Уходи! Ты мне мешаешь работать со своими глупостями. Проваливай-ка.
– Ой, уйду! Уйду, милый… Насмешил ты меня.
И, схватив шляпу, он покровительственно потрепал хозяина по плечу – и вышел.
____________________
Оставшись один, Кириллов прислушался к звуку хлопнувшей парадной двери и снял телефонную трубку.
– Девяносто два – четырнадцать! Квартира Раскатовых? Это вы, Катерина Георгиевна? Да, я, Кириллов! В прошлую среду вы сказали мне, что будете моей только в том случае, если муж вам изменит. Он вам изменил. А? Да. Сейчас был у меня, рассказывал. Ну… Я думаю – подробности лично? Приезжайте! Жду.
И трубка, повешенная на рычаг, звякнула – будто поставила точку на этом проявлении Высшей Справедливости.
Вечно-женское
Начался вечер очень мило: я сидел у Веры Николаевны и оживленно беседовал с ней о литературе, о любви, о морях-океанах, о преимуществе жареных пирожков над печеными, об искусстве смешивать духи, о нахалах, пристающих на улицах, и о полной допустимости загробной жизни.
Звонок в передней прервал мое заявление о том, что паюсную икру, размятую с сардинами и соком лимона, – никак нельзя приправлять сливочным маслом.
– Гм… Звонок… Это, вероятно, моя школьная подруга. Я ее не видела двенадцать лет.
«Чтоб ее черт унес», – подумал я. Вслух продолжал:
– Я знал даже людей, которые присыпали ее зеленым луком и петрушкой.
– Подругу? – удивилась хозяйка.
– Икру!..
– Какую? – рассеянно переспросила хозяйка, прислушиваясь.
– Паюсную!..
Я ревниво отметил, что внимание ее было уже не около меня, а в передней, откуда доносился стук сбрасываемых ботиков и шелест снимаемых одежд.
– Ну да, это она! – просияла хозяйка. – Боже ты мой… двенадцать лет! Ведь мы расстались совсем девчонками! С седьмого класса…
Сначала в комнату влетело что-то темно-коричневое, потом ему навстречу шумно двинулось зеленовато-голубое, потом эти два кружащихся смерча соединились, сплелись воедино и образовали один бурный, бешено вращающийся на своей оси смерч, в котором ничего нельзя было разобрать, кроме мелькающих рук, писка и чмоканья… Жуткое зрелище!..
В отношении поцелуев разгон был такой, что инерция еще долго не могла прекратиться. Но на третьей минуте подруга засбоила, то, что называется у коннозаводчиков «сошла с круга», и отстала в одном темпе: именно, хозяйка чмокала ее в то самое время, когда щеки подруги отрывались от хозяйкиных губ; чтобы вознаградить хозяйку за этот холостой поцелуй в воздух, подруга ретиво возвращала лобзанье, но в этот момент хозяйкина щека, в свою очередь, уже отрывалась от подругиных губ, и снова поцелуи, как петарды, безвредно разряжались в воздухе.
Наконец смерч распался на свои основные цвета – темно-коричневый и зеленовато-голубой, подруги отдышались, фыркнули, точно запаренные лошади, отчетливо, как по команде, вынули из сумочек какие-то красные палочки, намазали губы, попудрили носы, еще раз обменялись радостными взглядами, и только тогда их внимание обратилось на меня, скромного, забытого, оглушенного, ослепленного шумом и треском.
– Позволь тебе представить, Нюра, мой большой друг.
Подруга бросила на меня рассеянный взгляд и швырнула в мою сторону, как собаке кость:
– Очень приятно.
– Я думаю! – самодовольно хихикнул я, радуясь уже тому, что они обратили на меня внимание.
– Что вы сказали?!
– Я говорю, что Вера Николаевна много мне о вас говорила.
Соврал. Для того и соврал, чтобы они обратили на меня хоть какое-нибудь внимание.
Но нет ничего ужаснее зрелища двух встретившихся после долгой разлуки подруг. От созерцания такой пары холодеет кровь и свертывается мозг у самого стойкого человека.
Они уселись на диван по обе стороны от меня, и с этого момента я превратился в ничтожество, в диванную подушку, через которую можно переговариваться, совершенно ее не замечая.
Глаза их восторженно вперились в лица друг друга, а руки сплелись через меня и невозмутимо покоились на моих кротких коленях.
– Так вот оно, значит, как, – проворковала хозяйка.
– Да-а…
– А ты помнишь Кузика?
Обе дружно рассмеялись.
– Ну, еще бы! «Медам, берит на себе труд». Ха-ха! А где сейчас Лили?
– Ну, как же! Она вышла за Савосю Брыкина!
– Что ты говоришь?! Вот не думала. А Жужуточка?
– Он ведь во Владивосток уехал. Алика на войне убили.
– А помнишь Мику в ящике?
– Ха-ха-ха…
– Какого Мику? – спросил я с наружным интересом.
– Ах, этого вам нельзя знать. Не совсем прилично. Костя Лимончик сделался таким интересным, что не узнаешь. На виолончели играет.
– Что вы говорите?! – ахнул я, будя внутри себя дремлющий интерес к неведомому виртуозу Косте.
– Неужели на виолончели играет? Кто бы мог подумать! Ну и ну!..
– А вы его знаете?
– Мм… Нет.
– Ну, так и не суйтесь не в свое дело. А где сейчас Григорий Кузьмич?…
– Он же живет до сих пор на Почтовой, 82.
Незнакомые имена, фамилии, адреса мелькали передо мной так быстро, будто бы я помимо воли погрузился в чтение старой телефонной книги.
На меня перестали обращать какое бы то ни было внимание. Лица горели, глаза сверкали, а из уст, вперемешку со смехом, сыпались десятки Аликов, Жужуточек и Григорий Кузьмичей. Но не такой я человек, чтобы примириться с небрежностью в отношении, подобной мне, важной особы… Мне скучно, на меня не обращают внимания – так мне сейчас будет весело, и меня почтят самым лихорадочным вниманием! Я внутренне подобрался, подстерегая удобный момент для прыжка…
– А где теперь тот студент, который, помнишь, за тобой ухаживал?
– Адя Берс?
– Адя Берс?! – воскликнул я. – Неужели вы о нем ничего не знаете?
– А вы с ним знакомы?
– Ну!! друзья! Мне его так жалко, что и рассказать невозможно.
– А что с ним?
– Ну, как же. Сварился. В мыле.
– В каком мыле?
– Целая история. Жуткая. Вы Костю Драпкина знаете?
– Нет…
– Ну, еще бы. Так у этого Кости был мыльный завод…
– Не тяните, Господи!!
– …Как-то раз осматривали они с Адей чан, где варилось мыло. Адя нечаянно оступился, да и вниз! Бух! Я до сих пор не могу опомниться от этого кошмара. Как только умываюсь, так и поглядываю на мыло – вдруг найду Адину пуговицу или клок волос.
– Какой ужас! Воображаю горе его сестры Людмилочки.
– Ей все равно, – горестно качнул я головой. – Раздавлена.
– ??!!
– Сенокосилкой. В имении графа Келлера. В пьяном виде.
– Что за вздор?! Разве Люда пила?
– Как лошадь. Алкоголизм. Наследственность. Вместе с Жужуточкой и пили.
– А вы и Жужуточку знаете?
– Как свои пять пальцев. Его повесили в Харбене. Организовал шайку хунгузов. Поймали в опиокурильне. Отбивался как лев. Семь человек.
Я достиг своего. Внимание подруг было приковано ко мне всецело. Ротики их доверчиво раскрылись от избытка интереса и груди порывисто дышали.
Некоторая мрачность и трагизм, которыми были окрашены последние минуты целой вереницы старых друзей обеих подруг, до известной степени искупалась захватывающим интересом и романтичностью фабулы.
Не обошлось и без легкомысленного элемента: Миля пошла на сцену, в кафешантан, и теперь танцует со своим партнером, негром, тустеп.
Я сделался душой маленького общества: все-то я знал, обо всех-то я рассуждал с видом близкого приятеля и общего конфидента.
Царил я около получаса.
После одной из пауз, посвященных отданию последнего долга трагически погибшему при пожаре кинематографа учителю немецкого языка Кузику, – хозяйка вздохнула и спросила:
– А ты помнишь Катину «Липовку»!.. Что с ним?
– Я знаю, – вырвался я вперед. – Он женился на цыганке из хора Шишкина, и она его от ревности отравила. Совсем на днях. Сулемой. В пирожке дала. С капустой. Как сноп! Предстоит сенсационный процесс!..
Обе подруги внимательно взглянули в мое лицо.
– Кого? – в один голос спросили обе.
– Что – кого?
– Кого отравили?
– Этого самого… Липовку, как вы его… Гм!.. Назвали. Катиного Липовку отравили… Такого человека отравить, а? Здоровяк был. И пел – как малиновка.
– Кто?
– Да этот же, Боже мой… Липовка!
Хозяйка встала с дивана с видом, не предвещавшим ничего для меня доброго и радостного…
– Вы знаете, что такое Липовка?
– Это… он… Такой… Липовка. По прозвищу. Брюнетик такой.
– Послушайте, вы! Нахал вы этакий! «Липовка» – это Катино имение, и оно не могло жениться на цыганке из хора, и его не могли отравить!! Как малиновка он пел, чтоб вы пропали?! Я уже давно заметила, что вы слишком развязно отправляете всех на тот свет. Теперь я понимаю…
– Прогони его, – посоветовала разъяренная подруга. – Пусть он уйдет вон!
– Ты когда уезжаешь, Нюра? – спросила хозяйка.
– Через десять дней.
– Так вот что, расторопный молодой человек!.. Уходите и являйтесь не ранее чем через десять дней. Я накладываю на вас епитимью.
Я цинично захохотал, послал дамам воздушный поцелуй и, крикнув: «Привет от меня Жужутке», – вышел в переднюю.
Натягивая пальто, услышал:
– Вот нахал-то. Без него, по крайней мере, наговоримся. Послушай, а где Диночка Каплан?
– В Курске. Уже четверо детей. Ха-ха-ха! А помнишь апельсинное желе на пикнике?…
– А помнишь…
– А помнишь…
Неуклюжая громоздкая машина воспоминаний запыхтела и двинулась, увозя упоенных подруг в туманную даль. Эх, жизнь наша! Все мелочь, все тлен, дорогой читатель…