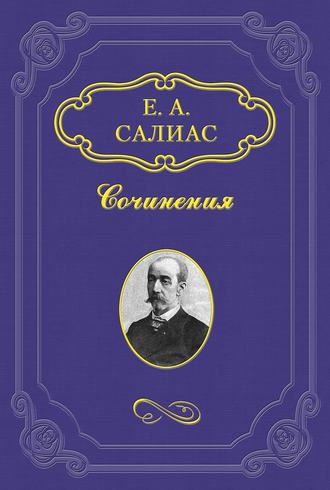
Евгений Салиас де Турнемир
Аракчеевский подкидыш
XXVIII
Часа через два после объяснения Шумского со Шваньским Лепорелло выехал из дому, направляясь на извозчичий двор. Он был совершенно смущен и как в воду опущенный.
«Что из всего этого выйдет?» – думал он и повторял вслух:
– Бросили мы было разные колена отмачивать, а теперь опять. Да еще к тому же я за него отдувайся!
Спустя час после Шваньского и сам Шумский вышел из дому и медленным шагом направился пешком на Невский. Он шел задумчивый и рассеянный, глядя себе под ноги и умышленно не кланяясь и не отзываясь на оклик знакомых, которых встречал.
«Вот черти! – думал он через несколько минут, озираясь на прохожих. – Вот жизнь! Живут, точно у ветряной мельницы крылья вертятся. Снаружи все вертится, а там внутри мука мелется то шибче, то тише, смотря какой ветер подует. Вертится, вертится, покуда не развалится. А тут у тебя жизнь какая-то дьявольская. За одну осень последнюю, что перегорело внутри… Где ни идешь, на каждом месте вспоминаешь что-нибудь скверное».
– Ну, вот и это место хорошее! – выговорил он вслух.
Глаза его случайно упали на подъезд того ресторана, где недавно встретился он с фон Энзе, едва не сделался убийцей и был сам без ножа зарезан.
И Шумскому показалось, что на подъезде, на вывеске, на окнах и там внутри, в горницах, повсюду было написано или виднелось одно слово: «подкидыш». Он вздохнул тяжело, снова опустил глаза в землю и продолжал тихо подвигаться вперед.
Через минуту чьё-то восклицанье как бы разбудило его и привело в себя:
– Батюшки! Смотри! Смотри! Что такое? – раздался около него голос какого-то господина.
Шумский поднял глаза, и лицо его сразу оживилось, глаза блеснули и он улыбнулся радостно.
Среди улицы тихой рысью двигалась навстречу запряженная четверкой большая карета. И все, что было народу на Невском – пешеходов и проезжих – все глядело на эту карету так же, как и Шумский. Некоторые ворочались назад, иные даже бежали, следуя по направлению кареты.
Кузов довольно большого экипажа был ярко выкрашен вкось по диагонали в три цвета: белый, красный в черный, так же, как были уже вымазаны в городе две гауптвахты и несколько столбов, прилегающих к Дворцовой набережной. Козел не было. Кучер сидел очень низко, так, что голова его едва была видна за крупами лошадей. А над ним спереди, на кузове без окон, ярко сияли две огромные красные буквы: Д и У.
Кругом Шумского раздавались голоса:
– Что за притча! Что за дьявол! Вот так карета!! Что же эти буквы значат?..
Экипаж поравнялся с Шуйским, и он увидел в нем такую фигуру, что неудержимо и звонко расхохотался на всю улицу.
В карете сидело крошечное существо, казалось мальчик лет двенадцати, настолько от ужаса своего невероятного положения съежился весь Иван Андреевич.
Он сидел как раз посереди просторной кареты, понурившись, опустив голову на грудь, нахлобучив шапку по самые брови, и, вдобавок, неизвестно почему сложил руки на груди крестом, как складывают их у покойников.
Карета, привлекая общее внимание, сопровождаемая гулом голосов, ахов, восклицаний, шуток и острот, проехала мимо. И все, что оставалось теперь позади и смотрело вслед карете, начало хохотать, прочитывая продолженье…
Сзади на кузове теми же большими красными буквами стояла надпись: «РАК».
– Дурак! Дурак! – раздавалось кругом. – Вот так штука! Кто же дурак-то?.. Сам он, барин этот? Вестимо, дурак!
– Эх, господа! – раздался вдруг голос какого-то высокого, на вид очень важного господина. – Эта карета такого свойства, что всякому лучше придержать язык за зубами и не шутить на ее счет, а еще того лучше – не рассказывать, что видел.
Шумский двинулся далее, рассчитывая продолжать свою инспекцию и, прогулявшись немного, идти назад, чтобы видеть, поедет ли Шваньский обратно.
Через полчаса он вдали снова увидел карету, возвращающуюся по Невскому. На этот раз солнце блеснуло из-за облаков и ярко-красное «ДУ» на передней части кузова блестело весело и игриво, будто дразнило глаза.
Разумеется, всюду, где шел Шумский, было только и речи, что о путешествующей в столице расписной в три колера карете и о надписи «дурак».
– Он-то дурак – это точно, – шептал Шумский. – А вот умнику-то сойдет ли это даром? Впрочем, что же тревожиться об этом, коли умник-то завтра об эту пору будет уже в селении праведных.
В сумерки, когда заблаговестили к вечерням, костромич Иван Яковлевич, собравшийся было помолиться в храм Божий, очутился совсем в другом месте – в полиции.
XXIX
В отсутствие графа Аракчеева из Гру́зина все население его нравственно отдыхало. Всякий человек знал по крайней мере, что спокойно доживет без беды до вечера. Этого было достаточно для всякого гру́зинца, чтобы поглядывать веселее и быть счастливым. В усадьбе наступало большее оживление. Аппартаменты графа бывали заперты, и только на половине Минкиной сказывалась жизнь, но сказывалась своеобразно и дико…
Настасья Федоровна была такой же деспот и тиран, как и сам Аракчеев, но на свой женский образец. Граф наказывал постоянно за всякий пустяк, но делалось это как-то формально, холодно, административно. Он редко кричал на провинившегося, еще реже ругался и никогда не дрался собственноручно, считая это фамильярностью. Он позволял себе бить только своего камердинера, который имел на это своего рода права, ибо был его ровесником, был когда-то другом детства и товарищем детских игр.
Но хотя граф не любил кричать и браниться, он одним взглядом или движением нагонял смертельный страх на крепостного человека. Глухим, спокойным голосом требовал он у провинившегося его «винную» книжку и так как во всех комнатах на отдельных столах были всегда чернильницы и очинённые гусиные перья, то граф мог всюду всегда без промедления вписать вину, сделав при этом загадочную пометку.
Если вина оказывалась третьей, или была важная вина, то Аракчеев своим гнусливо тихим голосом объявлял виновному жесточайшее наказание розгами, мочеными в рассоле, батогами, или прямо, не ухмыляясь, совершенно серьезно поздравлял своего раба слугою царя, т. е. солдатом, или приказывал собираться в путь на поселенье в Сибирь.
Весь женский персонал в Гру́зине граф никогда не трогал и, заметив какую-либо вину, заявлял о ней Настасье Федоровне. С своей стороны Минкина никогда ни единым словом не погрозилась мужскому персоналу гру́зинской дворни. Это было ей строго запрещено самим графом. Зато ей предоставлялась полная воля по отношению к женщинам и девушкам. И с ними барская барыня отводила душу, отличалась особенной жестокостью.
Слава об ее подвигах давно распространилась далеко за пределы губернии. В столице тоже всем было известно, как расправляется аракчеевская графиня с дворовыми женского пола. В Петербурге многие звали ее второй Салтычихой.
Часто рассказывались про Минкину ужасные поступки, но всеобщая ненависть к временщику спасала ее. Когда в столицу доходил какой-нибудь зверский поступок ее с кем-либо из дворовых девушек, то слуху не верили, отчасти благодаря его жестокости, отчасти думая, что петербуржцы из злобы к Аракчееву выдумывают и клевещут даже на его ключницу.
Разумеется, многие и многие знали, что аракчеевская графиня все-таки людоедка. Единственная личность, не знавшая даже и слухов, был государь. В бытность свою в Гру́зине он ласково и приветливо обошелся с Минкиной, видя в ней человека более четверти столетия преданного его любимцу. Открыть глаза государю на зверские поступки и временщика, и его любовницы никто не дерзал.
Когда Аракчеев бывал в Гру́зине, Настасья Федоровна несколько стеснялась: чинила суд и расправу осторожнее, не потому, чтобы ей это было запрещено, а потому что граф не любил, чтобы до него достигали крики и бабий вой. А барабанный бой при наказании женщины считался неуместным.
Зато, когда граф уезжал из Гру́зина, Настасья Федоровна давала волю своим затеям и на ее половине от зари до зари слышен был как ее крик, так и вытье ее жертв. Вдобавок Минкина, имевшая слабость к спиртным напиткам, в отсутствие графа не могла провести двух, трех часов без водки.
Пообедав в час дня, она вставала из-за стола совершенно пьяная, и тогда начиналась расправа со всякой подвернувшейся под руку женщиной. Затем она засыпала, просыпалась в сумерки, пила чай или вернее ром с малым количеством жиденького чаю и к вечеру бывала снова пьяна, а хмель снова требовал жертв.
В деле мучительства дворовых женщин и девушек, даже девчонок, проявлялась у нее тоже какая-то животная страсть и тоже какой-то запой.
Случалось Минкиной целую неделю прожить смирно и пальцем не тронуть никого. Случалось наоборот за одну неделю перебрать чуть не весь наличный состав женского персонала. Тогда на ее половине, в сенях, на чердаке, на деловом дворе и на конюшне почти не прекращались наказания.
На этот раз по выезде графа случилось то же самое.
Аракчеев не успел доехать до Петербурга, как в Гру́зине уже были нещадно наказаны восемь женщин. Но теперь главной намеченной жертвой у Минкиной была Пашута. С той минуты, что Настасья Федоровна увидела девушку сильно изменившейся в Петербурге к лучшему, беспричинная злоба шевельнулась в ней.
– Погоди барышня! Погоди прелестница! Белоручка!.. – ворчала она себе под нос.
С первого же дня она почувствовала особым чутьем во взгляде Пашуты то, чего не переносила никогда: грустную покорность судьбе, твердую волю перенести все и презрение к людоедке. При первом же свидании Минкина, как бы отвечая на взгляд Пашуты, выговорила:
– Погоди! Я тебя проберу! Глазища-то выцветут!
Покуда Шумский был в усадьбе, Минкина не решилась, конечно, пальцем тронуть девушку, но едва только он выехал из усадьбы, как мытарства Пашуты начались.
Призвав девушку к себе, Настасья Федоровна объявила ей, что так как она сумела в Петербурге услужить какой-то баронессе, то будет состоять при ней в качестве главной горничной.
И с этого же дня пошло ежечасное мученье, начавшееся с пощечин. Так как Минкина постоянно дралась сама, то руки ее бывали почти всегда в синяках. Люди немало удивлялись этому и всем им казалось, что другой бы барыне никаких рук не хватило, ибо всякие кулаки истреплятся при таком занятии! Холопы не знали того простого объяснения, что кулаки Минкиной тоже обколотились и загрубели в силу привычки. Она бы могла теперь со всего маху бить кулаком даже по стене, не ощущая и половины той боли, которую почувствовала бы другая.
Пашута служила теперь в горницах Настасьи Федоровны, вызываемая и понукаемая ею по нескольку раз в час. Девушка ходила бледная, опустив глаза и понурившись. Она отлично понимала, что как только уедет граф, не пройдет двух, трех дней, и она не избегнет того, чего боялась всю жизнь – наказания на конюшне.
И действительно, едва только Аракчеев выехал из Гру́зина, как Минкина, страстно желавшая скорей истязать девушку, начала искать предлога.
И тут явилась диковинная черта быта. Нужно было соблюсти приличие, остаться строгой, но справедливой барыней! Несмотря на свое желание тотчас же подвергнуть Пашуту жесточайшему истязанию, Настасья Федоровна не могла этого сделать. Ее злобу останавливало чувство условного приличия или условной справедливости.
Ей нужно было оказаться якобы правой пред глазами дворни, чтобы Пашута действительно провинилась хоть бы в мелочах. А девушка, как на зло, безмолвно сносила пощечины, тумаки в голову, площадные ругательства и всякие издевательства. Уже раз десять Настасья Федоровна грозилась девушке немедленно отправить ее на расправу к конюхам, но не делала этого, останавливаемая стыдом перед дворней, ибо не было еще повода… Он не давался в руки…
Вместе с тем, зная, что граф скоро вернется опять и проживет, пожалуй, более недели в Гру́зине, Минкина пользовалась временем, чтобы предаваться пьянству. Поэтому половину дня она дремала или просто валялась без чувств на диване в своей горнице, что однако не мешало ей крепко спать и всю ночь.
В остальное время она подвергала разным мытарствам и наказаниям разных женщин и с каким-то изуродованным чувством наслаждения людоеда думала и мечтала о наказании Пашуты. Иногда будучи вполпьяна она, ухмыляясь, говорила девушке:
– Постой! Барышня! Теперь не хочу. Ты у меня на закуску пойдешь!
Наконец, однажды в сумерки, пролежав с обеда почти в бесчувственном состоянии, Минкина пришла в себя и, вызвав двух горничных, заставила их потихоньку поливать себе голову холодной водой. Затем она села за чай и позвала Пашуту к себе.
Вскоре в соседних горницах услыхали дикие крики барыни и громкое рыданье девушки. Так как это случилось в первый раз, а до тех пор Пашута молчаливо и безропотно сносила все с немым отчаянием, то все насторожились и прислушивались. В горнице Настасьи Федоровны раздался стук, произошло что-то, а затем Пашута выбежала оттуда, как безумная, с рассеченным лицом, по которому струилась кровь.
Минкина тоже появилась в дверях и сиплым от гнева голосом позвала к себе горничных. Прибежавшие на зов дворовые девушки нашли ее в совершенно диком состоянии остервенения. Она легла на диван, задыхаясь и охая, как от боли. Изредка только вскрикивала она:
– Изведу! Изведу!
На платье ее и в сжатых судорожно кулаках виднелись волосы ее жертвы. Оказалось, что тут произошло то, что бывало отчасти редко: было собственноручное таскание за волосы.
Между тем, внизу, в маленькой горнице, близ кухни сидела на ларе Пашута, схватив голову руками. Перед ней сидел Копчик в белом фартуке и колпаке, так как он уже несколько дней был назначен в должность помощника к повару.
Пашута прибежала к брату совершенно бессознательно, без всякой цели. Она ждала каждую минуту, что за ней придут, чтобы вести ее на деловой двор или на конюшню для истязания. Брат и сестра сидели и молчали.
Наконец, Копчик внезапно поднялся, сбросил с себя колпак и фартук, надел тулуп и стал звать сестру. Пашута сидела, как помертвелая, и ничего не слышала. Пришлось растолкать ее, как спящую, и привести в чувство.
– Где у тебя платье теплое? Говори скорей!.. Поняла что ли?.. Скорей…
Не сразу ответила девушка на вопрос. Васька бросился наверх и через несколько минут был снова в горнице и одевал сестру. Когда она была готова, он схватил ее и почти потащил за собой. Очнувшись на воздухе, девушка окончательно пришла в себя и вымолвила:
– Куда ты?
– Иди! Иди… Чего уж тут! Не мы первые, не мы последние… Хуже не будет! Спасибо деньги есть!..
Минут через двадцать брат и сестра были на краю усадьбы и двинулись в поле. В версте от Гру́зина их нагнал проезжий мужиченко. Они сговорились, называя себя прохожими издалека, сели к нему и двинулись рысцой.
Только через полчаса молчания Васька объяснил сестре, что они ни что иное, как беглые.
– Куда? Еще неведомо. Куда глаза глядят! А там видно будет.
Пашута вздохнула глубоко и не ответила ни слова.
XXX
Ночью беглецы были уже на Петербургской дороге. Пашута пришла в себя, несколько ободрилась и благодарила брата, что он надумал бежать из Гру́зина. Девушке казалось, что если побег будет и неудачен, то все-таки она ничего не теряет. Ей, очевидно, предстояло жестокое наказание розгами, а она боялась этого пуще всего. Она предпочла бы не только ссылку в Сибирь, но, пожалуй даже, и каторжные работы.
Благодаря деньгам, которые нашлись у Копчика, они наняли подводу и подвигались к столице хотя и медленно, но без перерыва. Переночевав в какой-то деревушке, брат и сестра после долгих совещаний решили явиться прямо в дом барона Нейдшильда и просить временного убежища.
Пашута вспомнила, что когда шло дело о покупке ее у графа, то после отказа его баронесса предлагала ей просто бежать и укрыться в Финляндию.
«Авось и теперь добрая барышня не откажет в той же помощи», – думалось Пашуте.
На другой день около полудня беглецы были уже на Васильевском острове. Васька оставался в подводе на улице, а Пашута вошла в дом и велела доложить о себе баронессе.
Ева при имени любимицы страшно обрадовалась, вышла из своих комнат к ней навстречу и, схватив за руки, повела к себе. Молча и с изумлением вгляделась Ева в лицо своей прежней любимицы.
– Как ты переменилась? Что с тобой было? – участливо вымолвила она. – Садись, рассказывай! Верно беды всякие?
Пашута в двух словах объяснила, что она бежала из Гру́зина от страха телесного наказания и рассчитывает на помощь баронессы. Прежде всего она попросила впустить в дом брата, который ждал на улице. Ева распорядилась тотчас же. Затем, покуда Ваську кормили внизу в людской, баронесса велела подать чаю и начала поить и кормить Пашуту. Отдохнув немного, Пашута рассказала подробно все свои приключения и свою каторжную жизнь в Гру́зине.
Конечно, не раз приходилось девушке упоминать о Шумском. Собственно он был главным виновником всего, а между тем у Пашуты почти не было никакого озлобления на него.
– Диковинный он! – говорила Пашута. – Бог его знает, какой диковинный! Сам меня разыскал полицией, свез в Гру́зино на расправу, а там позвал, говорил со мной ласково, много говорил, жалел меня, и во мне к нему как-то никакого зла нету.
И затем Пашута, уже забыв говорить о себе и своей судьбе, передала Еве беседу свою с Шумским о ней – баронессе. Она созналась, что даже решилась сказать ему о том, как баронесса неравнодушна к нему.
– Он этого не знал, барышня, и мои слова так его всего и перевернули! – прибавила Пашута.
Ева вспыхнула слегка, но смолчала на это заявление и задумалась. Затем после долгой паузы она выговорила:
– Что ж. Это правда! Пускай знает.
И баронесса в свой черед рассказала любимице о том, как граф Аракчеев вызвал ее отца как бы ради объяснения по делу, а сам в грубой форме стал сватать своего приемного сына.
Ева не была оскорблена поступком графа, смотрела на все дело иными глазами, но отец ее был тогда настолько оскорблен и раздражен, что к нему в первый раз в жизни и приступу нет. Ева надеялась, что только со временем, когда уляжется гнев доброго барона, можно будет приступить к нему с просьбой о согласии. А покуда баронесса созналась, что она находится в тревожном состоянии духа, так как уже второй день носится в Петербурге слух о предстоящем поединке Шумского с фон Энзе.
– Каждый день ожидаю я известия страшного и горестного, – сказала Ева.
– За кого же вы боитесь? – спросила Пашута. – За Михаила Андреевича?..
– За обоих, но только разно. Один хороший, честный, добрый. Кроме добра, я от него ничего не видела, и он уже давно любит меня. Я за него, конечно, боюсь. Но за другого, который много мне зла причинил, боюсь еще больше. В случае беды с одним мне будет очень горько, а случись беда с другим, я думаю, что тогда и моя жизнь прекратится. Я буду жить для отца, а не для себя.
Беседу баронессы с Пашутой прервал человек, доложивший, что барон просит барышню к себе тотчас же.
Ева, придя к отцу, нашла его несколько встревоженным. Он узнал о присутствии в доме людей графа Аракчеева и был серьезно озабочен неосторожным поступком дочери. Барон почему-то догадался, что люди графа ищут у него убежища, как беглецы. Ева подтвердила его подозрения.
Нейдшильд стал объяснять дочери то щекотливое положение, в которое они будут поставлены, если беглецов полиция отыщет у них Аракчеев, уже взбешенный недостаточной податливостью барона, мог придраться к этому случаю, чтобы иметь повод наделать ему всяких неприятностей.
Ева стала просить отца облегчить по крайней мере Пащуте с братом способ укрыться в Финляндии.
Барон объяснил, что это дело крайне мудренное, так как на границе великого княжества спрашиваются паспорта. Летом, во время навигации можно было бы тайком помочь Пашуте и Ваське пробраться в Финляндию на каком-нибудь купеческом корабле и дозволить им поселиться невдалеке от имения барона. Но зимой не было никакой возможности устроить побега. При этом барон стал убедительно уговаривать дочь не держать любимицы с братом у них в доме и тотчас же сбыть их с рук.
Ева вернулась к себе совершенно расстроенная и, объяснив все Пашуте, готова была заплакать.
Пашута оказалась благоразумнее и стала оправдывать барона, находя, что он поступает совершенно правильно. Она только потому и решилась явиться к ним в дом, что думала будет возможность немедленно отправиться далее и бежать в Финляндию. Но оставаться у них было, конечно, невозможно. Полиция, извещенная из Гру́зина об их бегстве, не преминула бы их тотчас найти в доме барона.
– Что же ты теперь будешь делать, моя бедная? – воскликнула Ева.
Пашута вздохнула, подняла глаза на свою дорогую барышню и выговорила странным голосом:
– Есть человек в Петербурге, который меня и брата укроет и всякое одолжение нам окажет или же тотчас же выдаст нас обоих с головой обратно в Гру́зино.
– Кто же это такой?
– Догадайтесь, барышня! Немудрено догадаться. Это диковинный человек! Или он нас сейчас же с полицией отправит к графу, или устроит у себя и будет за нас горой стоять, потому что он не таков, как все люди, а так Бог его ведает, какой он уродился. Я так рассуждаю, барышня, что этого человека можно совсем легко и ненавидеть, и обожать. Есть за что презирать его и все это знают. А есть за что – и я это верно знаю – за что просто молиться на него. А эдакое он скрывает пуще преступленья. Я о нем много чего знаю, что вам никогда не рассказывала. Зла была на него за его ухищренья против вас. Что он денег раздает неимущим. Страсть!.. Раз пьяного мужика спасая из Невы, чуть сам не утоп. А раз было, взяв с собою брата моего, пошел он по газетному объявленью покупать какую-то диковинно большущую собаку у одного совсем бедного чиновника. Заплатил он сто рублей и велел Васе брать собаку и вести к себе. А тут вдруг все дети этого чиновника прощаются с псом, целуются. Он поглядел да пса этого и подарил детям, а денег не взял обратно. И много, много эдакого за ним водится. А в ином в чем он душегуб. Одного дворового слугу убил ведь чем-то из собственных рук. Бутылкой что ли или канделябром. Да. От него всего жди. А больше хорошего, чем худого. На него закон не писан!
– Как? Неужели ты решишься пойти к нему! – воскликнула Ева, зная, конечно, о ком идет речь.
– Да. А почему же не идти?!.
– К господину Шумскому?
– Да, барышня. И сдается мне по всему, что теперь он нас с братом не выдаст. Никто не знает, чего он сделает, чего нет! Да и сам он не знает, что завтра натворит хорошего ли, худого ли…
Пашута стала просить баронессу оставить ее брата у себя в доме хотя бы только до вечера, а сама тотчас же собралась к недавнему злейшему врагу своему, потому, что он действительно мало походил на всех других людей. Когда Пашута уже прощалась с баронессой, эта вдруг выговорила упавшим голосом:
– Как бы мне хотелось видеть его хоть на секунду.
– Михаила Андреевича?
– Я его не видала с тех пор, как он был у нас с своим предложением. Подумай, Пашута! Ведь сто лет прошло…
– Хотите, барышня, я это устрою? Я скажу вам, где, когда он будет, вы и повидаетесь…
Ева вспыхнула. Яркий, пламенный румянец разлился по ее снежно-белому лицу.
– Хорошо… Сделай… – едва внятно выговорила она, потупившись и, затем, крепко обняв Пашуту, пылко поцеловала ее несколько раз. Пашуте почудилось, что баронесса, целуя ее, не ей предназначает мысленно эти страстные поцелуи.
– Вот как бывает… – задумчиво заключила Пашута. – То мешала всячески ему, а теперь сама помогать свиданьям вызываюсь. Кто подумает из подлости, страха ради Минкиной и Гру́зина… А ей-Богу нет… Ради вас обоих…







