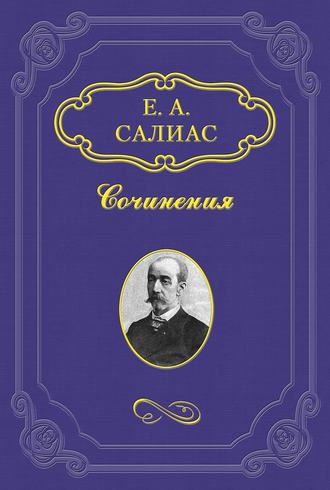
Евгений Салиас де Турнемир
Аракчеевский подкидыш
XLIX
В Гру́зине в продолжение целых трех дней после бегства Пашуты с братом длилась настоящая буря. Настасья Федоровна была вне себя от злобы и, как разъяренный зверь, доходила до такого бешенства, что рвала на себе волосы и била себя кулаками по голове. Если бы в эту минуту попались ей в руки эти две жертвы, то, конечно, они не остались бы в живых от истязаний.
Заподозрив и наказав зря около дюжины женщин, Настасья Федоровна не выдержала и в первый раз с тех пор, что была сожительницей Аракчеева, распространила свой гнев на мужской персонал усадьбы. Несмотря на строгое запрещение графа наказывать кого-либо из дворовых помимо женщин, Настасья Федоровна присудила «к рассолу» двоих людей, которых подозревала, как пособников, помогавших беглецам.
Погоня, разумеется, была послана повсюду. Тотчас же был отправлен гонец к графу в Петербург, и столичная полиция была им уведомлена. Настасья Федоровна не сомневалась в том, что и девушка, и поваренок будут вскоре разысканы и доставлены, но озлобленное нетерпение, зверская жажда мести требовали, чтобы жертвы тотчас же, без малейшего промедления очутились в ее власти. Месть через несколько суток не была бы так сладка, как теперь, а удовлетворение этого чувства было в Минкиной такой же страстью, как и к вину.
На третий день она, однако, успокоилась несколько и в сумерки была даже в особо хорошем расположении духа. Многих гру́зинцев обстоятельство это удивило. Пошли толки, догадки. Так как все ожидали, что «Аракчеевская графиня» будет свирепствовать вплоть до появления беглецов, то нежданная перемена в ней заставила всех обитателей Гру́зина недоумевать и стараться разгадать загадку.
И при этом всеобщем настроении не мудрено было отгадать нечто или придумать. И все дворовые, находившиеся в ближайших отношениях к графской сожительнице, сразу, будто по мановению жезла волшебника додумались до невероятного умозаключения, которое их самих испугало.
Все ли они были задним умом крепки или все и прежде думали нечто, но мысленно отрицали догадку, или случилось что-нибудь новое, мелкое, едва заметное, но подтвердившее давнишнее подозрение. Однако, все кому пришло это нечто на ум, не только молчали, но боялись даже и думать о новости.
А это нечто новое, смутно мелькавшее в голове гру́зинцев, были подозрительные отношения, возникшие между Настасьей Федоровной и тем молодым аптекарским помощником, которого когда-то граф взял в дом.
Молодой малый, тихий, скромный донельзя, кроткий, но несколько хитрый и осторожный, уже давно сумел себя поставить известным образом в усадьбе. Красивый и молодой, по наружности совсем барин-дворянин, с белыми, чистыми руками, с изящными движениями он совсем не подходил к должности помощника дворецкого, в которую вдруг попал.
И скоро этот новый обыватель Гру́зина, по имени Петр Иванович Силин, стал любим и уважаем всеми. Вскоре заметили, что он становится особым любимцем графа, умеет ладить с ним. Петру Ивановичу случалось иногда по часу оставаться в кабинете графа и беседовать с ним. О чем шла беседа никто, конечно, не знал, но все замечали, что после каждого раза Аракчеев все мягче и ласковее относился к молодому человеку.
Через несколько времени Петр Иванович стал появляться на половине у Настасьи Федоровны, оставаться у нее, беседуя с ней. Наконец, она стала звать его к себе чаще то «на чашку чаю», то «на словечко». Но чашка чая длилась часа по три, словечко длилось по часу.
Грузинцы поняли, что Настасья ухаживает за любимцем графа, желая расположить его в свою пользу, боясь известного рода соперничества. Подобное отношение ее к людям, которые нравились графу, было не новостью. Всех, кого ласкал Аракчеев, дарила и она своим вниманием и заискивала перед ними, как бы опасаясь их влияния.
Однако, вскоре гру́зинцам стало казаться, что Настасья Федоровна относится к Силину чересчур милостиво. Сиденье его у нее в гостях становилось все продолжительнее. Иногда он выходил от нее уже очень поздно вечером, и каждый раз после этого Настасья Федоровна бывала в таком добродушном расположении духа, что гру́зинцы дивились.
– Волк овечью шкуру вздел! – говорили они.
И вдруг теперь, на третий день после бури по поводу бегства Пашуты и Васьки, гру́зинцы неведомо почему вдруг нечто сообразили и поняли. Случилось ли это от какой-либо неосторожности самой Настасьи или Силина, или от чего-либо, бросившегося кому-либо в глаза, но в этот день все обитатели, переглядываясь, ни слова друг дружке не говорили о новости, но все понимали, что у каждого из них в мыслях одно и то же соображение.
Разумеется, каждому из обитателей тотчас пришел на ум вопрос:
«Что же будет, если это нечто раскроется и дойдет до графа?»
Но как дойдет? Сам граф никогда до этого не додумается, а из гру́зинцев, конечно, никто не пойдет рисковать своей головой.
Когда на четвертый или пятый день по исчезновении беглецов в Гру́зине появился снова из Петербурга сам властелин, то нашел в усадьбе тишину, мир и согласие. Что произошло в первые три дня, он не знал. Никто не решился идти сказать ему, какая была сумятица, какая буря, а тем менее никто не доложил о том, что Настасья Федоровна простерла свои права в наказаниях на мужской персонал.
Граф, узнав от гонца, что двое людей, бывших слуг Шумского, бежали из Гру́зина и, по всей вероятности, в Петербург, строжайше приказал разыскать их через полицию. Но вместе с тем Аракчеев наивно удивлялся теперь, как спокойно отнеслась к этому дерзкому бегству сама Настасья Федоровна.
По приезде в Гру́зино граф тотчас объяснил Минкиной, что после занятий делами, он ввечеру будет к ней в гости побеседовать о «важнейшей материи».
Настасья Федоровна сделала вид, что обрадовалась предстоящей беседе и тотчас же объяснила, как она стосковалась по графу.
– Одно мое спасение в ваше отсутствие – это Петр Иванович, – доложила она. – С ним все сижу, а без него просто беда была бы. Он меня развлекает всякими рассказами.
Таким образом, Минкина сама первая, по своему обыкновению доложила графу о том, что могло дойти до его сведения через людей.
И Аракчеев, встретив в коридоре молодого человека, ласково треснул его по плечу.
– Спасибо! Настасью Федоровну развлекаешь, скучать не даешь! – выговорил он.
Петр Иванович улыбнулся кротко и покорно, он хотел было глянуть в лицо графу, чтобы видеть его выражение, но духу, однако, у него не хватило.
Ввечеру граф, явившись к своей сожительнице, уселся к столу, где был накрыт чай, но затворил тщательно дверь за собой. Затем, посидев молча несколько минут, он вместо того, чтобы начать говорить, приказал Настасье Федоровне выслать всех из соседней горницы и не приказывать входить впредь до разрешения.
– Эдак-то лучше будет! – прибавил он.
Минкина несколько смутилась от неожиданности, поняв, что беседа будет не простая, а какое-то очень важное объяснение. Что именно – она не могла себе представить. Выслав двух женщин, сидевших в соседней горнице, она быстро вернулась с встревоженным взглядом и выговорила глухо:
– Что ж такое? Случилось что новое, не хорошее? Государь разгневался?
– Государю на меня гневаться не за что, Настенька, – отозвался граф, ухмыляясь самодовольно.
Так как это уменьшительное имя женщины появлялось на языке Аракчеева крайне редко, а обыкновенно он называл ее именем и отчеством, то женщина сразу успокоилась. Нечто новое и важное, если и будет, то касается не до нее.
L
Новость, привезенная графом в Гру́зино, касалась Шумского. Граф сначала кратко рассказал своей сожительнице о шутовской карете, из-за которой было столько шуму в городе, что толки дошли даже до государя. Когда у графа был доклад об окраске казенных зданий в три колера, то государь приказал только повременить, а покуда окрасить лишь заборы и столбы казенных зданий.
Затем Аракчеев стал подробно рассказывать о поединке Шумского с фон Энзе.
Настасья Федоровна пытливо слушала рассказ, не перебивая, так как граф этого не любил, и с замиранием сердца ждала конца, ждала доброй вести. Авось Шумский, если не убит, то по крайней мере ранен! Но когда граф передал все и кончил, то женщина вздохнула и подумала про себя:
«Леший! И пуля-то его не берет! Видно, в наказание Божеское послан».
Но затем граф после паузы выговорил:
– Ну, а теперь, Настенька, лежит наш Михаил в постели с простреленной грудью.
– Каким образом?.. – встрепенулась, всплеснула руками и вскочила с места Минкина.
– Сам себя хватил!..
Настасья Федоровна оторопела и уже хотела сказать: «Быть не может!», но сдержалась.
Граф таких восклицаний на его слова не любил. Когда и не верилось кому, то все делали вид, что верят.
– Сам в себя стрелял? – произнесла она, изумляясь.
– Да. Сам в себя.
– Без всякой причины? Со зла или с чего особого?
– Верно отгадала, Настенька. Причина была – злоба!.. Причиною – граф Алексей Андреевич.
И он показал пальцем себе на грудь.
– Вы изволили ему приказать? – не сообразила женщина.
– Что ты, голубушка! Если б я и приказал, так разве он такое приказание исполнит. А я ему, не воздержавшись, кой за что сразу заплатил… И немногим заплатил… мелочью!.. Мелкой монетой на водку дал… Да, видишь ли, гордость и самомнение в нем, как два зверя сидят. Он и этой мелочи не снес, приехал домой и хватил в себя.
– Простите… Побили вы его, что ли?..
– И того меньше, Настенька!
– За вихор оттаскали?..
– И того меньше.
– Ну, за ухо?..
– И того меньше! – уже рассмеялся Аракчеев.
Настасья Федоровна сочла нужным улыбнуться тоже, но развела руками.
– Я его обругал за все его злодейства на себя и на тебя, пообещался стереть с лица земли. И сотру! – вдруг глухо прибавил Аракчеев. – Но не это заставило его покуситься на самоубийство, а гордость его. Обидно ему показалось то, что я сделал…
– А что собственно? Вы ведь не изволили сказать.
– Я ему плюнул в лицо…
– Так от этого? Полноте. Что вы! От этого? Да полноте. Это он врет… Кто же из-за этого будет себя убивать! Врет он…
– Врать он не мог, Настасья Федоровна, – выговорил Аракчеев другим голосом. – Я его не видал и видеть не желаю. И никому он ни словом не обмолвился. Но я-то знаю, что этому гордецу и моего плевка было невмоготу перенести. В нем столько самовозвеличения, что будь оно правильно им понимаемо и чувствуемо, то на многие бы его большие дела, годные для государства, подвигнуло. Не сумели мы его воспитать, или же таков он уродился. Или уж прямо рассудить, просто – из холопской крови ничего не поделаешь! Был он хам родом, хамом и остался.
Настасья Федоровна, смотревшая все время в лицо графу, опустила глаза при последних словах.
– Обещались вы простить и не поминать про это, – вымолвила она чуть слышно.
– Простить я простил, сама знаешь, Настенька, и не поминать обещался укором или упреком. Я теперь поминаю ради пояснения. Впрочем, мы это одни да Авдотья еще только и знаем… Я ему в Петербурге сызнова подтвердил, что он лжет и привередничает, что он наш сын. Да и поединок его в Петербурге так поняли, что он заступился за вашу честь и убил офицера, который его прославил подкидышем. Мы с вами, стало, одни знаем, что он мужицкой крови приемыш. Да не в упрек будь вам сказано, в лихой час разыграли вы все это представление. Не будь у нас этого мерзавца Мишки на плечах, жилось бы нам много спокойнее и счастливее. Ну, да вот скоро… подкидыша этого я…
– Ну, вот вы и попрекнули, – перебила тихо Настасья Федоровна.
– Ну, прости, последний раз! Да и не придется… Я с ним решил покончить. Вот это нас и успокоит.
Настасья Федоровна хотела задать вопрос, но не решилась и только поглядела Аракчееву в лицо. Он догадался, что она спрашивает.
– Каким образом покончу я с ним, желаете знать? А очень просто! Доложу государю, и государь снимет с него звание флигель-адъютанта. А там из офицерского звания переведу его в совсем иное. Вместо мундира наденет он у меня рясу и поступит в послушание в какой-нибудь дальний монастырь.
Настасья Федоровна вытаращила глаза и молчала.
– Удивительно кажет?
– Да-с…
– Почему же?
– Этим мы от него не избавимся. Он и в монастыре будет соблазн всякий заводить.
– Переведут в другой, третий… Есть и дальние монастыри, есть и такие, где только белые медведи водятся.
– Вот это иное дело! – воскликнула Настасья Федоровна, и лицо ее прояснилось.
– Стало быть, вскоре мы можем с вами успокоиться. Не подохнет он от своей теперешней раны, а доктора уверяют, что он скоро справится, то мы его преобразим в монахи. Почем знать, может быть, молитвенное состояние приведет его на путь истинный. Может быть, когда-нибудь игуменом будет.
Настасья Федоровна покачала головой.
– Не думаю! – вымолвила она. – Пуще обозлится! И такое творить начнет, что всякую обитель святую разнесет.
– И я тоже думаю. Ну, тогда и препроводят его в такую обитель, где по полугоду, бывает, солнце не встает, ночь, да белые медведи кругом ходят и в кельи заглядывают.
– О, Господи! – вздохнула притворно Минкина. – Да неушто же такие обители есть?
– Есть. Ну, вот все. Можешь радоваться, я решился. Долго меня это смущало, но, наконец, решение мое вышло, и теперь я его не переменю. Он и не знает и не знал, беспутный и неблагодарный, какую важность возымеет его шутовская карета. Ведь на ней, Настенька, было написано красными буквами, аршинными… Знаешь ли что? Дурак!.. Да!.
Наступила пауза.
– Кто дурак-то? Первый любимец монарха, военный министр! – прокричал вдруг граф почти громовым голосом, но сразу смолк и огляделся дикими, бешеными глазами в горнице.
Затем он вскочил с места и прошелся несколько раз по горнице.
– Ну, черт с ним! – выговорил он спокойнее. – Он карету соорудил, а я монашку сооружу. Карету-то сожгли. Через месяц о ней и помину не будет, а монашка-то в ряске еще лет сорок или пятьдесят погуляет. Он пошутил час времени, а моя шутка будет много продолжительнее. После флигель-адъютантства пускай кадило подает, свечи ставит, на клиросе поет да прислуживает. А то и в сенях около келий да на лестнице потолчется, прислуживая какому ни на есть архимандриту. Коли пуля не сожрала его, так гордость сожрет насквозь. Гордость униженная ест человека, как ржавчина железо ест. И нас на свете не будет, а он будет у меня мучиться и раскаиваться! Хотел было я его в солдаты упечь. Да нет, за что же? А вот в монашки… Пускай, подлая тварь, Богу молится! Это ему будет самое тяжкое, губительное терзание. Это все равно, что черта заставить Богу молиться. Пущего наказания и не выдумать. Это я только с моим умом мог надумать.
– Да-с. Уж это точно… – подобострастно произнесла Минкина. – Я сразу-то не поняла. А вот теперь смекаю. В особенности если вот в такую святую обитель упечь, где, как вы изволите сказывать, белые медведи водятся.
– В такую и попадет, мерзавец.
И граф довольный, с улыбающимся лицом вышел от своей сожительницы и направился к себе.
В дверях коридора женщина, поджидавшая его, повалилась ему в ноги. Он остановился и вымолвил сухо:
– А?.. Мамка! Прослышала. В Петербург просишься…
– Отпустите… Видеться… Помереть может, – произнесла Авдотья Лукьяновна, всхлипывая.
– Пустое… Не помрет, небось… Ты уж съездила раз, насочинительствовала довольно. Теперь и посиди дома. Видишь, мать родная не тревожится, не собирается, так что ж няньке-то скакать… – ухмыльнулся граф и прошел мимо.
LI
Операция извлечения пули сошла совершенно благополучно, так как оказалась очень легкой. Доктора нашли ее над лопаткой, чуть не под кожей, и понадобился очень неглубокий разрез, чтобы извлечь ее. Но по странной случайности, вследствие ли раны или по иным и нравственным причинам, но в тот же день Шумскому стало много хуже.
Явилась горячка с минутами сознания и целыми часами вполне бессознательного состояния. Крайняя слабость и болезненное возбуждение чередовались очень быстро. Ночью, а иногда и днем, являлся бред, но не тихий, а бурный.
Шумский рассуждал озлобленно, грозился или страстно умолял, но с кем и о чем, понять было невозможно даже Марфуше, которая не отходила от постели больного ни на мгновение, ни на шаг. Девушка знала почти все, касающееся до этого дорогого ей человека и его личной жизни, и все-таки путалась в соображениях.
Шумский поминал в бреду и Аракчеева, и Настасью Федоровну, и свою мать, часто поминал и Марфушу, и она иногда откликалась даже, думая, что он зовет ее.
Несмотря на свои опасения за больного, грусть и отчаяние и, наконец, на крайнюю усталость, Марфуша все-таки за это время нашла нечто, что было для нее огромным утешением, огромной радостью.
За все время в бреду и в минуты тихого и полного сознания Шумский ни разу не упомянул одного имени, которое всегда заставляло больно сжиматься сердце девушки.
Марфуша, уже свыкшаяся с мыслию, что она безумно любит Шумского, не могла равнодушно относиться к этой личности.
Волей-неволей девушка, конечно, ревновала его к баронессе, хотя это казалось ей подчас нелепым и дерзким до чудовищности. Она наивно удивлялась своей крайней дерзости! Сметь ревновать его!.. И к кому же?.. К барышне-баронессе, замечательной красавице!
Но, разумеется, несмотря на разные ее рассуждения, глубокое чувство брало верх. И теперь Марфуша была счастлива, была награждена за свой уход за больным именно этой необъяснимой случайностью. Она с восторгом соображала и обдумывала эту странность, что в бреду Шумский ни единого разу не произнес: Ева или баронесса.
Марфуша силилась, но никак не могла уразуметь, что могло значить это обстоятельство. Почему больной называет изредка по имени даже Биллинга, даже Копчика, и ни разу с языка его не сорвалось имя его возлюбленной.
Острое болезненное состояние продолжалось долго, около недели. Два доктора ездили постоянно и вскоре стало очевидно для всех, от Марфуши до последнего человека в доме, что врачи сами не понимают и не знают, что творится с больным и что предпринять.
Марфуша решилась взять на себя ответственность и на шестой день стала посылать Шваньского за простым знахарем, жившим около лавры, про которого рассказывали всякие диковины. Шваньский колебался взять это на себя и посоветовался с капитаном, который навещал теперь больного всякий день, равно как и Квашнин.
Капитан тоже не пошел на такой решительный шаг, ввиду серьезного состояния раненого.
– А ну как он что даст, да хуже будет? У нас на совести останется, что мы уморили Михаила Андреевича, – сказал он.
Подумав, однако, Ханенко заявил Шваньскому, что он посоветуется с одним «человеком» и вечером привезет решительный ответ, посылать или нет за знахарем.
– А кто это такой? – спросил Иван Андреевич.
– А это такой человек, которого я считаю самым умным из всех, кого знаю. Умен он и головою, умен и сердцем, умен и всеми чувствами своими. Коли скажет он посылать, то приеду и тоже скажу – посылать.
В тот же день вечером Ханенко явился снова и бодро объявил Шваньскому, что по мнению лица, к которому он обращался, надо за знахарем послать. И Иван Андреевич, несмотря на позднее время, тотчас же отправился.
Имя личности, к которой капитан обращался, осталось его тайной. А личность эта была никто иная, как Пашута, продолжавшая жить и скрываться от полиции в квартире Ханенко.
Знахарь, явившийся поздно вечером, попал как раз в минуту бурного бреда. Он внимательно переглядел все, что стояло в баночках и пузырьках, обильно выписываемое из аптек по рецептам докторов. При этом он не выразил ни одобрения, ни порицания. На вопрос Шваньского, что он думает о лекарствах, он ответил:
– Дело известное! Завсегда так у них, дохтуров, лекарств сотни, у меня вот только два. Им выбирать мудрено, они и путаются, не знают, что дать; а мне выбирать не мудрено – либо одно, либо другое.
Однако, знахарь объявил, что останется до утра в квартире и только при денном свете, снова осмотрев больного, решится лечить.
Внешность народного целителя-самоучки произвела на Марфушу такое хорошее впечатление, что она тотчас же сообщила Шваньскому свое мнение.
– Поглядите, завтра же будет Михаилу Андреевичу лучше. Удивителен мне кажется этот знахарь. Вера у меня в него есть…
Разум ли подсказал Марфуше или любящее сердце, чего следовало от знахаря ожидать, но ее предчувствие не было обмануто.
Наутро, когда знахарь осматривал больного, Шумский пришел в себя, сознательно огляделся и, увидя новую личность, спросил, что за фигура стоит перед ним. Ему сказали, что это фельдшер. Он улыбнулся…
– С бородой-то? – вымолвил он недоверчиво. – Знаю я отлично кто ты такой! – прибавил он слабым голосом.
– А кто же по-вашему? – спросил знахарь.
– Вестимо, кто… Рано только пришел… Приходи денька через два, три, да дорого с них вот… не бери…
Слова эти привели в недоумение стоявших за спиной знахаря Марфушу и Шваньского.
– Да вы что же полагаете? – спросила Марфуша тревожным голосом и выступая вперед.
– Гробовщик!.. – вымолвил Шумский, снова улыбаясь.
– Господь с вами! Что вы! – воскликнула Марфуша. – Да разве это можно? Вы живы, да и здоровы. Через неделю вы совсем на ногах будете. Это я вам говорю! Я! Во сне видела я – и верю…
– Вот это самое верное – во сне, – забормотал Шумский тихо. – Все вздор на свете! Пустое! Самое верное на свете – сны людские. Что сон, то, вишь, вздор, а то, что, вишь, важнеющее, то все сны и есть. Вот и я, Шумский, – сон.
И слова больного, которые не были бредом, хотя сочтены были таковым, тотчас же перешли в настоящий бред.
Знахарь тотчас же сходил в аптеку, купил чего-то и принялся стряпать, но никого не допускал к себе, запершись в том же чулане, где когда-то сидела под арестом Пашута.
Около полудня Шумский выпил целый стакан снадобья, приготовленного знахарем. И за этот день бреда не было. Он пролежал спокойно. Вечером ему снова дали того же питья, и ночью сидевшая около постели Марфуша задремала тоже, так как в спальне царила полная тишина. Больной лежал уже не в забытьи и не в бреду, а спокойно спал и ровно дышал.
На третий день после нескольких приемов того же питья Шумский хотя был в постели, слабый, но со спокойным взглядом и с ясной мыслью в голове. Он снова вспоминал и расспрашивал все происшедшее у Марфуши в подробностях. Он, помнивший, что покушался на самоубийство, помнивший даже подробности второго дня после своего поступка, теперь окончательно забыл многое.
С этого дня выздоровление пошло быстро. Сильный организм, поборов болезнь, освобождался от нее чрезвычайно быстро. Не прошло недели после появления в доме знахаря, как Шумский уже сидел в постели по часу и долее, уже снова курил, требуя трубку за трубкой. При этом он снова шутил, но только исключительно с одной Марфушей, и оставаясь с ней наедине.
Девушка заметила одну новую странную особенность, которая, однако, отрадой коснулась ее сердца. Каждый раз, что в спальне появлялся кто-либо, Квашнин или Ханенко, даже Шваньский, не говоря уже о докторах, которые продолжали навещать больного, хвастаясь своим искусством, Шумский на всех них смотрел одинаковым взглядом. Тотчас же при появлении кого-либо он становился угрюмее, мрачнее, иногда глядел озлобленно, как будто у него явилось теперь какое-то худое чувство ко всем людям, будто он обвинял их в чем-то…
И тотчас же по уходе кого-либо, даже Шваньского или Квашнина, он, оставшись наедине с Марфушей, тотчас же смотрел иным взглядом. Лицо его преображалось, он улыбался и снова начинал шутить.
Марфуша ясно видела это, глубоко чувствовала и была несказанно счастлива, но объяснить причины не могла. То объяснение, которое иногда вдруг приходило ей на ум, пугало ее, страшило, как несбыточная мечта, принимаемая ею за действительность.
Если поверить хотя на мгновенье тому, что подсказывает сердце, то возврата потом не будет… Если поверить и ошибиться, то потом уже надо умереть или с ума сойти.







