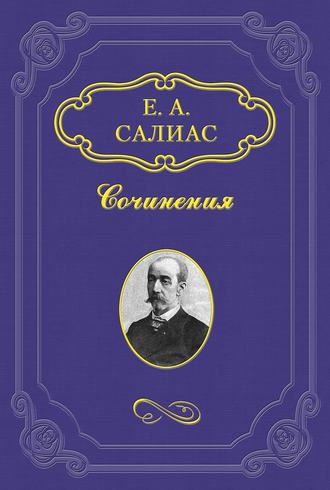
Евгений Салиас де Турнемир
Аракчеевский подкидыш
LII
Три существа были изумлены равно, думая часто о баронессе Нейдшильд и ее поведении по отношению к опасно больному. Сам Шумский, Марфуша и Пашута. Марфуша думала о красавице-баронессе больше и чаще всех и возмущалась.
– Хоть бы один разок прислали бы хоть лакея на квартиру узнать о здоровье больного?! – говорила сама себе девушка.
Сам Шумский вспоминал реже о Еве… Но о какой-то другой, новой Еве… Теперь их было две… Одна в каком-то ореоле потухающего света, но уже далеко… Там где-то, за «кукушкой», за покушеньем убить себя, за болезнью… Другая была ближе, вспоминалась просто и спокойно, но была совершенно не похожа на первую. К этой Еве Шумский, как бы против воли, относился с сомнением, с недоверием. Иногда ему хотелось даже отогнать прочь эту Еву и вызвать ту, прежнюю, которая чудится вдали, застилаемая всем пережитым… Но та Ева не приближалась, не «возникала» и не «жила» вновь в его мыслях и в его сердце, как бывало еще недавно.
Между ним и той Евой была теперь будто пропасть… А новая Ева была ему чужда…
И думая о двух баронессах Шумский иногда спрашивал себя мысленно:
«Уж не начал ли я опять бредить наяву. Ведь, ей-Богу, две их у меня. Одна милая, да уж там, далече в жизни, а другая вот тут, на Васильевском острове… Сейчас к ней послать можно, спросить о здоровье, что ли? Да не стоит! Не любопытно».
Был ли Шумский оскорблен невниманьем Евы к нему, полным пренебреженьем к его опасной болезни, от которой он мог умереть?.. Или эта болезнь повлияла на него загадочно и заставила теперь относиться ко многим и ко многому на – совершенно иной лад?.. Шумский сам не мог себе ничего объяснить.
– Все оно так… – говорил он себе. – А почему «так», а не иначе – неведомо.
Но вместе с тем ежедневно, чуть не по десяти раз на день он взглядывал на девушку, которая не отходила ни на шаг от его постели, и невольно повторял, как бы укоряя кого-то или убеждая себя:
– Да, вот эта… любит!
Наконец, помимо Шумского и Марфуши, не менее часто поминала баронессу и Пашута. И она тоже, как Шумский, иначе относилась к своей недавно боготворимой барышне. Пашута была будто оскорблена и, сама не понимая почему, негодовала на поведение баронессы относительно человека, которого та «якобы» любит…
Шумский и Марфуша удивлялись, что после неожиданного и единственного визита барона с дочерью, когда доктора собирались извлечь пулю, не было от Нейдшильдов ни слуху, ни духу… Но они обманывались… Пашута знала больше их и тоже обманывалась.
Барона и его дочери давно не было в Петербурге.
Пашута, тотчас узнав об отъезде Нейдшильдов, внезапном и быстром к себе в Финляндию, была настолько поражена странным известием, что не решилась передать это Шумскому. Сказать ему это возможно было бы лишь тогда, когда он совершенно выздоровеет, так как это должно было неминуемо тоже поразить его.
И Пашута, бывая изредка вечером на квартире Шумского на несколько минут из-за боязни полиции и ареста, ни слова не сказала о выезде Нейдшильдов из столицы.
Сама же девушка возмущалась и даже горевала, постоянно беседуя с капитаном о вероломстве баронессы.
И никто не знал правды.
Правда заключалась в том, что барон, заехав справиться о положеньи Шумского, решил, что раненый не выживет, не переживет операции извлечения пули.
Вернувшись домой, взволнованный и потрясенный барон объявил дочери… что граф Аракчеев из мести приказал ему лично во дворце немедленно выезжать из столицы как бы в ссылку.
Старик спасал свою дочь и свою честь. Хотел спасти Еву от удара и хотя бы временно предотвратить его! А свое имя спасти от позора!.. Он был уверен, что Ева при роковом известии потеряет голову. Помимо страданий и горя будет и позор, огласка, всеобщее презренье… Старик был убежден, что дочь при известии о положеньи Шумского, поняв, что ему остается жить несколько часов, тотчас бросится к постели умирающего обожаемого человека.
А этот офицер-блазень, презираемый или ненавидимый всем Петербургом, им ничто. Он даже не жених ее… Он был когда-то женихом необъявленным и всего один день.
Старик решился сразу, в несколько минут и, обманув дочь, увез ее далеко в имение в тот же вечер. Она уехала, ничего не зная о Шумском. И теперь Ева жила однообразной и скучной жизнию среди скал и озер своей родины, которую любила когда-то… Но ее тоскующее сердце было вечно там, в Петербурге. Она мечтала только о возвращении, о случайном свидании. А барон все ждал наивно известия о смерти Шумского, чтобы осторожно передать его дочери.
И добрый, но ограниченный старик не знал и не предчувствовал, на краю какой страшной бездны стоит он сам и простодушно поставил свою дорогую Еву.







