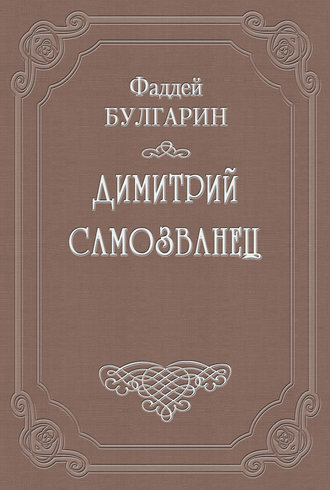
Фаддей Булгарин
Димитрий Самозванец
Для доказательства, что характер Годунова у меня верно списан, приведу только три места из Карамзина. В X томе "Истории Государства Российского" на стр. 77 сказано: "Чтобы явно не нарушить данного обещания, Годунов, лицемерно совестный, искал предлога мести, оправдываясь в уме своем злобою врагов непримиримых, законом безопасности собственной и государственной, всеми услугами, оказанными им России и еще замышляемыми им в ревности к ее пользе, – искал, и не усомнился прибегнуть к средству низкому, к ветхому орудию Иоаннова тиранства: ложным доносам". Если Борис научал составлять ложные доносы, то ему надлежало кому-нибудь открываться в своем умысле. Я даже и это покрыл завесою и заставил клеврета его составлять доносы без ведома Бориса Годунова.
На стр. 79: "Спаситель Пскова и нашей чести народной (князь Иван Петрович Шуйский), муж бессмертный в истории, коего великий подвиг описан современниками на разных языках европейских, ко славе русского имени, лаврами увенчанную главу свою предал срамной петле в душной темнице или яме!" – Не геройский ли это подвиг!
В томе XI, на стр. 156 и 157: "Но, смятенный ужасом, Борис не дерзал идти на встречу к Димитриевой тени: подозревал бояр и вручил им судьбу свою… велел строго людям ратным, всем без исключения, спешить в Брянск, а сам как бы укрывался в столице!" – Величайший признак малодушия!
Пусть поверят читатели, таков ли характер Годунова в моем романе. Люди, которые хотят унизить труд мой, видно, плохо знают историю!
Противники мои не постигли или не хотели постигнуть характера самозванца. Они так разжалобились над участию его, что упрекают меня, зачем я заставил его совершить убийства, которых они не могут доискаться в истории! История наполнена известиями о убийствах, совершенных Лжедимитрием: следовательно, он был человек, который не боялся проливать кровь. Вот главное: я не отступил от истории и не сделал его кровожадным из агнца смиренного. Кого он убил в романе, до этого нет дела критику, ибо по истории известно, что самозванец убивал противников. Характер Лжедимитрия у меня есть постепенное развитие души честолюбивой, которая не терпит никаких преград на предначертанном поприще. Все честолюбцы таковы: любовь, дружба – все приносится ими в жертву главному замыслу. Для этого именно представлено у меня убийство Калерии. Противники мои упрекают меня еще, зачем я представил самозванца ветреным и легкомысленным, непостоянным в любви и дружбе при высоком уме и твердой душе. Таков он был, и если б не ветреность его и не легкомыслие, то он не погиб бы так скоро. Это именно характеристическая черта его. Всем знающим историю известно, что в Туле наступил перелом в его нраве и что, достигнув высоты, голова его закружилась.
На другие упреки не хочу даже отвечать. Некоторые хотят, чтоб мой самозванец был нежным пастушком, и говорят, что это не роман, потому что самозванец то влюбляется, то оставляет любовниц, не женится ни на Ксении, ни на Калерии, как надлежало предполагать, не любит Марины и проч. Кажется, в романе объяснено, что при пылкости самозванца главная страсть в нем была не любовь и что он только искал в ней временного наслаждения, следуя буйным порывам пылкой своей души. Каждый хотел бы, чтоб я написал роман сообразно с его вкусом, а не с моими понятиями о характерах, и чтоб я вел происшествия по известной форме, т. е. напутал известных романических приключений и кончил, как кончаются все романы – веселым пирком и свадебкою! И комедии "Горе от ума" не называют некоторые комедиею, потому что она написана не по правилам, изложенным в курсах литературы. Можно ли упрекать автора, что он погрешил в плане и ходе романа? Этого не скажет ни один критик, понимающий свое дело. План и ход сочинения зависит совершенно от воли автора, и он не обязан отдавать в этом отчета. Что бы вышло, если бы для плана, т. е. для создания воображения, были правила? Тогда бы каждую книгу можно было разгадывать с первой страницы. План может не нравиться критику: это другое дело;– но в этом случае автор не виноват. Не находя обыкновенных романических, устарелых завязок в моем романе и часто встречая известные события исторические, изложенные мною с украшениями, некоторые противники мои говорят, что это не роман, а что-то историческое! Внутренне смеюсь и радуюсь этому оптическому обману! Ибо я именно хотел произвесть это впечатление! – Вальтера Скотта упрекают, что он пишет историю в романах, а романы в истории (qui'il fait l'istoire dans les romans, et les romans dans l'istoire). Всем угодить нельзя, а тем труднее угодить новым родом. Я никому не подражал, а хотел написать такой роман, в котором бы главные характеры и происшествия были справедливы и все так связывалось и перепутывалось вымыслом, чтоб читатель воображал себе, что он читает настоящую историю того времени или, лучше сказать, видит события тогдашние. По критикам и по толкам вижу, что я успел в своем намерении.
Нет ни одного лучшего романа Вальтера Скотта, где бы не было таких мест, которых бы каждый читатель, по своему вкусу, не находил скучными или длинными. В некоторых его романах, как, например, в "Карле Смелом", вводные повести о духах и проч. занимают чрезвычайно много места и отвлекают от главного предмета. Но все это прощено Вальтеру Скотту, прощены детские ошибки другим русским писателям, а мне не хотят простить ни одного вводного повествования, хотя у меня все они связаны с главным происшествием. У меня почитают важным недостатком то, что восхваляется в Вальтере Скотте, и несколько лишних страничек о древностях заставляют вопиять о педантизме! – Но что говорить об этом! Если б я даже сочинил такое творение, которое красотами своими затмило бы все, что есть в мире изящного, – собратия мои, русские литераторы, еще сильнее вооружились бы противу меня! На них я никогда не угожу. Некоторые из знаменитых поэтов, вооружившиеся с необыкновенным жаром в обществах противу "Выжигина", при объяснении личном должны были сознаться, что они вовсе не читали книги и бранят – так, по внутреннему чувству! Вот как меня судят! По счастью, это не вредит мне нисколько; доказательством тому служит сие второе издание романа, напечатанного в первом двумя заводами. Вот одно из главных моих преступлений пред писателями и вместе – опровержение несправедливого упрека нашей публике, будто роман, вмещающий в себе историю, политику и философию, есть для нее слишком сильная умственная пища. Если б меня не читали, не покупали моей книги и если б я хвалил беспрестанно тех, которые требуют от меня этого, а главное, если б я не был журналистом и был удален от поприща критик, если б я искал похвал, то меня превозносили бы приверженцы разных партий. Но я хочу остаться в нынешнем моем положении. Пусть ревнивые литераторы бранят меня – а публика читает. Это гораздо приятнее!
Ф. Булгарин.
15 марта 1830.
С.-Петербург.
ЧАСТЬ I
Что зло сдеях, свидетельствуйте ми и не жалюся.
Софийский временник
ГЛАВА I
ВСТУПЛЕНИЕ
Совещательная беседа у польского посла, канцлера Льва Сапеги. Таинственный человек.
(1600 год, 12 ноября)
Огни давно уже погасли в домах московских жителей, но на Литовском подворье, в Царь-городе (1), еще не думали об успокоении. В комнате посла, благородного канцлера литовского, Льва Сапеги, собрались на совещание все члены посольства. За большим столом, покрытым зеленым сукном, сидели паны польские и литовские, в молчании ожидая речи канцлера. В другой комнате, возле стола с бумагами, находились два писаря посольства. Один из них занят был чтением бумаг, другой беспрестанно поглядывал на дверь и, приметив, что она не вовсе затворена, встал с своего места, подошел потихоньку к печи и стал внимательно прислушиваться к тому, что говорят в посольской комнате.
– Прошу садиться, князь, – сказал канцлер вошедшему в комнату молодому вельможе. – Мы только вас и поджидали.
– Извините, я снова перечитывал заключение Варшавского сейма и, соображая его с притязаниями Московского царя, вижу, что мы едва ли не понапрасну сюда прибыли, – отвечал князь Ярослав Друцкой-Сокольницкий, сев на своем месте.
– Еще дело не начато, а вы уже сомневаетесь в успехе, – возразил канцлер с кроткою улыбкой. – Правда, что здесь нам не доброжелательствуют: я примечаю, что царь хочет уклониться от заключения вечного мира с Польшею. Но, может быть, здравая политика и благо человечества восторжествуют над кознями врагов нашего отечества, смущающих царя Бориса злыми своими наущениями. Попробуем…
– Не думаю, чтобы мы имели успех, – сказал Станислав Варшицкий, кастелян варшавский. – Давно уже Россия не имела столь мудрого и вместе с тем столь хитрого правителя, как Борис Годунов, который не по праву рождения, но одним умом и коварством достиг царского престола. Этот хитрец слишком хорошо знает несчастное положение наших дел и не легко согласится на заключение мира. Король наш Сигизмунд не хочет уступить прав своих на шведский престол дяде своему, герцогу Карлу Зюдерманландскому, который основывает свои притязания на выборе Шведского сейма. Борис Годунов, также избранный в цари народом, должен поддерживать равные права своего соседа, если хочет, чтоб его собственные права почитались священными и ненарушимыми, вопреки наследственному порядку, который Борис ниспровергнул, удалив от избрания в цари бояр, кровных с царским родом. В герцоге Зюдерманландском Борис имеет верного союзника, который обещает ему уступить часть Ингрии и Карелии, если ему самому удастся удержать за собою Ливонию. С другой стороны, Михаил, князь Волошский, отринутый искатель короны польской, смущает Бориса своими коварными предложениями союза, заманивает в войну против Польши и, в случае вспоможения, обещает уступить ему целую Русь Польскую. Крым страшится могущества России, и Казы-Гирей принял мир, как благодеяние. Неприязненная Польше Австрия поныне не отказалась от своих притязаний и намерения возвесть на престол Ягеллов герцога Максимилиана: она не упустит случая ополчить Россию противу Польши. С Даниею Борис намерен вступить в тесный союз родства. Ливонии несносно католическое владычество. Итак, все отношения внешней политики России клонятся к тому, чтоб утвердить Бориса в неприязненном расположении к Польше, которая теперь ослаблена внутренними раздорами, внешнею войною с Швециею, непокорностью казаков, татарскими набегами, происками соседей, – и, скажу откровенно, нерешительностью нашего короля и несогласием дворянства.
– Все это отчасти справедливо, – возразил канцлер, – но вы смотрите на предметы с одной точки зрения и видите одну темную сторону. Правда, Польша не имеет союзников, ослаблена войною и раздорами и требует успокоения; но верьте мне, что и Россия не так сильна, чтоб могла начать борьбу из отдаленных выгод. Дела ее на востоке не столь благоприятны, чтоб она могла свободно действовать на западе. С Персиею Россия в несогласии за грузинского царевича Александра; с турецким султаном ни в войне, ни в мире, однако ж и не в дружбе. На крымскую приязнь нельзя полагаться. Что же касается до Швеции, то хотя Борис сам советовал герцогу Зюдерманландскому объявить себя королем, но он сделал это для того только, чтоб воспрепятствовать соединению Швеции с Польшею и чтоб одним ударом ослабить двух враждебных соседей, а не из любви к Карлу или ненависти к Сигизмунду. Вы видите, как медленно идут переговоры Боярской Думы с шведскими послами. Мне известно, что полномочные герцога Зюдерманландского, Карл Гендрихсон и Георгий Клаусон, также жалуются на упорство Бориса, как и мы. – Канцлер захлопал в ладоши, и дверь отворилась в другой комнате. – Господин Иваницкий, войдите сюда! – сказал громко Лев Сапега.
Писарь, стоявший в безмолвии возле печи, вошел в кабинет посла, поклонился всему собранию и остановился у дверей.
– Объявите всем, что вы знаете о шведском посольстве, – сказал канцлер.
– Говорят, что царь Борис требует уступки Нарвы и что жители Эстонии сами предлагают отложиться от Швеции и присоединиться к России, – сказал писарь.
– Можете удалиться, – сказал канцлер писарю, который немедленно вышел за двери и притворил их тихо. – Видите ли, господин кастелян, – продолжал канцлер, – что и союз Карла с Борисом не так искренен, как вы полагаете. Чрез этого молодого человека, чрез Иваницкого, я узнал много таких вещей, о которых никогда бы не мог догадаться. Он хотя польский дворянин, но греко-российского исповедания, получил первоначальное воспитание у чернецов и посредством их имеет здесь много связей. В его верности и расторопности я имел много случаев удостовериться. Вы знаете, господа, дела внешние, но не знаете внутреннего состояния России. Я не хочу объясняться о предметах, чуждых нашему делу, но, во всяком случае, должен сказать, что положение наше не так отчаянно, как многие из нас думают.
– Напрасно стараются уверить вас, вельможный канцлер, в слабости царя Московского, – сказал Илья Пельгржимовский, писарь Великого княжества Литовского (2). – Едва прошло два года, как целая Европа с удивлением слышала о невиданном доселе ополчении в полмиллиона воинов, которое царь Борис выставил по одному слуху о вооружении Крымского хана! Только одно усердие к царю и внутренняя крепость России могла сделать такое чудо!
– Прошлые времена, почтенный товарищ! – возразил канцлер. – С тех пор и сам царь Борис переменился, и многое изменилось в его царстве. Но что бы ни было впереди, а нам должно скрывать свое нетерпение и досаду и твердо шествовать к своей цели. Во что бы то ни стало мир должен быть заключен, ибо от этого зависит благо нашего отечества, которое требует спокойствия.
– Дурной мир дают даром, а хороший надобно добыть саблею, – сказал, покраснев, князь Друцкой-Сокольницкий. – С тех пор, как мы стали учиться скрывать нашу досаду и как, по примеру итальянских князьков, начали со всеми переговариваться, взвешивать каждое дело на весах утонченной политики, с тех пор соседи наши возгордились и перестали нас бояться. Переговариваться должно при громе пушек, говаривал покойный король наш, Стефан Баторий. Я также думаю, что только тот трактат прочен, который припечатан рукоятью меча победителя на пороге побежденного. Вы говорите, что Польша слаба и истощена. Нет! Слаб король Польский, истощена казна республики, утомлено войско коронное в войне за наследие Сигизмунда; но Польша будет сильна, когда станет сражаться за собственную честь и пользу. По-моему, так дожидаться здесь нечего, и если Борис еще будет томить нас спорами о царских титулах, откладывать со дня на день прием наш и медлить ответом на предложения, то нам должно сесть на коней и возвратиться в Варшаву. Если республика или король откажутся от войны и стерпят обиду, нанесенную Борисом, я сам пойду войною на Москву, подобно польскому дворянину Ласскому, который от своего лица воевал с Римским императором. Разошлю универсалы (3), соберу посполитое рушенье (4), составлю конфедерацию (5) и ударю на Бориса, который своею казною поплатится мне за военные издержки… Вы сами, вельможный канцлер, говорите, что Россия не так сильна, как многие полагают!
– Довольно сильна, однако ж, чтоб расстроить нас на долгое время, – отвечал канцлер, – если мы, не помирившись с Швециею, не успокоив Австрии и не наказав дерзкого Волошского князька, бросимся в войну, не обдумав средств к поддержанию ее. Любезный князь, вы слишком горячо принимаетесь за дело, которое требует величайшего терпения, соображений и хладнокровия. Вы знаете меня, господа, – знаете, что я никогда не уклонялся от войны, что я сам советовал воевать, когда была в том надобность, что я своими собственными средствами держался в Ливонии и принудил царя Ивана Васильевича уступить мне сию страну, купленную им кровью и золотом. Но теперь другое время, и я прошу вас, господа, быть осторожными в речах с москвитянами и иностранцами, не грозить и не жаловаться. Кажется, что я достоин вашей доверенности; итак, предоставьте мне исполнить поручение республики так, как я его обдумал, и, следуя моим советам, дайте мне доказательства того уважения, которое я стараюсь заслуживать. Чрез два дни назначена первая аудиенция у царя Бориса, на которой, сохраняя достоинство нашего народа, мы не должны раздражать москвитян излишнею гордостью и выказыванием нашего превосходства. Вы понимаете меня, господа!
– Делайте, что вам угодно, – сказал Иоанн Сапега, воеводич витебский, – но я согласен с князем Друцким-Сокольницким, что должно требовать решительно ответа на вопрос: мир или война!
– Мир или война! – воскликнули в один голос Михаил Фронцкевич, Иван Пашка, Петр Дунин и Иван Бо-руцкий.
– Господа! – возразил Андрей Воропай, судья оршанский, – зачем проливать напрасно драгоценную кровь польскую, зачем лишать отечество защитников для приобретения мира, который мы можем добыть нашим терпением и мудростью нашего канцлера! Нам надобно прежде помышлять о том, чтоб усилить наше регулярное войско, укрепить границы замками…
Князь Друцкой-Сокольницкий прервал речь Воропая и сказал:
– Замки не удержат смелого и не спасут трусливого. Рубежи отечества тогда только могут быть безопасны, когда кичливый сосед будет доведен до того, чтоб не смел переступить за черту, проведенную саблею по песку: трактат – бумага!
– Господа! – сказал канцлер, встав со своего места, – прошу вас покорно помнить мои советы и приготовиться к торжественной аудиенции. Маршал Боржеминский представит вам утвержденный мною церемониал. Желаю вам спокойной ночи!
* * *
Литовское подворье состояло из одного большого деревянного дома в два жилья и нескольких изб, построенных рядом на дворе, возле хозяйских зданий. Сии строения обнесены были высоким забором. Сам посол занимал только две комнаты, и в прочих помещались особы, 1составлявшие его свиту. В доме так было тесно, что два писаря посольства должны были довольствоваться небольшою светелкою на чердаке. Когда все паны разошлись по своим комнатам, канцлер велел писарям удалиться, сказав, чтоб они к утру приготовили нужные бумаги.
Вошедши в светелку, Иваницкий поставил на стол свечу, запер двери и, присев на кровати, сказал:
– Знаешь ли что, Бучинский? Ни посол, ни паны ничего здесь не сделают. Россия не боится Польши и не даст мира за дешевую цену. Наши говоруны кричат, толкуют, горячатся, а никто, кроме канцлера, не понимает дела. Но здесь и для его высокого ума нет простора. Послушай, Бучинский, истинный ли ты друг мой?
– Разве от самой юности я не доказывал тебе этого, разве ты имеешь причины сомневаться? Ты мне спас жизнь в Лемберге, а у меня, брат, хорошая память на долги.
– Итак, знай, что я один в состоянии дать прочный мир Польше.
– Ты! Полно шутить, Иваницкий!
– Нет, я не шучу, любезный друг!
При сих словах Иваницкий встал с своего места, подошел к Бучинскому, который стоял возле стола, и, положив ему руку на плечо, сказал:
– Бучинский, ты знаешь, что я бедный сирота, без роду, без племени, без состояния, сперва воспитанный, ради Христа, русскими чернецами, а после, из милосердия же, призренный отцами иезуитами и обученный в их школах вместе с тобою. Вот все, что тебе известно! Ты думаешь, что проник в душу мою, постигнул нрав мой и можешь предузнавать все мои желания, намерения. Ошибаешься, жестоко ошибаешься, друг моей юности! Ты вовсе не знаешь меня. Скажу тебе только, что мне не суждено пресмыкаться в толпе. Поприще мое на земле еще не начертано судьбою: участь моя еще сокрыта от людей. Я, как некий дух без образа, ношусь над бездною, и еще суд Божий не произнес гласно, должно ли мне погибнуть или вознестись превыше земного. Еще не решено, что меня ожидает: проклятия или благословения, поношение или слава! – Иваницкий подошел к окну; лицо его пылало, на глазах навернулись слезы.
Бучинский с беспокойством подошел к своему товарищу и, взяв его за руку, сказал:
– Друг мой, что с тобою сделалось? Не болен ли ты? Иваницкий горько улыбнулся.
– Никогда не имел я такой нужды быть здоровым душою и телом, – отвечал он, – и никогда не был так здоров и бодр, как ныне.
– Итак, объяснись! Что значат мрачные твои мечты, исполинские надежды, загадочные предприятия…
– Друг мой! Судьба вверила мне тайну, от которой зависит участь многих миллионов людей, прикованных к участи одного человека. Теперь я не имею права открыть эту тайну; она принадлежит не мне одному. Между тем, пришло время действовать. Прошу тебя, не изъявляй ни любопытства, ни удивления при всем, что ты увидишь, и оставь меня действовать свободно, не обременяя вопросами, не терзая подозрениями, не вредя изъявлением пред другими сомнения на мой счет. Я буду часто отлучаться, буду иногда казаться тебе странным, непонятным, подозрительным. Но клянусь тебе Богом и честью, что все мои поступки будут клониться ко благу Польши. При этом я должен тебе сказать, что и твое счастье сопряжено с успехом моего предприятия. Помни, Бучинский, что если Богу угодно будет благословить мое намерение, что если я буду велик, то и ты будешь счастлив моим величием. Я хранитель тайны, которая воскресит мертвых из гробов, подвигнет брата на брата, отца на сына, сына на отца; тайны, от которой тысячи погибнут и тысячи восторжествуют, которая прольет реки крови и рассыплет горы золота, одним словом, в душе моей погребена тайна, от которой изменятся на земле вера, законы, обычаи, поколеблются престолы!
– Иваницкий! Ты приводишь меня в ужас, – сказал Бучинский, пристально смотря в лицо своему другу. – Я опасаюсь, чтоб ты не связался с какими-нибудь обманщиками, чернокнижниками, которые, пользуясь пылкостью твоего воображения, будут стараться вовлечь тебя в какие-нибудь ужасные замыслы. Друг мой! Ты можешь заплатить жизнью и честью за свое легковерие.
– Что значит жизнь! – воскликнул Иваницкий. – Стоит ли хлопотать о жизни, когда судьба позволяет мне выбрать из своей урны все или ничего? Честь! какие нелепые понятия имеем мы о чести! Завтра будет названо честным, похвальным, славным то самое, что сегодня называется бесчестным, укорительным, постыдным. Друг мой! я с первого слова не скрывал перед тобою опасности моего положения, но эта опасность не коснется тебя, если ты сам того не пожелаешь. Что же до меня касается, я презираю жизнь, смерть и опасности и страшусь только неудачи. Что ты смотришь на меня так пристально? Успокойся. Друг твой не изменит ни чести, ни долгу; напротив того, он исполнит долг свой для чести. Будь терпелив, ты все узнаешь и не только не лишишь меня своего уважения, но будешь чтить более, нежели теперь. Повторяю: не могу тебе открыть тайны и снова прошу, чтоб ты этого от меня не требовал. Я тебе сказал уже, что я поверенный этой тайны – только поверенный, и что участь миллионов людей зависит от моей скромности.
– Бог с тобою, делай что хочешь! – сказал Бучинский. – Я опасаюсь одного, чтоб ты неумышленно не ввел в хлопоты нашего посольства и тем самым не повредил делам республики.
– На этот счет будь спокоен, – возразил Иваницкий. – Все обдумано, все устроено благоразумно. Теперь ты должен мне оказать первую услугу. Мне надобно сей час выйти со двора: проводи меня до калитки и запри ее за мною.
– Но ключ у маршала Боржеминского!
– У меня есть другой, – отвечал Иваницкий. – Пора, скоро ударит полночь, надобно одеваться.
Иваницкий выдвинул из-под кровати чемодан и вынул из него монашескую рясу и клобук. – Вот эта одежда спасет меня от всех опасностей, – сказал он. – Эта одежда отворит мне в Москве все входы и выходы и защитит лучше всякого панцыря.
Пока Иваницкий надевал рясу поверх своего платья, друг его, присев в углу, смотрел на него мрачно и с чувством сострадания. Иваницкий заткнул за пояс кинжал, положил в карманы крутицы, или малые пистолеты, потом, накинув на себя плащ, и надев шапку, вынул из-под изголовья своей постели моток бечевки, прикрепил к окну один конец, к которому привязана была гремушка, а другой конец с пулей выбросил за окно.
– Теперь проводи меня, друг! – сказал Иваницкий. – Этот конец бечевки я переброшу чрез забор, чтоб не стучась в ворота разбудить тебя, когда я возвращусь домой. До света я буду здесь. Мой ключ останется у тебя. Ну, пойдем же! Проводи меня.
Бучинский в безмолвии проводил Иваницкого до ворот и, взяв от него плащ и шапку, пожал руку и сказал ему грустно:
– Дай Бог счастливо! – Он притворил потихоньку калитку и поспешно возвратился в свою светелку.







