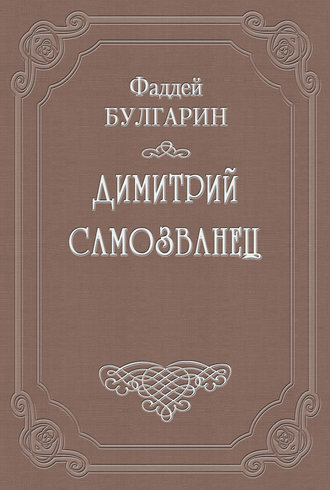
Фаддей Булгарин
Димитрий Самозванец
Лжедимитрий вооружился и вечером вышел тайно из слободы вместе с священником. Они следовали по течению Десны тропинкой, пролегающею чрез густой лес. На крутом берегу, под бугром, была пещера, в которой укрывались монахи Остерского монастыря во время первого татарского нашествия и прияли здесь мученический венец под мечами варваров. Предание, сохранившее память о сем происшествии, освятило сие уединенное место. В пещере находилась часовня, и благочестивые люди приходили сюда молиться по обету. Долго она оставалась необитаемою, но лет за двадцать пять пред сим поселился в пещере труженик уже немолодых лет, который с тех пор не отлучался из своего убежища. Он питался овощами небольшого своего огорода, возделываемого собственными его руками, и плодами нескольких яблонь, им самим посаженных. Малое количество хлеба доставляли ему молельщики и жители слободы.
Лжедимитрий велел священнику остаться в стороне и один пошел в пещеру. Дверь в часовню была слегка притворена, и Лжедимитрий вошел туда. Известковая земля образовала род круглого погреба со сводом. На одной стене висело распятие и образ чудотворной Смоленской Богоматери. Перед образами стоял налой с книгами, а в своде укреплена была лампада. Из часовни была дверь во внутренность пещеры. Лжедимитрий прикоснулся рукою до этой двери, и она отперлась. В высокой и полукруглой пещере стоял в углу гроб под образами; пред ним теплилась лампада. Посреди пещеры лежало несколько камней различной величины. На одном из них сидел высокий, согбенный, иссохший старец с белою, как лунь, бородою и малым остатком седых волос на голове. Пред ним стояла кружка с водою и лежал кусок черствого хлеба. Старец был в саване, опоясан веревкою. Он, казалось, кончил свою трапезу; не обращая внимания на вошедшего странника, встал, помолился и после того уже приветствовал пришельца наклонением головы.
– Прости мне, святой отец, что я осмелился нарушить твое уединение, – сказал Лжедимитрий, – Находясь поблизости, я не мог преодолеть желания насладиться лицезрением святого мужа.
– Святость на небе, а на земле труженичество, сын мой, – сказал старец, подошел ближе к Лжедимитрию и, осматривая его с головы до ног, примолвил: – Ты, без сомнения, воин из ополчения, которое остановилось на рубеже России? Русский ли ты или поляк?
– Русский, – отвечал Лжедимитрий.
Старец взял Лжедимитрия за руку, подвел к лампаде и, посмотрев ему пристально в лицо, сказал:
– Ты еще молод! По одежде твоей вижу, что ты облечен в сан высокий. Чего ты хочешь от меня, убогого отшельника?
– Я иду на войну, святой отец; благослови меня!
– Благословение в руце Божией, – отвечал старец. – Служитель алтаря не может благословить русского, ополчающегося противу своего отечества.
– Мы идем войной за правое дело. Ты, верно, слыхал о спасении сына Иоанна от руки убийц. Долг каждого русского жить и умереть за права законного государя.
– Слыхал я разные вести о человеке, называющем себя сыном Иоанновым. Не знаю, чему верить, но, во всяком случае, не могу благословить русского, идущего вместе с иноземцами терзать войною отечество.
– Но если такова воля Божия, чтоб род Рюриков владел престолом российским, то в нынешних обстоятельствах невозможно обойтись без чужеземной помощи. Русские должны всегда почитать своим отечеством то место, где развевается хоругвь царя законного.
– Воля Божия от меня сокрыта. Все, что ты говоришь о обязанностях к законному государю, – справедливо. Но если есть сомнение насчет законности и если чужеземцы хотят оружием внушить обязанности русским, я не могу благословить русского, союзника чужеземцев!
– Вижу, что ты несправедливо извещен, отец мой, насчет сына Иоаннова. Он истинный царевич! Мне сказывали, что ты можешь узнавать будущее, читаешь судьбу человеческую по звездам. Испытай истину и предскажи участь царевича. Он перед тобою!
Старец отступил назад, на лице его изобразилось сильное внутреннее волнение:
– Ты сын Иоаннов! – воскликнул он и закрыл рукавом глаза свои. Помолчав немного, старец сказал: – Много людей приходили ко мне совещаться на твой счет и пересказывали различные слухи, носящиеся в народе. Большая часть верит или желает верить, что ты истинный царевич. Напрасно говорили тебе, что я предсказываю будущее и узнаю судьбу человеческую по течению звезд. Будущее известно одному Богу, и судьба человека в святой его воле, непроницаемой для смертного! Что же касается до меня, то я умер для света и, хотя не престаю молиться о благе России, но уже перестал думать о всем мирском. Сын Иоаннов! присутствие твое встревожило мое спокойствие. Иоанн лишил меня жены, детей, отечества – и душевного спасения! Я простил ему во гробе, но не могу простить себе того преступления, в которое он ввергнул меня своею несправедливостью.
– Итак, ты русский! – воскликнул Лжедимитрий.
– Был некогда русским, но преступление мое расторгло узы, соединявшие меня с любезным отечеством. Теперь я странник без отечества! Одна моя надежда – жизнь будущая, одно пристанище на земле – вот этот гроб!
– Поведай мне, святой муж, кто ты таков? Если я не могу вознаградить тебя за несправедливость Иоанна, то очищу память его благодеяниями на роде твоем и племени. Кто ты таков, отец мой?
– Я был некогда другом и первым помощником Иоанна в дни его славы и побед; был другом добродетельных его советников, священника Сильвестра и боярина Алексея Федоровича Адашева. Кровью моею я оросил развалины царства Батыева, где предки наши томились в неволе и, предводительствуя полками русскими, грудью брал твердыни германские во славу имени Иоаннова. Но он презрел службу мою и верность, озлобил сердце мое несправедливостью своею и заставил отречься от любезного отечества. Повторяю: я давно простил ему – но не могу забыть дел его, как своего имени. В мирском быту я назывался – князь Андрей Курбский (68).
– Ты князь Андрей Михайлович! – воскликнул Лжедимитрий. – О, непостижимая участь! На рубеже России, в ту самую пору, когда я вступаю в мое царство, встречаюсь с первым другом и первым врагом моего отца! Почитаю это счастливым предзнаменованием и умоляю тебя примириться с памятью отца в лице сына. – Лжедимитрий протянул руку к Курбскому.
– Я уже сказал тебе, – отвечал Курбский, – что давно забыл о гонениях Иоанна и помню только мое преступление. Царевич! жизнь моя да послужит тебе уроком! В молодых летах я был осыпан милостями отца твоего: был думным боярином, воеводою и приближенным его. Господь Бог помогал мне служить царю верно. Известно всем, что я содействовал более других к взятию Казани, я разбил хана татарского под Тулою, воевал счастливо с Литвою и взял пятьдесят городов в Ливонии! Еще усерднее служил я Царю в совете, говоря истину вместе с преосвященным Сильвестром и красою бояр русских Алексеем Адашевым. Но злобные люди нас оклеветали. Адашев казнен, Сильвестр сослан в ссылку, все верные сыны отечества погибли в муках, а я, избегая казни, ушел из Юрьева-Ливонского, где тогда начальствовал, в Вольмар к королю Польскому Сигизмунду Августу. Бог был ко мне милостив, и добрые люди не обвиняли меня в сем бегстве. Совесть моя была спокойна. Но месть обуяла меня: я вступил в службу Польского короля и, желая вредить царю, вторгнулся с чужеземным войском в отечество, стал терзать его, думая, что тем терзаю душу врага моего, Иоанна. Месть моя скоро насытилась – но совесть возопила! Король наградил меня почестями и вотчинами, дал в супруги юную и прекрасную княжну Дубровицкую, но не мог водворить спокойствия в душе моей. Русская кровь, пролиянная мною, пала на сердце и жжет, точит его, как неугасимое пламя. Тщетно искал я рассеяния в пирах и воинских забавах, напрасно думал успокоить ум учением, переводя с латинского языка на русский Цицерона, описывая войну Ливонскую, взятие Казани и, в оправдание себе, мучительства Иоанновы. Спокойствие, утешение убегали от меня, скользили по сердцу, как солнечные лучи по каменному утесу, не согревая его, но только освещая хладное его существование. Иоанн в письме своем назвал меня изменником отечества, и это название беспрестанно гремело в ушах моих с тех пор, как я обнажил меч противу России. Иоанн сошел в могилу, все беглецы возвратились в Россию, но мне загражден туда вход навеки! Какими глазами смотрел бы я на соотчичей моих, против которых водил толпы чужеземные? Как осмелился бы предстать в храмах Божиих, пред чудотворными иконами, которые оскверняли иноверные мои ратники? Свет постыл мне. Я беспрестанно тосковал по любезном отечестве, стыдился людей и себя, не находил радости ни в любви жены, ни в ласках сына и помышлял о погибших в России жене и детище. Мертвые были мне милее живых! Первая жена моя и прижитый с нею сын были русские. Наконец, не могши преодолеть угрызений совести, я вознамерился примириться с небом; я не мог примириться с отечеством. Под предлогом важного дела уехал я из дому, из вотчины моей Ковеля в Белоруссии, с одним верным слугою. Тайными путями отправился я в Киев и, проезжая чрез здешнюю слободу, узнал, что накануне моего прибытия скончался отшельник, живший в этой пещере. Я вознамерился заступить его место, послал верного слугу к жене с известием, будто я утонул в Днепре и, прияв образ ангельский, веду с тех пор труженическую жизнь. Недавно похоронил я верного моего слугу, сына того самого Шибанова, который принес из Вольмара первое письмо мое к Иоанну и жизнью заплатил за свою верность. Теперь я один в мире, отказался от всех уз земных, и если открываю тебе тайну мою, то это только для того, чтоб она была тебе поучением. Поклянись мне не сказывать никому, что я жив: это одно вознаграждение, которого требую от тебя за несправедливость отца твоего!
– Клянусь сохранить тайну, – сказал Лжедимитрий.
– Помни, что одно преступление неизгладимо – измена царю и отечеству. Гонения, несчастия, несправедливость не оправдывают измены и клятвопреступления. Если ты царь законный – иди и возьми свою вотчину, царство русское; накажи дерзкого раба, осмелившегося посягнуть на достояние Божиих помазанников. Бог благословит тебя, хотя, по моему разуму, лучше было бы, если б ты шел в Россию без иноземцев. Русский царевич найдет верных слуг и в самой России при помощи Божией. Но если ты не царевич, как разглашает Борис Годунов и духовенство московское, – горе тебе! Если ты даже и овладеешь престолом, то не найдешь на нем ни спокойствия, ни утешения: сила адская сокрушится от моления православных. Царь имеет право карать мятежников, но всякий другой, проливающий кровь братии из собственных видов, будет проклят навеки, и если б совесть его была закалена в адском пламени, она размягчится от братней крови и превратится в яд, который вечно будет терзать тело и душу. Помни слова мои – и иди с миром! Наступает час моей молитвы.
– Ты уже примирился с небом, доблий муж! – сказал Лжедимитрий, сильно тронутый речью Курбского. – Благослови меня!
– Если дело твое правое – Бог тебя благословит! Но я, грешник, мученик совести, не смею благословлять никого. Я сам умоляю о помиловании! Помолимся Богу!
Старец и Лжедимитрий упали на колена пред образом и стали молиться. Встав с земли, Лжедимитрий просил позволения обнять князя Курбского и в сильном волнении вышел из пещеры. В безмолвии он возвратился домой и не мог заснуть всю ночь. Страшные слова раскаявшегося изменника раздавались в ушах и терзали его сердце.
* * *
Поутру явились жители Муромеска с хлебом и солью и привели с собою связанных воевод московских, державшихся стороны Бориса. Этот первый успех в земле русской оживил все сердца надеждою. Надлежало переменить предначертание военных действий. Яну Бучинскому поручено было с малым отрядом занять Чернигов, откуда пришли благоприятные известия от начальствовавшего там князя Татева, к которому писал друг его, Хрущов. Сам Лжедимитрий вознамерился с остальным войском переправиться чрез Десну, и идти к Новгороду-Северскому и Путивлю, где собиралось сильное войско Борисово. Ударили в бубны и литавры, заиграли на трубах, и войско выстроилось. Лжедимитрий, прежде нежели надлежало ступить на землю русскую, хотел отслужить молебен для прельщения русских людей видом благочестия. При окончании священнодействия вдруг нашла туча и покрыла небо мраком. Заревел ветер, загремел гром и дождь полился рекою. Лжедимитрий, желая ободрить своих воинов, сел на коня и первый переехал чрез наведенный мост. За ним последовали все польские паны. Лишь только конь Лжедимитрия ступил на русский берег, гром разразился и ударил в землю возле самых конских ног. Лошадь поднялась на дыбы и опрокинулась с всадником. Войско и паны польские пришли в ужас; но Лжедимитрий при сем грозном предзнаменовании не потерял присутствия духа. Он обнял землю, поцеловал ее и, встав, сказал окружающим:
– Вижу действие самого промысла. Провидение бросило меня на мою отечественную землю в знак того, что оно отдает мне ее. Этот гром и буря – для Бориса!.. Вперед!
ЧАСТЬ IV
Видяще же, возлюблении, сию суету жития человечо, иже вчера славою украшен и гордяся в боярах, а ныне персть и прах, вмале является, а вскоре погибает; но помянем своя грехи и покаемся.
Софийский Временник
ГЛАВА I
Любимец царский. Большая Дума. Беспокойство в тереме. Пир царский. Внезапный страх.
Царь Борис Федорович встал с рассветом и велел позвать в рабочую свою палату боярина Семена Никитича Годунова, который дожидался во дворце пробуждения государя.
– Ну, что слышно, Семен, что толкуют в народе о расстриге? – спросил царь.
– Плохо, плохо, великий государь! Злой дух обуял народ. Несмотря на проклятие церкви, на твои грамоты государевы, в народе все толкуют, что этот вор Гришка – истинный царевич!
– Сущее наказание Божие! – воскликнул царь плачевным голосом. – Как можно верить сказкам, разглашаемым беглыми чернецами? Как не помыслить, что если б царевич не погиб в Угличе, то не мог бы укрываться так долго…
– Для народа сказки приятнее истины; народ не размышляет, а думают за него другие!
– Изменники, предатели, богоотступники! – воскликнул царь. – Гнусное боярское дело! Чего им хочется, этим ползунам?
– Власти и богатства, как водится. У меня в Сыскном приказе перебывало в пытке человек до ста знакомцев боярских и слуг. Все показывают, что слышали о царевиче от господ своих. Да что толку, когда ты, великий государь, не велишь трогать их!
– Постой! Трону я их, пошевелю! Узнают они меня, – сказал царь гневно.
– Давно бы пора. Если б ты слушал меня, верного твоего слуги, государь, да отдал мне в руки всех бояр, то давно был бы конец всему делу. Я так бы сжал их в тисках, что запели бы у меня правду-матку! Чистехонь-ко– запутал бы их в одни силки да прихлопнул разом, как воронят в гнезде – и аминь!
– Нельзя, Семен, нельзя! Помнишь ли, какого шуму и крику наделала опала Романовых и их приятелей? Мне доносят, что народ и теперь еще тоАкует об этом.
– Толкует или нет, не наше дело, а что нужно, то должно. Пословица твердит: за один раз дерева не срубишь; а уж как начали, так надлежало кончить. После было бы гораздо легче! Недаром говорят: первую песенку зардевшись спеть. Уж когда удалось с Романовыми, которых народ чтил, как святых, то с другими пошло бы как по маслу. Если ты, государь, рассудишь послушать совета верного твоего холопа, то позволь мне взять в клещи эти упрямые боярские бороды! Чем ждать, пока они все станут изменять, как князь Татев и его товарищи, так лучше заранее избавиться от них. Царь Иван Васильевич не боялся толков: он бы их давно уж припрятал в родовые могилы. Терпеть хуже; недаром говорят: сделайся овцою, а волки будут.
– Нет, Семен, этак нельзя! Я опасаюсь раздражить слишком народ!
– Чего опасаться, государь, народа! Он, как дудка: гудит, как в него подуют. Опасны бояре – итак, надобно сбыть всех подозрительных.
– Да кого же ты подозреваешь более, Семен?
– Всех, кроме наших Годуновых да еще двух-трех наших свойственников.
– И Басманова?
– Государь! Скажу тебе правду и об нем. Сослужил он тебе верную службу в Новгороде-Северском, не поддался самозванцу, спас город, помог в Добрыничской битве; но все старики толкуют, что ты слишком возвеличил его за то, что каждый должен был бы сделать по крестному целованию. Его ввезли в Москву по твоему приказу в рыдване, как диво какое, ты наградил его светлым платьем и дорогими сосудами, дал боярство, обширные вотчины, и что всего более – допустил к своей царской милости, какою прежде никто не пользовался. Это еще более сокрушает нас, стариков.
– Что это значит, Семен! – сказал государь, наморщив чело. – Ты не говорил никогда со мною так смело. Видно, что пример других подействовал и на тебя в нынешнее время, или, вернее, зависть мучит тебя. Все вы на один покрой! Усердны не ко мне, не к отечеству, а к своим выгодам. Дорожите царским взглядом, словом, как товаром. Знаю я вас!
Боярин Семен Никитич бросился в ноги царю и воскликнул:
– Прости и помилуй, государь-надежа, если словом или делом огорчил тебя! Но мы, верные твои слуги, не можем хладнокровно смотреть на новичков, пользующихся твоею доверенностью. Они не дали столько опытов своей верности, как мы, твои люди. Им все равно, кто б ни был царем, лишь бы награждал их; но мы, Годуновы, живем и дышим одним тобою.
– Встань, Семен, прощаю тебя, но вперед будь осторожнее. Не бойся – будет всем вам довольно, только служите мне верно. В лице Басманова я награждал верность и усердие, в которых у меня теперь недостаток. Мне надобны ныне храбрые воины, верные воеводы, понимаешь? Пройдет гроза, и они опять будут тем же, чем были прежде, то есть ничем; а вы – навсегда останетесь тем, чем были.
Боярин поклонился в землю.
– Не слышно ли чего от наших иноков из Путивля? – спросил царь.
– Ничего не слышно, но я надеюсь, что они сделают свое дело. Старик, которому мы дали твою грамоту к путивлянам, красноречив и, верно, убедит их связать вора и отдать твоим людям. Младший предприимчив и смел. Он зашил зелье в сапог и поклялся опоить злодея-расстригу. Одним или другим образом, но он не избегнет гибели, этот проклятый чародей… (69).
– Дай Бог, чтоб твоими устами да мед пить!.. Сказано ли датчанам, чтоб были у меня сегодня на трапезе? – спросил царь.
– Сказано приставам, и конюший нарядит бояр, чтоб привести их во дворец по обычному уставу.
– Повещено ли боярам быть в Большой Думе, а после откушать у меня хлеба-соли?
– Повещено. Уж дворяне твои и бояре начали собираться в сенях и в нижней палате.
– Хорошо, ступай же, призови ко мне Петрушку!
Семен Никитич Годунов вошел в нижнюю палату, примыкающую к сеням, где собравшиеся бояре сидели на скамьях и перешептывались между собою. Один из них, высокий, статный муж, красивый лицом, лет тридцати пяти, сидел в отдалении от прочих, поглаживал свою черную бороду и смотрел на других исподлобья. На нем было новое светлое платье, парчевая ферязь с высоким стоячим воротником, которого отворот лежал на спине. Воротник и застежки на ферязи и воротник шелковой рубахи унизаны были жемчугом. Поверху он имел длинный охабень из красного бархата. На остриженной в кружок и подбритой спереди и с тыла голове была тафья, сплетенная из золотых и серебряных ниток с жемчугом. На груди висела золотая гривна на золотой же цепи. Под мышкою держал он высокую соболью шапку. Красные сапоги окованы были серебром. С завистью поглядывали бояре на этот наряд, подарок царский, и не смели заговорить с новым любимцем, зная его угрюмость.
– Царь-государь повелел предстать пред светлые очи свои боярину Петру Федоровичу Басманову! – сказал боярин Семен Никитич и чинно поклонился сперва ему, а после всему собранию.
Высокий и статный боярин, сидевший в отдалении от других, встал, надел шапку и важною поступью вышел из комнаты.
– Знаешь ли ты пословицу, князь Никита: раздулся, как мышь на крупу? – сказал боярин Иван Михайлович Бутурлин.
– Знаю и другую, – отвечал князь Никита Романович Трубецкой, – красненькая ложечка охлебается, так и под лавкой наваляется.
– Что ты это, князь Никита, зашел в чужую клеть молебен петь? – возразил князь Иван Михайлович Глинский. – Знал бы про себя да молчал, так было бы здоровее.
– По-моему, так лучше плыть через пучину, чем терпеть злую кручину, – отвечал князь Никита Трубецкой.
– Не тебе бы говорить, а не нам бы слушать, – примолвил боярин Иван Петрович Головин.
– Мне эти выскочки, как синь порох в глазе, – сказал князь Никита.
– Все мы холопи государевы, – отозвался боярин Яков Михайлович Годунов. – Его воля над нами: чем прикажет быть, тем и будем!
Боярин Семен Никитич Годунов улыбнулся и так зверски посмотрел кругом, что все замолчали.
Между тем Басманов вошел в комнату государеву и, помолясь перед образом, поклонился в землю царю.
Царь сидел за своим столом, приветствовал Басманова ласковою улыбкою и, помолчав немного, сказал:
– Послушай, Петр! на тебя у меня вся надежда! – Боярин снова поклонился в землю. Царь продолжал. – Не страшен мне этот вор, расстрига Гришка Отрепьев, но страшны для отечества измены, несогласие и неспособность бояр, которым вручена судьба церкви и престола. Что они делают с войском, в котором теперь около восьмидесяти тысяч человек! Стыд и срам вспомнить! До сих пор они не могли истребить бродягу, имеющего едва пятнадцать тысяч всякой сволочи. Разбили расстригу под Трубчевском, под Добрыничами, а что проку из этого? Он жив, злодействует и снова собирает войско, тогда как воеводы мои спят под Кромами, не будучи в состоянии взять этого бедного острога, где не более шестисот изменников. Восемьдесят тысяч воинов с стенобитным снарядом осаждает шестьсот бродяг! Позор! Но это не трусость, а злорадство. Как изменил князь Татев в Чернигове и князь Рубец-Мосальский в Путивле, так готовятся изменить все мои бояре. Князь Федор Иванович Мстиславский – человек добросовестный, лично мужественный, но плохой воевода. Храбро дрался он под Трубчевском, как простой воин, и только пятнадцатью полученными им ранами купил мою милость. Побежденный расстрига извлек более выгод из этой битвы, нежели победители. Теперь князь Мстиславский слаб от ран, а второй под ним, князь Василий Иванович Шуйский, нанадежен, хотя и свидетельствовал на Лобном месте о смерти царевича Димитрия. Род Шуйских враждебен моему исстари. Не верю Шуйским, а особенно князю Василию! Медленность, нерешительность, и, наконец, отступление от Кром в то время, когда надлежало идти на приступ – явный признак измены Михаилы Салтыкова. Князья Дмитрий Шуйский, Василий Голицын, Андрей Телятевский, боярин Федор Шереметев, окольничие князь Михайло Кашин, Иван Годунов, Василий Морозов губят рать в поле от холода и голода, а не действуют как должно, одни от незнания, другие – замышляя измену. Вижу, что надобно принять решительные меры, когда ни страх, ни милость не действуют. Целая южная Россия уже вдалась в обман и признает расстригу царевичем, а самые верные воеводы мои дремлют, спорят между собою и из зависти, думая вредить друг другу, губят отечество! Я раздумал и хочу тебя, верного моего слугу, сделать одним главным воеводою над целым войском, с властью неограниченною, которою наделю тебя по царской воле моей.
Басманов поклонился снова в землю и сказал:
– Но что заговорят твои бояре? Захотят ли они мне повиноваться?
– Бояре! – воскликнул царь. – Знаю я их лучше, нежели ты, Петр! Государи, рожденные на престоле и окруженные ими с малолетства, не могут хорошо знать их, потому что сами бояре внушают им с детства мысли, для себя благоприятные. Они стараются вперить в царское сердце, что хорошо царствовать – значит быть щедрым и снисходительным к боярам и строгим к народу. Но я сам состарелся между боярами, меня нельзя обмануть! Я разгоню этот дым, окружающий мой престол царский и скрывающий его от народа. Я сокрушу это ветхое основание родовой заслуги, которая делает человека знаменитым по месту, а не по качествам, и отнимает места у истинной доблести. У меня будет князем и боярином тот, которого мне угодно будет признать в сем звании, и столько времени, сколько я захочу. Прочь, ненавистное местничество! – Царь остановился; и Басманов молчал. – Мой бешеный Семен Никитич все просит у меня, чтоб истребить дотла боярские роды, – примолвил царь. – Я этого не сделаю, но лишу их средства вредить отечеству взаимною ревностью. Жалко смотреть, как люди богатые, знатные, унижаются, чтоб получить немного власти для угнетения низших и для чванства пред равными! Смешно, как эти мудрые головы повергаются в прах, чтобы после возвысить чело пред беззащитными! Ползают, лижут ноги – из места; а дашь место – нет толку! Ну что ты скажешь об этом, Петр?
– Государь! Я думаю, что благоденствие отечества держится на твердости и непоколебимости престола, а престол поддерживается истиною и правосудием. Самый верный и самый покорный слуга государев есть тот, кто говорит царю правду. Прости, государь, моей смелости! Взысканный, возвеличенный тобою, я твой телом и душою и почитаю долгом говорить перед тобою правду. Местничество есть великое зло. Государь, который решится истребить его, возвеличит Россию столько же, как свержением ига татарского. От местничества происходят все наши несчастия. Это бесспорно. Но насчет бояр я осмеливаюсь думать иначе, государь! Как светила небесные имеют свой чин и порядок, так и между людьми должно быть различие. Нельзя попрать заслуги предков. Эти заслуги обязывают потомков уподобляться им и внушают благородную гордость, которая может принесть плоды полезные, если будет направляема благоразумно. Между боярами есть люди добросовестные, умные и способные к делам; от тебя, государь, зависит выбирать каждого по его способностям. Надобно, чтоб местничество было в воле царской, а не в книгах разрядных. Думаю и верю, что между русскими нет и не будет изменников престолу и отечеству. По нынешним обстоятельствам нельзя судить о прямодушии русского народа. Может быть, чужеземцы, приведшие в Россию расстригу, утвердятся в убеждении, что русские легкомысленны и неверны престолу, судя по той легкости, с какою они передаются бродяге. Но самое зло имеет благое начало. Чувство благородное, привязанность к царской крови, ослепляет россиян. Имя, пленительное для русского слуха и сердца, имя потомка царей русских Димитрия, соблазняет верных и добрых людей. Не скрываю пред тобою, государь, что опасность велика для престола и царства. Одна сила воинственная не в состоянии сокрушить крамолы и рассеять обольщения: надобно действовать на ум и на душу россиян, то есть употребить средства, которыми у нас всегда пренебрегают. Расстрига действует не силою воинственною, но обольщением умов и душ. Наступило время, в которое должно употребить все, зависящее от власти твоей, государь, чтоб покорить сердца и умы народа твоего убеждением, а твердостью убеждения народного низвергнуть злодея. Не изменников должно искать в русском царстве, чтоб казнить, а должно отыскивать верных, но слабых людей, чтоб просветить их! – Басманов, кончив речь, поклонился царю.
– Что ж, ты думаешь, надобно предпринять? – спросил Борис.
– Сесть самому на коня, государь, созвать всех верных россиян к войску и в сопровождении синклита и духовенства, с чудотворными иконами ударить на злодейские скопища, изрыгнутые злом для уничтожения православия. Когда увидят царя в ратном поле и услышат из уст царских истину, народ пойдет за помазанником, за венчанным владыкою.
– Нет, Басманов, я не пойду на войну! Мне стыдно ратоборствовать с бродягою, с расстригою, с самозванцем, которого ожидает виселица.
– Объяви войну Польше, государь, за нарушение трактата и вторжение в твое государство. Ты будешь воевать с Польшею.
– Это значило бы усилить злодея и заставить Польшу явно признать его царем Московским. Это бы еще более смутило Россию! Теперь Сигизмунд клянется, что польская вольница вторгнулась в Россию без соизволения Сейма, и предает самовольных польских бродяг моему правосудию, а тогда будет другое дело. Тогда самозванец будет уже не бродягою…
– Государь, я думаю, что в решительные минуты сила и скорость – единственное спасение.
– Я прибегну к этим средствам, только другим образом. Соберу рать сильную и дам тебе начальство над нею. Ступай, ратуй, спаси престол и царство, и ты, став подпорою престола, уготовишь себе место на первой ступени его и вознесешься превыше всех слуг моих на развалинах местничества. Сегодня решу в Думе набор войска, а завтра объявлю тебя первым и главным воеводою. До свидания!
* * *
Царица Мария Григорьевна сидела подгорюнившись в своем тереме. Перед нею сидела на низкой скамье дочь ее, Ксения, закрыв лицо шелковым платком, а возле дубового шкафа стояла, поджав руки, няня Марья Даниловна.
– Перестань кручиниться, дитятко! – сказала царица, – твои слезы падают мне на сердце.
– Прости, родимая! – возразила царевна, – но я не в силах ни скрыть, ни истребить кручину. Давно ли я схоронила в сырую землю жениха моего, Датского царевича, которого позволили мне любить и государь-батюшка, и ты, родимая, и святейший патриарх? давно ли я оплакала этого дорогого гостя, который для меня отрекся от своего отечества и хотел принять нашу веру православную – и вот новые беды носятся над родом нашим! Ах, матушка! страшно вспомнить об этом злодее, который теперь грозит смертию батюшке и всем нам. Ведь мы с няней видели его в лицо. Как он ужасно смотрел на меня исподлобья, как будто хотел проглотить; как он дерзко схватил меня за руку! А кровь-то в нем пылала, как адское пламя. Даже сладкие его речи казались мне змеиным шипеньем. Кровь стынет, как подумаю!
– Как это ты, Марья, допустила к себе этого злого духа? – спросила царица. – Ведь он мог бы заколдовать или оморочить мое детище. Все говорят, что он лютый чародей!
– Ах, матушка-царица! – отвечала няня, – ведь бес-то принимает на себя всякие образы. Мне, грешной, почему было знать, что он чародей? Он пришел ко мне с грамоткою от киевского архимандрита, которого и ты знаешь, царица-матушка, как святого мужа.
– Батюшка крепко грустит и кручинится, – сказала Ксения. – А он и так часто бывает недужен. Я смертельно боюсь, чтоб он не слег. Ведь он почти не спит, не изволит ничего кушать и часто гневается. Это не дает здоровья, как говорит наш немец Фидлер.
– Что делать, дитятко! Ведь родитель твой должен помышлять не об нас одних, а об целом царстве русском. Как ему не печалиться, когда нечистая сила напустила злодея на пролитие христианской крови! Вот был разбойник Хлопка, так его шайку истребили скоро при помощи Божией, а этого лютого чародея так ничем нельзя извести, ни воинством, ни анафемой!







