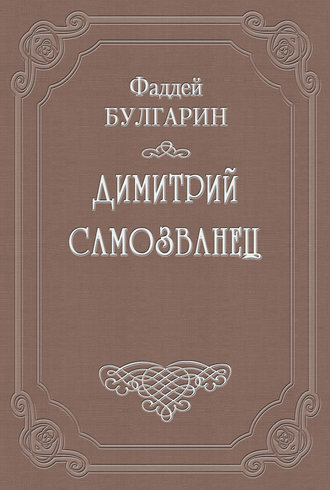
Фаддей Булгарин
Димитрий Самозванец
– "Мерила льстивыя мерзость пред Господем: вес же праведный приятен Ему", – сказано в притче Соломоновой (19), – отвечал монах. – Ты мне повелел говорить правду; не хочу лицемерить. Слушай и мужайся: "От плодов правды снесть благий" (20).
– Говори, говори, Бог с тобою! – воскликнул Борис, закрыв лицо руками.
– Не делами гласными, но любовью измеряет Господь сердце. Скажу тебе быль. В храм монастыря Афонского приходили ежегодно с дарами два грека. Один из них был богат и в милости у правителя области. Он предал неверным соседа своего, оклеветав его в злоумышлении пред престолом султана, и получил за сие знатную часть достояния погибшего безвинно единоверца. В златотканых одеждах, с гордостью входил предатель во храм, и слуги его, одетые богато, приносили драгоценные дары к удивлению всего народа, который, не зная ни источника богатства кичливого грека, ни цели его приношений, хвалил и прославлял его. Другой грек, в бедном одеянии, приносил на своих плечах в храм только десятую часть того, что ему оставалось лишнего от трудов его, а девять частей раздавал втайне бедным. На Страстной неделе, когда богатый грек, раздав пред храмом щедрую милостыню и украсив алтарь золотом и багряницею, гордо озираясь, приступил к святому причащению и отворотился от бедного грека, приносящего скудную свою десятину, архимандрит, в полном облачении, с святыми дарами в руках, произнес слова апостольские: "Ничто же бо покровенно есть, еже не открыется, и тайно, еже не уразумеется" (21). Потом, благословив убогого грека и причастив святых даров, обратился к богатому и сказал: "Очисти душу свою смирением и покаянием: кровь, невинно пролитая, вопиет к небу об отмщении. Богатство твое – гнилость, дары и милостыня – добыча ада, и не обратятся к небу, как жертва Каинова: "Убойтеся имущаго власть по убиении воврещи в дебрь огненную" (22). Господь смотрит на сердце, а не на руки, и судит по желанию, а не по исполнению. "Аще убо вы зли суще умеете даяния благо даяти чадам вашим" (23). Гордый даятель со стыдом вышел из храма, ибо он искал славы земныя, а не спасения души и покоя внутреннего.
– К чему клонится речь твоя и на кого ты метишь своею притчей? – сказал царь грозно.
– Судья твой – Бог, а не я, государь! – сказал монах, низко поклонясь. "Сердце царево в руце Божией". Он один ведает тайные твои дела и помышления, он один награждает и наказует царей. Я к тому рассказал быль, чтоб показать тебе, что кажущееся великим на земле, иногда бывает малым пред Богом. Мир видит дела твои, чтит тебя и превозносит. Благо тебе, если всякое дело проистекает из чистого источника. Не о тебе думал я, государь, рассказывая быль, но обо всех сынах земли, от мала до велика, от царя до нищего.
– Довольно, Бог с тобой! – сказал Борис. – Ты молод, но язык твой льстив и ум коварен. – Он вынул из столового ящика горсть ефимков и подал монаху. – Возьми это и ступай с Богом восвояси.
– Я доволен твоею милостью, государь, и не возьму денег, – отвечал монах.
– Возьми на украшение храма твоей обители, – сказал Борис и, завернув деньги в шелковый платок, отдал монаху. – Ступай за мною! – примолвил царь, отпер противуположные двери, вывел монаха в другую комнату и позвал служителя, которому велел проводить его на улицу.
* * *
Лишь только царь Борис Федорович возвратился в свою комнату, вошла туда царица с царевичем Феодором и дочерью Ксениею. Не могло утаиться от ближних беспокойство, смущение царя Бориса. Лицо его было бледно, глаза мутны, дыхание тяжело.
– Ты нездоров, государь, – сказала царица, – не лучше ли посоветоваться с лекарем?
– На мою болезнь нет лекарства, – отвечал Борис, – но это пройдет. Что день, то гнев, неудовольствие, досада! Ты знаешь, что мне невозможно обойтись без этого. Самые близкие ко мне люди не исполняют моих приказаний. – Царевна потупила взоры при сих словах родителя и покраснела. Борис продолжал, обращаясь к царице: – Твоя Марья Даниловна делает беспрестанно глупости: созывает в мои палаты разных бродяг; то не хочет лечиться, то лечится по-своему; внушает дочери моей ненависть к иностранцам. Я думаю выбрать из боярынь или княгинь какую-нибудь умную женщину… Мне наскучила эта старуха. – Борис опустил голову и замолчал.
– Помилуй, государь! – сказала царица, – ты убьешь бедную Марью, если удалишь ее от нашей дочери, которую она взлелеяла и вскормила на своих руках. Марья – вторая мать Ксении, они так любят друг друга! Неужели ты захочешь расстроить счастье твоего семейства? Марья принадлежит к семье нашей. – Царевна не могла удержать слез при мысли, что ей должно расстаться с доброю нянею, и горько заплакала.
– Успокойтесь, успокойтесь! – сказал Борис, тронувшись. – Пусть будет по-вашему, я только думаю так… но не хочу нарушать вашего счастья, если вы почитаете это счастьем. Боже всевидящий! чем я жертвовал, на что отваживался, что претерпел для вашего счастья, дети мои! Мне ли нарушать его? Обнимите меня! – Юный Феодор и Ксения бросились в объятия родителя. Глаза Бориса омочились слезами. Он замолчал и погрузился в думу.
– Мы пришли звать тебя на вечернюю молитву, – сказала царица. – Священник ждет в образной.
– Молитесь, молитесь, дети мои! – воскликнул Борис. – Ваш родитель имеет нужду в заступлении чистых душ. – Борис опомнился и продолжал: – Как царь я должен карать й миловать. Быть может, в числе обвиняемых и осуждаемых есть невинные, за которых я должен буду отвечать.
– Отвечать будут те, которые смущают тебя злыми изветами, которые скрывают правду пред твоим царским престолом, а не ты, творящий суд и правду по видимому и слышимому, – сказала царица.
– Молитесь, молитесь, дети, за царя и родителя! – воскликнул снова Борис. – Вы еще чисты и непорочны, как агнцы: Господь внимает праведным.
– Мы всегда молимся за родителей, – сказала Ксения.
– И не имеем другого желания, кроме твоего счастия, – примолвил Феодор.
– Милый друг мой Борис Федорович, пойдешь ли с нами в образную? – спросила царица.
– Нет, добрая моя Мария! ступай с Ксенией и, помолившись, отпусти священника, а после идите почивать с миром. Я останусь с Феодором. – Борис, сказав сие, простился с женою и благословил дочь. Когда они вышли из комнаты, Борис велел сыну сесть возле стола. Несколько времени продолжалось молчание. Наконец Борис сказал:
– Сын мой! я старею, недуги одолевают мое тело, внутренняя скорбь истощает душу. И цари – смертны! Я приготовил тебе наследие, которое мне и не мечталось, когда я был в твоих летах. Были времена грозные при Иоанне – я пережил их. Много было козней противу меня при Феодоре – я их избегнул и из раба сделался повелителем обширнейшего царства в мире. Господь дал мне тело крепкое, душу твердую и ум, способный понимать пользу и вред от дел человеческих; но я не получил такого воспитания, какое даю тебе. Под руководством иностранных наставников ты изучаешься всему, что нужно, чтоб быть мудрым правителем. Мудрость целого мира пред тобою: изучай умом, но избирай сердцем советы мудрецов. Люби народ свой; без этого ты можешь быть знаменитым, славным, но никогда не будешь счастливым, – Борис остановился.
– Родитель мой! – воскликнул юный царевич. – Зачем смущаешь себя черными мыслями? Тебе еще далеко до глубокой старости, и Господь сохранит тебя для нашего счастья, для счастья России. У кого мне лучше учиться царствовать, как не у тебя, государя, избранного сердцами народными, прославленного подданными и чтимого иноземными владыками?
– Ты находишься в других обстоятельствах, сын мой, – возразил Борис, – и потому тебе предлежит иной путь, нежели мне. Я избранный царь, а ты будешь царь наследственный: важное преимущество предо мною! Гордые бояре и князья рода Рюрикова, родственники и ближние угасшего царского племени, не могут никогда забыть, что я был им равный и даже низший по местничеству. Они неохотно мне повинуются и беспрерывно сплетают новые козни ко вреду моему. Если Господь допустит мне еще пожить несколько лет, я очищу вертоград царский от плевел крамолы, исторгну с корнем ядовитые зелия, виющиеся вокруг родословного моего дерева. Многие враждебные роды должны погибнуть для общей безопасности и спокойствия, и ты будешь царствовать над новым поколением, которое от колыбели привыкнет чтить тебя будущим своим владыкою, взирать на тебя, как на существо высшее, рожденное для власти. Повторяю: на твоей стороне важное преимущество, сын мой, ты найдешь все готовое, пойдешь путем очищенным…
– Ах, родитель мой! – воскликнул юный Феодор с слезами на глазах. – Стоит ли будущее мое величие тех жертв, которые ты приносишь для утверждения меня на престоле? Если между ними есть невинные?.. Несчастие безвинного может обратиться на мою голову.
– Безвинные!.. Дитя! – воскликнул Борис. – Кто тебе внушил эти мысли, эти рабские чувства? Для того ли отваживал я мое счастье, спокойствие и… словом, отваживал все, чтоб передать власть в руки малодушного? Безвинные жертвы! Разве это не вина – завидовать мне, быть неблагодарным? Честолюбивые бояре питают ко мне злобу и ненависть за то только, что я царь и что не каждый из них царем на моем месте; они почитают меня виновным за то именно, что я возвеличен судьбою не по рождению, но по заслуге. Неужели я должен почитать их правыми за то самое, за что они почитают меня виновным? Стыдись своей слабости, первородный сын родоначальника нового царского поколения! Кровь, пролиянная на войне, на защиту веры, престола и отечества, как целебный бальзам, оживляет и укрепляет силы государства. Я в войне среди мира для доставления тебе спокойного царствования; понимаешь ли, сын мой?
– Но где же твои враги, государь, где противоборники? – сказал Феодор. – Все беспрекословно повинуются твоей власти, от первого боярина до холопа; все по одному твоему мановению готовы положить за тебя свои головы. Родитель мой! я молод и неопытен, не смею ни давать тебе советов, ни излагать моего мнения. Но я читал в "Римской истории", что многие римские императоры напрасно терзались подозрениями и казнили людей праведных по наущению злых, которые изветами и ложными доносами хотели выслужиться, показать свое усердие для приобретения царских милостей и вместе для удовлетворения своему мщению. Таков был Сеян при Тиверии…
– Хорошо, что ты помнишь прочитанное; но зачем же ты забыл о заговорах подлинных, невымышленных, которые были составлены на жизнь многих римских императоров? – сказал Борис, горько улыбнувшись. – Сын мой! взятое силою должно быть и охраняемо силою. Сладко благотворить и миловать, но я принужден прибегать к казням и опале для доставления тебе и потомству твоему наслаждения делать добро. Мучусь, терзаюсь для счастья, величия моего рода! Сын мой, утешь меня! – Борис встал, и юный Феодор бросился в его объятия. Слезы их смешались.
– Благотвори, милуй, родитель мой! – воскликнул сквозь слезы растроганный Феодор. – Не хочу другого дара от тебя, кроме любви народной!
– Это твой удел, сын мой, – сказал Борис, сев на прежнее место, – тебе предоставляю милость, себе строгое правосудие и труд истреблять крамолу. Но если сердце твое будет говорить в пользу обвиненного – проси, я не откажу тебе в помиловании.
– Благодарю тебя, родитель мой! Ты делаешь меня богаче всех владык земных! – Феодор бросился к ногам государя и облобызал его руки. Борис поднял сына, прижал к сердцу и благословил.
– Ступай почивать и позови ко мне моего немого, чтоб раздел меня и положил в постель, – сказал Борис, – я две ночи мучусь бессонницею и сегодня так утружден, что надеюсь заснуть. – Феодор вышел, и Борис стал молиться перед образом.
ГЛАВА IV
Свидание двух заговорщиков. Подозрения. Прием польских послов в Грановитой палате.
Mонах из дворца пошел прямо к церкви Василия Блаженного на Лобном месте. Здесь, на паперти, дожидался его товарищ.
– Ну, слава Богу, наконец ты отделался благополучно! – воскликнул Леонид. – Я начинал уже беспокоиться о тебе. Ты слишком смело начинаешь, Иваницкий! Монашеская одежда не всегда может спасти тебя от предательства клевретов Бориса и его подозрительности.
– Первый шаг сделан, теперь робость скорее может погубить, а не спасти, – отвечал Иваницкий.
– Кто тебе говорит о робости? – возразил Леонид. – Благоразумие и робость не похожи друг на друга. Но излишняя смелость может испортить все дело, погубить тебя и всех нас…
– Что, всех вас? – воскликнул Иваницкий, прервав речь приятеля. – Везде вы о себе думаете! Что с вами станется? Неужели ты думаешь, что огонь и железо могут заставить меня изменить товарищам, открыть тайну? Не знаешь ты меня, Леонид! Я смолоду закалил себя на все труды и муки. Есть ли при тебе нож? Испытай: режь меня – увидишь, что испущу дух, но не подам голоса.
– Бог с тобой! – сказал Леонид. – Береги свое терпение на другой случай.
– Знаешь ли ты, с кем был я наедине, в Кремлевских палатах? – сказал Иваницкий.
– Разве ты ходил не к няне царевниной? – спросил Леонид.
– Ходил за зайцем, а видел волка, – примолвил Иваницкий. – Я беседовал наедине с царем Борисом!
– Шутишь! – воскликнул Леонид.
– Клянусь Богом, что говорю правду. Царь Борис застал меня у няни, где была и царевна. Сперва разгневался, но, узнав, что я толкую сны, призвал к себе и открыл передо мною душу свою!
– Видно, он догадался, что ты пришел за его душою. Что ж он говорил тебе? – спросил Леонид.
– Я целовал крест, чтоб молчать, – отвечал Иваницкий. – Скажу только, что в каменном сердце Бориса есть также трещины, слабые стороны, чрез которые можно сокрушить его силу душевную. Любезный друг! Царь Борис кажется твердым, непреклонным, выше судьбы; но надобно видеть сильных в минуты их слабости, чтоб знать их совершенно. Борис с летами упал духом: суеверие им овладело. Лютейший враг его и наш лучший помощник – собственная его совесть. Он мучится на престоле, как грешник в аде, и не устоит противу грозного испытания, когда законный наследник царства восстанет из гроба требовать от него отчета. Теперь я совершенно уверен в успехе. Сновидения Бориса и его дочери, виденные ими на одной неделе, – ужасные сновидения – открывают мне будущее.
– Давно ли ты принялся за ремесло вещуна и снотолкователя? – спросил с улыбкою Леонид.
– Не смейся, друг мой! Ты знаешь, что я далек от предрассудков и суеверия и не вовсе верю тому даже, чему надлежало бы верить, но… не постигаю сам причины, отчего сон Бориса привел меня самого в ужас. Удивительнее всего, что и царевна видела во сне ужасные мечты, весьма близкие к нашим замыслам. Должно быть в мире что-то сверхъестественное, чего мы не можем постигать нашим умом. – Иваницкий задумался и после краткого молчания воскликнул: – Ах, как мила царевна Ксения!
– Ты, как языческий жрец, восхваляешь жертву пред закланием, – сказал Леонид.
– Нет, друг мой, – сказал Иваницкий пламенно, – Ксения не погибнет! Она должна жить и быть счастливою. Я – защитник ее!
– Ты сам не знаешь, что говоришь, – отвечал Леонид. – Престол должен быть очищен для законного государя, а этого нельзя сделать, не истребив целого семейства Годуновых.
– Пусть погибнут все – кроме Ксении! – воскликнул Иваницкий.
– Счастливую участь ты хочешь приготовить ей, истребив весь род ее и племя! – сказал, улыбаясь, Леонид. – Воля твоя, а ты иногда бредишь, как во сне, – примолвил он. – Как можно думать, чтоб царевич Димитрий согласился оставить в величии или, по крайней мере, в живых дочь лютейшего врага своего, которая может своею рукою возбудить притязателя, мстителя? Кто осмелится предстательствовать за нее?
– Я! – отвечал Иваницкий гордо. – Она будет моею женой, и горе тому, кто помыслит препятствовать моему счастью! Видел ли ты ее?
– Нет. Но хотя бы она была краше всех красот земных – это не мое дело, – сказал хладнокровно Леонид. – Полагаю, что и тебе надлежало бы так думать. Не для волка растут красные яблоки!
– Любезный друг! – сказал Иваницкий. – Я два раза видел Ксению, Два раза говорил с нею и полюбил ее, полюбил, как никогда не думал, чтоб мог любить! Она должна быть моею! Я вдохну любовь в эти розовые уста, в эту нежную грудь: я научу ее жить новою жизнью! Она должна быть моею: отныне это вторая цель моей жизни!
– Иваницкий! в своем ли ты уме? Умерь пылкие твои страсти, подчини буйство юности рассудку. Слыханное ли дело, чтоб тебе, безродному, мечтать о царской дочери? И если даже мы успеем лишить ее звания царевны, то можно ли, для удовлетворения безрассудного желания, пренебрегать выгодами царя законного и царства? Так ли должен думать первый посланник царя Димитрия?
– Все в моей власти! – сказал, задумавшись, Иваницкий.
– Другой на моем месте мог бы подумать, что ты замышляешь измену, хочешь ценою предательства купить право на руку дочери Бориса! – сказал Леонид– Я этого не думаю, но во всяком случае опасаюсь, что твоя сумасбродная любовь может наделать хлопот царевичу Димитрию.
– Пожалуйста, не опасайся за Димитрия! – возразил Иваницкий. – Я не могу изменить ему, как душе своей, и мое желание – его воля. Верь, если ты друг мне.
– Я друг твой, но сын России и верноподданный царя Димитрия Иоанновича, хотя и не имел счастия поныне видеть его.
– Увидишь, узнаешь и полюбишь! – отвечал Иваницкий быстро. – Леонид! дружба ко мне будет так же щедро награждена Димитрием, как преданность к нему самому. Это верно, как Бог на небе!
– Верю и знаю, что ты пользуешься всею доверенностью царевича, – сказал Леонид, – но ты должен, друг мой, для собственного счастия и блага царевича следовать советам дружбы, умерять страсти пылкие, особенно в нынешних обстоятельствах, забыть все земное, кроме одного: нашего великого предприятия.
– Довольно, довольно! – воскликнул Иваницкий. – Прошу тебя, сокрой во глубине души все, что ты от меня слышал. Я сам постараюсь забыть… Но пора домой, завтра представление посла.
Два приятеля сошли с паперти и направили путь к Кремлевской стене. Там, в уединенном месте, под камнем, сохранялись епанча и шапка Иваницкого, спрятанные им накануне. Он снял с себя рясу и клобук, положил под камень, накинул епанчу на легкое полукафтанье, простился с Леонидом и скорыми шагами пошел на Литовское подворье. Противу обыкновения калитка была отворена. Бучинский встретил Иваницкого с беспокойным лицом.
– Канцлер два раза тебя спрашивал, – сказал Бучинский, – и, как кажется, весьма недоволен тобою. Маршал Боржеминский наблюдал за тобою и, приметив, что ты отлучаешься из дому по ночам без ведома канцлера, донес ему. Я не мог лгать в твое оправдание противу свидетельства маршала и сказал канцлеру, что ты точно отлучался несколько раз, но, как мне кажется, по любовной связи. Не знаю, хорошо ли я сделал, сказав это?
– Все равно, что б ты ни сказал, – отвечал хладнокровно Иваницкий, – потому что ты ничего не знаешь. Я сам буду говорить с канцлером.
– Предуведомляю тебя, что ты должен быть весьма осторожен в ответах. Я слышал, как канцлер говорил: "Если он отлучается для разведывания в пользу посольства, то зачем ему скрываться? Нет ли тут каких козней? Единоверчество легко может увлечь его к измене. Надобно принять свои меры". Он так говорил на твой счет, и я, как видишь, откровеннее тебя и имею к тебе более доверенности, пересказывая тебе слова канцлера, нежели ты ко мне.
– Спасибо, друг! Будь уверен, что ты не ошибаешься во мне. Все узнаешь, когда придет время. Что же касается до канцлера, то ни гнев, ни подозрения его мне не страшны!
– Он имеет над тобою власть и может требовать у тебя отчета в твоем поведении, – сказал Бучинский.
– Власть надо мною! – воскликнул Иваницкий. – Нет, я признаю над собою власть одного Бога и ему одному дам отчет в моих поступках!
– Эта вольность переходит за пределы прав и свободы нашего народа. "Служба тратит волю", твердит пословица. Ты в службе королевской, в службе Речи Посполитой, и, находясь при посольстве, зависишь от посла. Кажется, это ясно. Ведь ты не школьник, чтоб упрямиться! – сказал Бучинский.
– Из всего этого не следует, что посол должен наблюдать все мои поступки. Я делаю, что мне велят; делаю более, нежели сколько обязан, и служу Речи Посполитой гораздо более, нежели сам посол, – возразил Иваницкий. – Успокойся, друг мой! – примолвил он. – Увидишь, что канцлер усмирит свой гнев, когда переговорит со мною, и останется довольнее прежнего. Добрая ночь!
На другой день, лишь только Иваницкий открыл глаза, слуга посольский позвал его к канцлеру. Сапега был один в своей комнате. Он бросил на Иваницкого проницательный взгляд и сказал:
– Вы отлучаетесь по ночам из дому без моего ведома, господин Иваницкий! В нынешних обстоятельствах это должно возбудить подозрение к единоверцу неприязненного нам народа.
– Разве вы не знаете, вельможный канцлер, с какою целью я посещаю москвитян и пользуюсь знакомствами, заведенными мною здесь по поручению чернецов наших? Я вам в точности сообщал все слышанное мною о делах посольства, и не всегда ли вы удостоверялись в справедливости моих донесений?
– Я благодарен вам за это, и король не останется у вас в долгу за верную ему службу. Но зачем не объявлять мне об отлучках?
– Я не хотел напрасно утруждать вас. Впрочем, к чему бы это послужило? Если б я хотел изменить вам, мне бы лучше сделать это, отлучаясь с вашего позволения. Когда б я был вам неверен, тогда бы старался отвратить всякое подозрение и прикрыться вашим именем. Но я не говорил вам ничего потому, что совесть моя чиста и что я не хотел отдавать ежедневно отчета в моих неуспехах. Вот уже четверо суток, как я волочусь с одного пиршества на другое, из одной беседы в другую, чтоб узнать о намерении царя в рассуждении наших дел, и только случайно успел вчера выведать от одного чернеца, любимца патриархова.
– Что ж такое? – спросил Сапега нетерпеливо.
– Что с Швецией составлены мирные условия. Карл Зюдерманландский обещает уступить Борису Ливонию от Нарвы до Нейгаузена, оставляя за Швециею Нарву. В Ингерманландии уступает часть до устья Невы и требует, чтоб царь Борис помог Швеции войском и деньгами в войне с Сигизмундом и отказался от заключения мира с Польшею. Карл обещает притом уплатить долг и военные издержки после войны и отдает в залог город Юрьев-Ливонский.
– Неужели это правда? – спросил Сапега с беспокойством.
– Я говорю, что слышал. Вы увидите, что нас станут ласкать, а между тем откладывать окончание дела, пока не объявят войны. Впрочем, я буду извещать вас о ходе дел. Меня обещали познакомить с знаменитым думным дьяком Афанасьем Власьевым, заведывающим ныне Посольским приказом. Только прошу вас не стеснять меня в свободе отлучаться по произволу.
– Я прикажу, чтоб вас выпускали и впускали, когда вам заблагорассудится. Господин Иваницкий! вы молоды и своим усердием можете открыть себе путь к важным местам и милости королевской. Я буду ваш заступник и покровитель. Поныне я доволен вами; надеюсь, что и впредь вы не подадите повода к неудовольствию.
– Дела докажут лучше, нежели слова, мое усердие к службе и преданность к особе вельможного канцлера, – сказал Иваницкий, поклонясь низко.
– Теперь ступайте одеваться к аудиенции. Прошу вас прислушиваться, что будет говорить народ, а во дворце примечать, как будут внимать моей речи бояре. Я буду занят представлением, и потому мне невозможно наблюдать самому. Вы понимаете меня? Надобно постигнуть, какое впечатление произведет при дворе и в народе наше представление.
– Сделаю все, что вам угодно, по мере сил моих и способностей, – сказал Иваницкий. – А между тем прошу вас, вельможный канцлер, несколькими словами разогнать то подозрение, которое возбудило в вас и в членах посольства донесение маршала Боржеминского насчет моих отлучек. Даже друг мой Бучинский, пред которым я должен скрывать ваши поручения, оказывает мне недоверчивость и сомневается в чистоте моих намерений. Это больно!
– Будьте спокойны, я все улажу! – сказал канцлер и дал знак головою Иваницкому, чтоб он вышел.
Пока главный пристав царский, князь Григорий Елецкий, и два младшие пристава, Казаринов и Огарев, одевались в посольских комнатах в богатые одежды, присланные из царских кладовых (24), на посольском дворе собрались все паны и слуги, чтоб изготовиться к торжественному шествию. Паны с недоверчивостью поглядывали на Иваницкого, который, сложив руки на спине и потупив голову, медленно расхаживал в отдалении от прочих. Наконец вышел из комнат канцлер Сапега, велел выстроиться всем, как следовало к шествию, осмотрел ряды и, выступив на средину, подозвал к себе Иваницкого, взял его за руку и, обратясь к свите, сказал:
– Некоторые обстоятельства заставили многих сомневаться в искренности господина Иваницкого. Прошу вас, господа, положиться на мое слово и уверение и почитать его верным сыном Речи Посполитой Польской и усердным слугою королевским. Всякое сомнение и подозрение насчет его поведения есть обида ему и мне, ибо он во всем поступает не иначе, как по моему поручению. Кто обидит его, тот оскорбит меня.
Сказав сие, канцлер удалился в свои комнаты, а Иваницкий возвратился на свое место.
– Ну, видишь ли, что сказанное мною вчера сбылось! – шепнул Иваницкий Бучинскому.
– Ты демон, а не человек! – отвечал Бучинский. – Теперь верю, что я обманулся, когда думал, что знаю душу твою, судя по твоему прежнему со мною обращению. Поистине, ты – демон!
Иваницкий улыбнулся и насмешливо посмотрел на своего приятеля, примолвив:
– Да, брат! Ангел не много выиграет с людьми! Между тем на улице послышались звуки труб и бубнов и повелительные голоса начальников стрелецких дружин. Маршал Боржеминский приказал отворить ворота, и два боярина, окруженные толпою боярских детей, взъехали на конях на посольский двор. Послы польские встретили бояр на крыльце, ввели в приемную залу, и тогда один боявдн, сняв шапку, произнес следующую речь:
– Великий государь царь и великий князь Борис Федорович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, повелел спросить о здоровье вас, великих послов, своего брата и приятеля Сигизмунда, короля Польского и великого князя Литовского и иных земель государя.
Послы, выслушав слова боярина с открытыми головами, поблагодарили государя и отвечали, что они здоровы. Русский боярин снова сказал:
– Великий государь царь и великий князь Борис Федорович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, повелел явиться к нему вам, великим послам брата своего и приятеля Сигизмунда, короля Польского, великого князя Литовского и иных земель государя.
Слово повелел встревожило буйного князя Друцкого-Сокольницкого и других молодых панов, но канцлер Сапега значительным взглядом успокоил гордое юношество, а Станислав Варшицкий сказал им по-латыни: – Это принятый образ изъяснения при царском дворе, которому должно повиноваться.
Канцлер Сапега отвечал боярину:
– Благодарим государя за милость и готовы исполнить его волю.
Когда сей обряд кончился, бояре и послы надели шапки, и дружески обнялись. Вскоре явились приставы в бархатных кафтанах, шитых золотом и унизанных жемчугом, в высоких собольих шапках. Все вышли из комнат, сели на коней, и торжественное шествие двинулось.
Впереди ехал думный дьяк Афанасий Власьев, за ним польский дворянин Адам Лукашевич. Вслед шли пешком шестьдесят человек посольских слуг, по три в ряд. В первых четырех рядах слуги несли подарки на бархатных подушках, покрытых золотою парчой. В задних рядах вели двух коней под бархатными попонами. За слугами ехали верхом Иваницкий и Бучинский с верющею грамотою короля Польского, прежними мирными договорами России и Польши и начертанием нового договора. Грамоты сии находились в двух серебряных ящиках. Канцлер Сапега ехал между Варшицким и Пельгржимовским, а вокруг них бояре и пристава. За ними следовали верхом все паны польского посольства; шествие замыкали боярские дети, также на конях.
Поляки не уступали русским в богатстве одежды и конской сбруи. Русский народ с уважением смотрел на Льва Сапегу, мужа высокого, сухощавого, с седою короткою бородой. Голова его покрыта была малою бархатною шапочкой черного цвета с белым цаплиным пером, прикрепленным алмазною пряжкой. Он был в длинном кафтане из голубого атласа, а поверху имел соболью шубу, крытую алым бархатом, с короткими рукавами, которая развевалась, как плащ (25). Другие два посла одеты были, подобно ему, в кафтанах и шубах, а молодые люди в атласном испанском платье с бархатными плащами, в токах с страусовыми перьями или в венгерских полукафтаньях, шитых золотом и серебром, в бархатных шапках. Турецкие сбруи, украшенные золотом, серебром и цветными каменьями, привлекали взоры любопытных. Поляки сожалели, что обычай не позволял являться пред русского государя с оружием, ибо чрез это они не могли выказать лучшего своего убранства и любимой роскоши. Русские, напротив того, были вооружены ножами в золоченых ножнах и саблями. Кафтаны их вышиты были золотом, шапки опушены дорогими мехами. Высокие кованые серебром седла, золотые и шелковые узды отличались видом от польских. По обеим сторонам улицы, от самого Литовского подворья, стояли стрельцы в два ряда, с ружьями. Они были в коротких и узких кафтанах с отлогим высоким воротником, в высоких шапках бараньих, серых и черных. Каждая сотня отличалась особым цветом кушаков, каждая тысяча кафтанами. Стрелецкие головы, сотники и тысяцкие были в ферязях из тонкого сукна, с золотыми нашивками, в высоких собольих и бобровых шапках. Народ толпился на улицах, взлезал на крыши и на заборы, чтоб посмотреть на великолепное зрелище. Глухой шум раздавался в толпах, как бушевание ветра в густой дубраве. По временам слышны были в толпах болезненные крики от ударов приставов и недельных, разгонявших народ и очищавших путь посольству.
На Царской улице встретил послов постельник князь Федор Иванович Хворостинин-Ярославский с шестью царедворцами. Шествие остановилось. Бояре и послы сошли с коней, сняли шапки, и постельник спросил от имени государя о здоровье послов. Потом все сели на коней и продолжали путь до Кремля. На Красной площади и у Лобного места была такая теснота, что посольство с трудом добралось до Фроловских ворот. Здесь надлежало сойти с коней и снова снять шапки пред чудотворным образом Спаса. Прождав здесь около получаса, пока пристав и недельные успели очистить путь между толпами народа, послы и бояре снова сели на коней и въехали в Кремль. У Вознесенского собора послам объявили, что никто не смеет подъезжать на лошадях к царскому крыльцу, кроме самого государя и детей его (26). Послы отдали лошадей и пошли пешком. Польское юношество кипело гневом от сего уничижения народного достоинства, и только одно уважение к канцлеру Сапеге удерживало гордых польских витязей в пределах скромности и повиновения.







