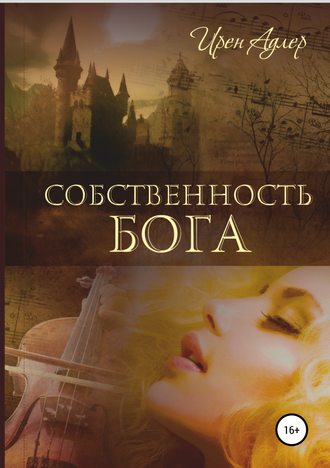
Ирен Адлер
Собственность бога
Глава 23
Она решила, что сдержит слово. В конце концов, они заключили сделку, а если свои обязательства нарушит она, то даст ему те же преимущества. Сделки для того и заключаются, чтобы соблюсти взаимную выгоду. Каждый из смертных заключает бесчисленное количество сделок, начиная с раннего детства. И самая первая из них – это сделка с собственной матерью. В обмен на кормление и заботу ребенок предлагает послушание. С возрастом количество сделок возрастает. Сделка с отцом (наследство за удачную женитьбу), сделка с учителем (похвала в ответ на льстивый донос), со священником (пожертвование в обмен на отпущение грехов), со стряпчим, с сувереном, с королем и, как апофеоз всех сделок, сделка с дьяволом. Весь мир – это огромный реестр сделок. Кто-то продает молодость, кто-то – тело, кто-то – талант, кто-то – доблесть. А кто-то покупает и расплачивается: золотом, властью, любовью и самолюбием. Обязательства исполняются безукоризненно, ибо в противном случае мир погрузится в хаос.
* * *
К Рождеству гуся откармливают. Какой же праздник без жирной, сочащейся тушки? Птицу сажают в тесную, с толстыми прутьями клетку и кормят. Кормят обильно и часто. Рубленые овощи, морковная ботва, ядрышки миндаля. В невероятном количестве. Если гусь сыт и отказывается глотать, то куски в зоб проталкивают пальцем.
Нет, меня не сажают в клетку и зубы не разжимают, чтобы протолкнуть кусок, но ощущение сходства с этим украшением стола у меня явственное. Любен намекает на то, что ребра мои слишком выпирают, а скулы заострились. Герцогине это не нравится. Ей нужна безупречная вещь. С гладкой, шелковистой кожей, блестящими волосами. Да и тени вокруг глаз украшением не служат. Бледность опять же. Мне следует больше гулять. Перед завтраком и перед ужином. Нагуливать аппетит. А перед едой выпивать бокал сухого шабли. Тогда и цвет лица улучшится, и тело окрепнет. Крови прибавится. Трещинки на губах исчезнут. А то что же это? Смотреть больно. Вот и мэтр Оливье настаивает. Лекарства готовит. Пейте, сударь, пейте, полно вам комедию-то ломать.
Так и сказал – комедию. Он прав. Все это и в самом деле напоминает комедию. Откорм праздничного гуся к обеду. И гусь это знает. Ест, тем не менее, охотно. Давится, но хватает куски. Мэтр Оливье время от времени тычет пальцем мне в ребра. Будто рачительная хозяйка, проверяет, не торчат ли кости, нарос ли под крылышками жирок. Я стараюсь, господин лекарь, стараюсь. Меня мутит от ваших настоек, но я не смею перечить. Вы тоже слуга, волю господскую исполняете. Как и те повара, что подают мне блюда по королевским рецептам. И Любен, что печется о цвете моего лица. Он даже позволил мне поплавать в пруду. Строго следил за тем, чтобы я переплыл его два раза туда и обратно. И не вздумал нырять. Или бежать. Признаюсь, такая мысль у меня была, однако поросший крапивой противоположный берег и отсутствие штанов избавили меня от соблазна. Не безумец же я. Я вполне здравомыслящий гусь. И клетка у меня просторная. Даже прутьев не видно. Светло и чисто.
Ветер приятно холодит кожу. Я выбираюсь на берег, и теперь уже Любен играет роль хозяйки. Оглядывает меня со всех сторон. Нет, он не кухарка, он заботливый конюх. А перед ним породистый жеребец, чью атласную шкуру он только что отполировал до блеска. Теперь, пустив животное мелкой рысью, любуется, как под этим сияющим, тонким покровом перекатываются мышцы. Он приложил столько стараний. У животного должна быть безупречная выездка. Скоро хозяйка вденет свою изящную ножку в стремя и сядет в седло. Оливье накануне ощупывал мои руки по выше локтя. Я терплю. Меня это даже забавляет. Воображаю себя на праздничном столе, под сырным соусом и в яблоках. А когда Любен после очередного купания и осмотра накидывает мне на плечи простыню, я советую ему добавить в соус базилика и полить тушку сливочным маслом. Он ничего не понимает, но тут же воображает, что я наконец одумался и готов принять все радости чревоугодия. Никаких больше глупостей. Я его не разубеждаю. Даже делаю вид, что надежды его не напрасны. Я должен жить. Ради своей девочки. Я не думаю о том, что будет позже. Я думаю только о ней. Ту, вторую картинку, час расплаты, я уменьшаю и лишаю цвета. А первую, желанную, раскрашиваю и озвучиваю, осветляю и заполняю ею все мысленное пространство.
Где она, моя девочка? Я так давно не видел ее. Прошла целая вечность. Помнит ли она те словечки, что мы с ней выучили? Не разучилась ли смеяться? А бегать? Она у меня такая умница. Ловкая, сильная. И на ножки быстро встала. Будто понимала, как нелегко ее матери, какие у нее слабые, прозрачные руки. Мария научилась ходить как будто тайком, чтобы сразу предъявить победу. Я вернулся под вечер, а Мадлен, накрывая ужин, украдкой качнула в сторону девочки головой. Но сама не повернулась и мне знак подала, чтобы не смотрел. Только сбоку, украдкой. А малышка вытянулась за своей деревянной перегородкой, за перекладину ухватилась и стоит, покачиваясь. Личико радостное и удивленное. У нее что-то получилось. Я все же не удержался, бросил взгляд, она тут же потеряла равновесие и шлепнулась. Но на следующий день она осмелела и уже держалась за перегородку с внешней стороны. Перед ней расстилался поистине вселенский путь – пять шагов до стола и шесть до родительской кровати. Она в нерешительности покачивалась на слабых еще ножках. Затем оторвала ручку от перекладины и беспомощно задвигала ею в воздухе. Я успел подставить ладонь, и она почти повисла на моем указательном пальце. Но не отступила. Сделала шажок, потом еще один. Восхитилась собственным подвигом. Засмеялась и тут же плюхнулась на пол. Она смеялась, обратив ко мне личико. Глазки блестели, два передних зуба – будто молочные капли. Она призывала меня к соучастию. Смотри же, смотри, говорили ее светлые глазки – у меня получилось.
– Ай, браво! Ай, браво. Сама! Сама встала и пошла. Браво! Я подбросил ее в воздух, и она завизжала от восторга. Оказавшись внизу, она тут же повторила попытку, упала, повторила опять и уже не останавливалась. Мадлен, вздохнув, возвела глаза к небу. Забот ей прибавилось. Девочка научилась самостоятельно двигаться, и бедной матери предстояло следить за тем, чтобы малышка ничего себе не повредила. Я брал на себя эту обязанность при каждом удобном случае. Это было так восхитительно. Любоваться тем, как она учится, познает возможности собственного тела, наслаждается огромным, неожиданно открывшимся ей миром. Вот она уже умеет ходить, может одолеть пустыню, что пролегает между ее деревянной кроваткой и столом, за которым сидит за пяльцами ее мать, может добраться вон до тех странных угловатых предметов, что громоздятся в углу, может потрогать их, потянуть на себя. Предметы разные. Есть прохладные, округлые и тяжелые. Это чернильницы. А есть длинные, мягкие, увязанные в пучок. Это перья. Она еще не знает, что это такое, но эти предметы ей нравятся. Каждый из них – загадка. Эти предметы меняют форму, меняют цвет. Она пытается вырвать лист из проповедей Бернара Клервоского, но я вовремя вмешиваюсь и пресекаю поползновения – обращаю внимание девочки на тряпичного скомороха, которого сшила из старой юбки Мадлен. Мария тут же забывает великого аскета и хватает игрушку. Игрушка тоже меняет форму. Ее можно швырнуть в угол, а затем бежать за ней. Можно забросить под стол, а затем лезть туда на четвереньках. Можно отправить тряпичного человечка в полет, а затем смотреть на него снизу вверх. А можно упрямиться и дуться, если отец попытается игрушку забрать. Но особую радость ей доставляет мое участие в ее познавательных опытах. С моей помощью она выяснила свою способность висеть в воздухе на одной руке или ноге, открыла гибкость и силу своих пальчиков, побывала за дверью на лестнице, сползла по ступенькам, обнаружила красящее свойство чернил и, конечно же, попробовала на вкус «Оды» Горация. А еще она начала говорить. И сразу фразами, короткими и решительными. «Папа, скажи-ка». Где она подхватила это «скажи-ка»? Она указывала на предмет и требовала его обозначить. «Папа, скажи-ка». А еще ей понравилось слово «браво». Она приходила в дикий восторг, хлопала в ладоши и повторяла: «Пляво, пляво». Она вторила мне как эхо. Или опережала, заметив, что я готов похвалить и одобрить. Она даже превращала это слово в вопрос. Подскок на одной ноге. «Пляво?» Прыжок с табуретки. «Пляво?» Клякса на бумаге. «Пляво?» Тут она, конечно, одобрения не получала, но, позабыв о смущении, прикладывала измазанную ладошку к бумаге и снова оглядывалась. А так? «Пляво?» Мадлен хмурилась и порывалась ее отшлепать. Я останавливал ее. Понимал, что в мое отсутствие у бедной жены моей нет сил и времени объяснять девочке ее ошибки и что она прибегает к методу отчаявшихся родителей – наказанию, но если я как отец был в наличии, то сводил ее порывы к жесту, ловил слабую, почти прозрачную руку и надолго припадал к ней губами. Нельзя ожесточать девочку. Она будет совершать те же проступки умышленно. «Не браво», – говорил я дочери, указывая на испачканные ладошки. Она смущалась, тут же прятала ручки за спину и, чтоб сгладить впечатление, начинала носиться по комнате, время от времени проверяя, наблюдаю я за ней или нет. Достаточно было шутливо сморщиться, приподнять бровь, чтобы она немедленно сменила род деятельности. С подскоков на кружение волчком, с жевания перьев на комканье бумаги. К счастью, в мое отсутствие девочка вела себя гораздо спокойней. Мать не представлялась ей таким уж заинтересованным зрителем. Мария забиралась в свой угол, в закуток за деревянной кроваткой, и там сосредоточенно возилась с игрушками, с теми, что я смастерил ей из дерева и соломы, и с теми, что сшила Мадлен. Некоторых странных длинношеих и длинноногих существ она сплела из разноцветных лент. Также в игрушечный арсенал попала погнутая ложка, бронзовая крышка от чернильницы, обрывок кружева, шахматный конь и потертый бархатный веер, который давным-давно позабыла в исповедальне какая-то дама. Я сам проверил все эти предметы на размер и безопасность. Ей не удастся их проглотить или одним из них пораниться. С набором этих предметов и своими игрушками Мария производила множество одной ей понятных действий. Перекладывала, громоздила друг на друга, разбрасывала, сгребала в кучу, пробовала на зуб. Иногда по много раз повторяла одну и ту же манипуляцию. К чему-то прислушивалась, изучала, наблюдала, склоняла голову набок. Вносила чуть заметные изменения и снова повторяла. При этом она произносила длинные монологи, составляя фразы не из слов, а из слогов. В лингвистике она тоже производила изыскания: разбивала все слышанные понятные и непонятные слова на мелкие осколки, перемешивала и пыталась соорудить нечто новое. Мадлен сердилась на странную отчужденность девочки, но вскоре сочла это за благо – малышка почти ей не докучала. А если, покидая свое убежище, припадала к ней, требуя ласки, то это и вовсе сглаживало обиды. Мать была слишком слаба, чтобы разделять ее забавы. Я сам запретил ей это. Вторая беременность протекала тяжело, и малейшее напряжение, неловкий поворот, падение могли обернуться кровотечением и потерей ребенка. Мария, как лесной зверек, угадывала мою заботливую настороженность по отношению к ее матери и старательно мне подражала. К ней надо подбираться медленно, прижиматься вкрадчиво, не прыгать и не озорничать. Зато с отцом можно позволить себе пошалить, поиграть и даже покататься верхом. Вот так! «Пляво!»
Что с ней теперь? При мысли о том, какие пагубные перемены могли с ней произойти, у меня сжимается сердце. Всего одно слово, недобрый окрик, угрожающий жест, и в трепетную, незрелую душу западет первое зернышко страха. Оно очень скоро даст всходы. Рана будет кровоточить. Душа, как драгоценная ткань, будет испорчена навсегда, загублена, узор нитей нарушен. Даже если рана зарастет, останется грубый узел. Он будет натирать, давить. Будет уродовать походку, как надоевший мозоль. От него уже не избавиться. А сердце скоро утратит веру.
Я места себе не нахожу от беспокойства. Почему никто ничего мне не говорит? Я же исполняю все, что от меня требуют. Я послушен и прилежен. После нескольких дней мытарств появляется Анастази. В последний раз я видел ее, когда она нашла меня на скамье, в галерее. С тех пор я видел ее только мельком, издалека, когда спускался в парк. Она меня избегает? Или я ей больше неинтересен? Я собственность герцогини, и придворной даме запрещено ко мне приближаться. Но она вопреки господской воле позаботилась о моей дочери. Так сказала герцогиня. Анастази нашла мою дочь, спрятала через пару дней после трагедии у жены привратника, а затем перевезла к бабке. Почему? Неужели она так предана хозяйке и заранее все просчитала? Спешила оказать услугу? Какая предусмотрительность! Госпожа только пожелала, а ее верная служанка уже подносит ей желаемое на золотом блюде. Меня подносит, мою свободу, мою душу.
И все же я жду ее. Она единственная, кто помнит меня живым. Нас связывает кровь. Ее кровь. Ее мятые, окровавленные нижние юбки. Ее боль и крик. Теперь мы будто сообщники. Я такой же, как и она. Пусть враг, пусть непрошеный свидетель, но все же равный по крови.
Она неожиданно появляется на пороге. Я бросаюсь ей навстречу. Кулаки сжаты, челюсти сводит. Она отводит взгляд, упрямо склоняет голову. Лоб у нее выпуклый, высокий, волосы стянуты в большой темный узел. Уши открыты, и в них две серебряные слезы. Она, подобно хозяйке, в черном, но без шитья. Только белый воротник облегает плечи. Между нами остается пара шагов, мы останавливаемся и в упор смотрим друг на друга. У нее глаза блестящие, как две огромные черные бусины. Она не моргает и не отводит взгляд. Я готов произнести заготовленные слова, но только приоткрываю рот. Воздух прорывается впустую. Его слишком много, я захлебываюсь. Но она понимает.
– Она здорова, – говорит Анастази без всяких предисловий. Все, что я пытался сказать, она прочла в моем вздохе. – Завтра я привезу ее.
У меня ноги становятся ватными. Я вновь делаю судорожную попытку что-то сказать, и меня с той же неумолимой последовательностью постигает участь рыбы. В груди жесткая, бутылочная пробка. Я столько хочу спросить, столько узнать. Мой язык – будто окровавленная подушечка для иголок, где каждый вопрос торчит острием наружу. Главное… Что же главное? Девочка прежде была отвергнута своей бабкой. Как ее приняли теперь? Анастази вновь меня опережает.
– Я сказала этой святоше, твоей теще, что сверну ей шею, если с девочкой что-то случится.
Я закрываю глаза и чувствую, что земля из-под ног уходит. Это отхлынула волной тревога. Даже не сознавал, в каком изнуряющем, тягучем страхе живу. Я слишком хорошо помню безгубый, сухой рот мадам Аджани и слышу ее голос: «У нас нет дочери…» Маленькая девочка – улика грехопадения.
Анастази касается моей руки. Вновь угадывает мысли.
– Старуха не посмеет ослушаться. А ее муж слишком жаден. К тому же я обещала время от времени навещать их.
– Они не любят ее… Я произнес это медленно, скорее резюмируя услышанное, чем обращаясь к придворной даме.
– Да, не любят. Насколько я поняла, ты не принадлежишь к числу их любимых родственников. Ты соблазнил их дочь и увел ее из дома. Девушка нарушила родительскую волю. Опозорила семью. Добрые христиане, само собой, вознегодовали. Так чего же ты от них хочешь? Восторга при известии о смерти их дочери или радости от того, что в их в доме появится незаконнорожденный ребенок?
– Мария родилась в браке. Отец Мартин обвенчал нас.
– Да, родилась в браке, но зачата в грехе, до того, как вы получили благословение священника. Да и обвенчаны вы были без согласия родителей. Выходит, незаконнорожденная. Какая уж тут любовь?! С их стороны это величайший подвиг – принять девочку в своем доме. Пришлось долго уламывать. А как по-другому? Сдать ее в приют? Для меня это было бы гораздо проще, чем вести переговоры с таким семейством, как это. В конце концов, иметь крышу над головой, теплую постель и родственников, которые о тебе заботятся, не так уж и мало. А любовь…
Анастази водит в воздухе рукой, как бы очерчивая что-то эфемерное, несущественное.
– А как же сердце? Ее маленькое сердце, которое так нуждается в любви? Кто позаботится о ее сердце?
Анастази презрительно фыркает.
– Сердце и забота о нем – в наше время непозволительная роскошь. Даже королевским детям она недоступна. Что уж говорить о таком создании, как твоя дочь. О сердце не вспоминают, если по щекам хлещет холодный ветер, а живот сводит от голода. Забудь о сердце. И забудь о Боге.
– Но если мне попытаться вернуть мою дочь…
Анастази опять презрительно фыркает. Но я продолжаю.
– Что мне нужно сделать для того, чтобы я мог сам заботиться о ней? Я понимаю, что подчиняться. Понимаю, что выполнять все ее капризы. Но что еще?
Анастази смотрит на меня со странным, болезненным участием. Она долго молчит, как бы прикидывая, смогу ли я уразу – меть то, что она собирается мне сказать, или старания ее канут втуне.
– Играй по ее правилам, – тихо говорит она. – Пусть герцогиня верит, что победила. Пусть получает тому доказательства. Пусть думает, что ты разбит, что ты сломлен. Притворись. И не вздумай смотреть ей в глаза, как сейчас смотришь мне. Она этого не любит. Дай ей то, чего она хочет. Ей, собственно, и нужно-то не так уж много. Это только кажется, что она готова проглотить целый мир, но это не так. На самом деле целый мир ей не нужен. Ей нужна только жизнь, твоя жизнь, но она должна верить, что эта жизнь принадлежит ей. – Анастази еще понижает голос. – Ей нравится ощущать себя богом.
Я отшатываюсь.
– Как это? Это же богохульство!
– А вот так! Она – бог. И все вокруг зависит от ее доброй воли и ее доброго расположения. Сыграй с ней в эту игру и ты добьешься всего, чего пожелаешь. Только играть надо правильно. Фальшь она сразу почует.
– И тогда она вернет мою дочь?
Анастази делает неопределенный жест.
– Возможно. Из гордыни. Или из самолюбия. Дабы явить великодушие божества. Но это только в том случае, если ты не дашь ей усомниться в ее божественности.
– Но как?
– Не знаю, – Анастази пожимает плечами. – Я не настолько хорошо владею этим искусством, чтобы давать советы. Пусть верит в то, что решает она, а не ты. И еще. Скрывай свои чувства. Ты слишком открыт. Слишком доступен. Учись притворяться. Здесь без этого нельзя, не выжить.
– Звучит так, как будто заключение это на всю жизнь. Не продлится же это долго!
Анастази смотрит на меня с насмешливым состраданием.
– Desine sperare qui hic intras.20
Глава 24
Она позволила Анастази привезти девочку в замок. Изначально ее великодушие не заходило дальше словесной уступки. О девочке уже позаботилась придворная дама, а самой принцессе оставалось только признать этот поступок легитимным. Она всего лишь произнесла несколько фраз, и запретная ересь обрела статус догмы. Более ничего от нее не требуется. Анастази засвидетельствует сделку. Герцогиня не сомневалась, что ее служанка уже сделала это. Иначе Геро не вел бы себя столь смиренно. Он поверил Анастази и ничего не потребовал от герцогини. Но она обещала ему свидание, он ждет. Его сопротивление глубоко внутри него самого, в частицах самого его тела, как болезнь. Чтобы спасти его от болезни, ей придется уступить.
* * *
Следующий день – это ожидание и мука. Они дразнят меня, вынуждая пестовать и благословлять жизнь. А на деле это приманка. Из моего окна мне ничего не видно. Оно выходит в парк, но я все равно поминутно подхожу к нему. Вдруг донесется стук копыт? Или я увижу Анастази с девочкой? Позволят ли мне взять ее на руки? Подробности свидания мы с придворной дамой не обсуждали. Формально в обязательства герцогини входит представить мне доказательства и ничего более. Моя дочь жива, о ней заботятся, и ничего сверх обговоренного я требовать не смею. У меня холодеет в груди. А если она так и поступит? Я ничего не в силах изменить. Упрекнуть ее мне не в чем. Нет, нет, ей же нравится играть в бога, как говорит Анастази. Герцогиня не ограничится таким сухим, бесчувственным ритуалом. Ей необходимо насладиться триумфом. А если все быстро кончится, она даже не успеет распробовать. Она женщина. Ей нужна длинная пьеса, с монологами и подробностями. В этой пьесе должна быть страсть. Кровь, слезы и воздетые руки. Так для нее будет занимательней. Она не ростовщик с улицы Тампль, который удовольствуется подписанием счета. Она устроит представление. И других заставит в нем сыграть. Как это делал Сулла, вынуждая своих просителей влезать на котурны. К тому же так велик соблазн продлить мои муки.
Надо успокоиться. Я могу испугать Марию своей излишней горячностью. Я слишком взволнован. Она не видела меня больше месяца. Для ребенка это целая вечность. Узнает меня не сразу. Или… не узнает?
Я сам себя не узнаю. Что уж говорить о ней? Я другой. Другие мысли, другой взгляд, другой запах. Только внешнее сходство осталось. Я нахожу в зеркале странного двойника, плохую копию. Есть старая притча об императоре, которому подарили механического соловья. Настоящий соловей, не желая жить в клетке, не радовал своего владельца пением, и тогда услужливый мастер сотворил точную копию птицы. Механический соловей махал крылышками, раскрывал клювик и даже пел. В его горлышке помещалась крошечная серебряная флейта. Каждое перышко этого соловья было украшено бриллиантом, а вместо глаз сияли изумруды. Он был ослепительно прекрасен и, главное, не умел летать. Соловей пел, слепил золотыми перьями, придворные восхищались. Вот и я такой же соловей. Только мою копию сотворили из меня самого. Покрыли золотой краской, как того бедного мальчика, что изображал Золотой век на празднествах Лодовико Сфорца. Но изменениям подверглась не только моя кожа – у меня заменили внутренности. Человеческое, кровяное изъяли, а вместо него поместили нечто прочное, из тонких блестящих нитей, из тех, что никогда не перетрутся. То, что я при такой замене разучусь жить, никого не тревожит. Это даже к лучшему. Хозяйке меньше хлопот. А как же моя дочь? Ей тоже предстоит лицезреть механическое чучело с крахмально-торчащими перьями? Я с ненавистью стал комкать скрипучие, жесткие манжеты. Она испугается. Она увидит настоящее чудовище, фальшивое и пестрое.
За дверью легкий шум. Шаги, голоса. Ждать не могу, сам бросаюсь вперед. Мне показалось? Или я слышу ее голос? Лепечущий, слабый. Рядом голос Анастази. Она увещевает и успокаивает. Я распахиваю дверь и выбегаю на круглую площадку перед лестницей. Тремя ступенями ниже – придворная дама. Хмурая, сосредоточенная, ведет за руку девочку в черном платьице. Девочка с трудом взбирается по ступенькам. Ей не сразу удается закинуть ножку, а потом опереться на нее. Теряет равновесие, но Анастази вовремя поддергивает ее вверх. Голова девочки опущена. Все ее внимание на ее ножках, которые еще недостаточно проворны, чтобы легко преодолевать ступеньки. И потому я не сразу могу понять, кто это. Слабая, неловкая фигурка лишена сходства с той шумливой, проказливой девочкой, что живет в моем сердце. Я смотрю с изумлением и страхом. Вот она уже на последней ступеньке и, утвердившись, может наконец оторвать взгляд от углов и провалов под ногами. Обращает ко мне свое личико. Бледное, с ее собственный кулачок. На голову ей напялили огромный, неуклюжий чепец. Он давит сверху, топорщится и мешает смотреть. Малышка испугана. Анастази для нее чужая, но за те два пролета лестницы, по которой они взбирались, девочка успела к ней привыкнуть и жмется к держащей ее руке. Мария… Бедная моя девочка. Осиротевшая, покинутая. Она ничего не видит перед собой и меня не видит. Слишком много вокруг пугающих, незнакомых фигур. Они слишком быстро меняются. И я такая же фигура. Она не плачет и не кричит, ибо устала бояться. Она оцепенела. Я не приближаюсь. Только опускаюсь на колени в нескольких шагах и тихо говорю:
– Ай, браво! Сама… ножками… по ступенькам. Ай, браво!
И она слышит. Вздрагивает, вертит головенкой. Отпускает руку Анастази, уже готова пуститься в плавание, как безрассудно храбрый морячок. Она широко раскрывает глаза – ищет. Ищет! Изучает меня. Но я так непохож, так пугающе ярок. Она слышит только голос: «Ай, браво!» Голос не изменился. Его нельзя подделать. Она его помнит. Ее взгляд больше не блуждает. Он останавливается на мне. Незнакомом. Она еще колеблется. За эти долгие недели она столько раз обманывалась в своих надеждах. Вдруг и сейчас обман? Но я произношу ее имя… Произношу с затяжной нежностью, как произносил его раньше, в той, другой, жизни. Я вспоминаю испачканный в чернилах пальчик, тряпичного забытого под столом лицедея, набитый соломой мяч, которым в меня так удобно было попасть… И она будто обретает зрение. Сомнений больше нет. Она протягивает ручки и делает быстрые, неловкие шажки. Она уже у меня в руках, у моего сердца. Цепляется пальчиками за мою одежду. Не то всхлипывает, не то смеется. А скорее, и то и другое. Это страх прорывается слезами, страх долгих, страшных ночей сиротства. А вместе со страхом нечаянный смех. Она что-то лепечет, но я не понимаю. Только прижимаю ее к себе, маленькую, хрупкую. Жесткий, уродливый чепец падает у нее с головы, и я целую ее мягкие, теплые волосы. Они у нее не такие темные, как у меня, сказывается белокурый локон Мадлен, а в раннем младенчестве она и вовсе была светловолосой. Мадлен где-то хранила ее первую прядку. Потом детские кудряшки стали быстро темнеть. И за этот месяц потемнели окончательно. Мать умерла и унесла в могилу все знаки своего присутствия. Остался только я. Она и чертами лица больше походит на меня, только носик как у Мадлен, чуть вздернутый. И лобик она морщит как мать. И вздыхает, и хнычет. Я держу в объятиях сразу обеих. Пытаюсь вымолить прощение у одной, обнимая другую. В этой маленькой девочке частичка моей умершей жены, половинка души. Если я сохраню эту драгоценную жизнь, то сохраню и Мадлен. Она не умрет окончательно. Не уйдет от меня. Она будет жить в этом маленьком теле и смотреть на мир из-под этих золотистых ресниц. Она будет счастлива. Ей в наследство достанется наша нерастраченная доля. Господь поровну отмеряет счастья. Мы своим воспользоваться не успели, потратили самую малость. Так почему же оставшуюся часть не унаследовать ей, нашей дочери?
Анастази отвернулась. Она будто стесняется представшего ей зрелища. Затем, не поворачиваясь, произносит:
– У тебя есть пара часов. Если повезет, я уломаю герцогиню оставить девочку чуть подольше. Но не обольщайся. Она согласилась на это свидание с большой неохотой. И в любой момент может его прервать.
Конечно может. Она все может. В роли божества она не упустит случая вмешаться в судьбу простых смертных. Но у меня есть время. Целых два часа! Да это же вечность! Такой удачи нам прежде не выпадало. Я был слишком занят, часто возвращался за полночь, когда Мария уже спала, или уходил так рано, что девочка еще не просыпалась. Я проводил с ней время урывками, делил сей скудный рацион между Мадлен, которая только и делала, что ждала меня, и Марией, которая в мое отсутствие изнывала в бездействии. А тут два часа! Какое великодушное божество.
Я унес Марию к себе. Она все так же зверьком сидит у меня на руках, спрятав личико и вцепившись в одежду. Она не шевелится и, кажется, не дышит. Боится нарушить возникшую связь, утратить ощущение безопасности, что давали ей мои руки. А вдруг я вновь исчезну? Я шагаю от окна к двери и обратно, целую в теплую макушку и беспрестанно повторяю:
– Я с тобой, моя девочка. С тобой. Не бойся. Я всегда буду с тобой.
Я лгу и знаю это. Через два часа ее вырвут у меня из рук, и одному Богу известно, свидимся ли мы снова. Нас разлучат надолго, может быть, навсегда. Мне обещали сохранить ей жизнь, позаботиться о ее будущем, о встречах с ней в этом будущем речи не шло.
Некоторое время спустя Мария затихает. Вертит головкой, оглядывается. Рассматривает окружающее ее пространство из-за моего плеча. Ничего угрожающего не видит и мягко ворочается:
– Пусти…
Любопытство возобладало.
Я немедленно уступаю. Она еще робеет, цепляется за мою руку, но очень быстро преодолевает свой страх. Детское сердце, к счастью, не умеет долго грустить. Быстро забывает печали и страхи, а если и стучит учащенно, так это от нетерпения и восторга. Все вокруг нее было слишком занимательным, чтобы избежать пристального изучения. Вот кровать под ярким, расшитым пологом. А полог весь в складках, по краям – золотые кисти. Она подбирается к резному столбцу у изголовья, подпрыгивает и тянет за кисть. Я подсаживаю ее на кровать, и она уже прыгает, елозит коленками по шелковому скрипучему покрывалу. Поглядывает на меня украдкой: одобряю или нет. Смейся, моя девочка, смейся. Изгони из этой комнаты злых духов.
– Пляво? – невнятно произносит Мария.
Это было первое членораздельное слово, которое я от нее слышу. То, что она бормотала сквозь плач у меня на руках, фразами и словами назвать было трудно. Она утратила приобретенный навык, за недели отчаяния откатилась в немое младенчество.
– А еще? Что еще ты говорила? Помнишь?
Мария смущенно улыбается, сунув в рот пальчик. Бессмысленно просить ее вспомнить. Кто заговорит с ней завтра? Она, само собой, будет улавливать то, что произносит бабка, но какие это будут слова?
Напрыгавшись, Мария вновь протягивает ко мне ручки. Я тоже интересен. Ведь я так изменился. Надо убедиться, освидетельствовать, я ли это. Или со мной что-то не так. Вот она трогает мою щеку, лоб, для верности тянет за волосы. Затем обеими ладошками прикрывает мне глаза.
Помнит! Мы с ней так прежде играли. Вернее, она научилась этому у Мадлен. Подглядела. Когда я возвращался усталый, с покрасневшими после бессонной ночи глазами, Мадлен охватывала мою голову руками и ладонями укрывала от света. А я намеренно моргал и щекотал ей пальцы ресницами. Мария это заметила, выбралась из своего убежища, и, стоило Мадлен отойти, как малышка, взобравшись ко мне на колени, сделала то же самое. Моргая, я щекотал ей ладошки, и она заливисто смеялась. Помнит! Она все помнит. Это было как последнее доказательство. Сомнений не осталось. Это ее отец.
«Сётно», – говорит девочка.
Это означает «щекотно», но я не стал ее поправлять. «Сётно» так «сётно». Затем ее внимание привлекает мой обшитый кружевом воротник, все эти складочки, узелки, петельки. Она, сопя, возится с нитяным плетением. Следующим ей становится интересен шнурок на моем камзоле. Свитый из шелковых нитей шнурок был увенчан перламутровым наконечником. Он ярко сверкает на солнце. Она тут же хватает его и тянет в рот.


