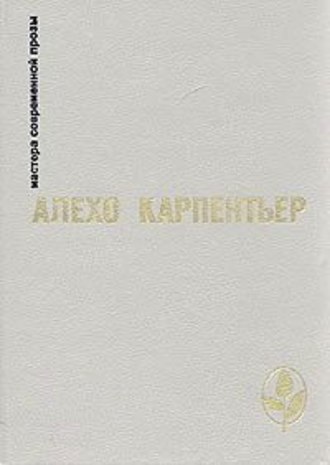
Алехо Карпентьер
Век просвещения
XVI
Прошло еще три дня. Всякий раз, когда штурман переводил часы назад, солнце, казалось, припекало сильнее, а море все больше начинало походить на то море, все запахи которого столько говорили сердцу Эстебана. Однажды вечером, желая немного освежиться, потому что жара в трюме и кубриках была просто невыносима, молодой человек поднялся на палубу и остановился у борта, созерцая безбрежный небосвод, который впервые за время путешествия был безоблачен и ясен. Чья-то рука опустилась на его плечо. Позади стоял Виктор – без мундира, в расстегнутой рубашке – и дружески улыбался ему, как в былые дни.
– Тут недостает женщин. Как ты считаешь? – спросил Юг.
И, внезапно оживившись, он начал вспоминать те места в Париже, которые оба посещали вскоре после приезда в столицу, и соблазнительных, доступных женщин. Прежде всего он припомнил Розамунду, немку из Пале-Рояля; Заиру, чье имя напоминало о пьесе Вольтера; Дорину в розовом муслиновом платье; затем заговорил об уютном гнездышке на антресолях, где за два луидора можно было вкусить любовные ласки Анжелики, Адели, Зефиры, Зои, Эстер и Зилии, столь непохожих друг на друга и воплощавших различные женские типы; каждая из них вела себя по-своему, каждая играла роль в строгом соответствии с характером своей внешности: одна походила на боязливую барышню, другая – на разбитную мещанку, третья – на танцовщицу из кордебалета, четвертая, Эстер, – на Венеру с острова Маврикий, пятая (эту роль исполняла Зилия) – на пьяную вакханку. После изощренных утех с одной или несколькими женщинами гость в конце концов оказывался в объятиях Аглаи, красавицы с остроконечными грудями, дерзко устремленными к твердому и властному подбородку античной царицы: близость с нею неизменно венчала пиршество страстей. В другое время Эстебан и сам бы посмеялся над столь легкомысленными воспоминаниями. Но он все еще чувствовал себя неловко с Виктором и не мог найти с ним общий язык – ведь Юг не обращал на него никакого внимания с самой их встречи в Рошфоре; поэтому неожиданная словоохотливость Виктора не нашла отклика у молодого человека: он отвечал через силу и односложно.
– Ты похож на жителя Гаити, – заметил Виктор. – Там в ответ слышишь только многозначительное: «О! О!» – и нельзя понять, что, собственно, думает твой собеседник. Пошли ко мне в каюту.
Большой портрет Неподкупного красовался на стене между крюками, на которых висели головной убор и мундир Юга; под портретом наподобие лампады горел светильник. Комиссар поставил на стол бутылку с водкой и наполнил две рюмки.
– Твое здоровье! – произнес он и чуть насмешливо взглянул на Эстебана.
Он извинился, – но при этом в голосе его звучала лишь холодная учтивость, – что ни разу не пригласил юношу к себе после отплытия с острова Экс: различные заботы, дела, обязанности и прочее… К тому же положение все время было неясное. Правда, им удалось ускользнуть от британских кораблей, которые блокировали побережье Франции. Однако кто знает, с чем еще придется встретиться флотилии, когда она прибудет к месту назначения. Их главная цель – вновь утвердить власть Республики во французских колониях в Америке и всеми средствами бороться против сепаратистских настроений, отвоевывая, если потребуется, земли, в настоящее время, быть может, потерянные. Монолог Виктора сопровождался долгими паузами, иногда он прерывал свою речь характерным «да», – оно было так хорошо знакомо Эстебану и походило то ли на ворчание, то ли на брюзжание. Юг похвалил дух высокой гражданственности, которым было отмечено полученное им письмо Эстебана, – именно поэтому он и решил воспользоваться его услугами.
– Тот, кто изменит якобинцам, изменит делу Республики и свободы, – объявил он.
У Эстебана вырвался негодующий жест. Его вывели из себя не сами слова, а то, что они принадлежали Колло Д'Эрбуа, который по всякому поводу их повторял; этот бывший комедиант, за последнее время особенно пристрастившийся к алкоголю, казался ему человеком мало подходящим для выражения революционной нравственности. Юноша не сдержался и прямо высказал свое мнение.
– Быть может, ты и прав, – заметил Виктор. – Колло действительно злоупотребляет вином, но он настоящий патриот.
Осмелев после двух рюмок водки, Эстебан спросил, указывая на портрет Неподкупного:
– Как может этот гигант до такой степени доверять пьянчужке? От речей Колло разит вином.
Революция, продолжал Эстебан, выковала множество людей с возвышенным образом мыслей, это бесспорно; но в то же время она окрылила немало неудачников и людей озлобленных, они использовали террор в корыстных целях.
– Это и впрямь достойно сожаления, – ответил Виктор холодно. – Но мы не можем уследить за всеми.
Эстебан счел нужным изложить свое кредо, чтобы не оставалось сомнений в его верности революции. Однако его раздражали некоторые уж совершенно смехотворные гражданские церемонии, некоторые необоснованные назначения; он не понимал, как могут люди выдающиеся столь терпимо относиться к деятельности посредственных личностей. Власти благосклонно взирали на представления нелепых пьес, если в финале показывали фригийский колпак: дело дошло до того, что к «Мизантропу» добавили проникнутый гражданским пафосом эпилог, а в трагедии «Британик», подновленной театром «Комеди Франсез», Агриппина именовалась «гражданкою»; многие классические трагедии были под запретом, а правительство субсидировало некий театр, где шла бездарная пьеса: на сцене можно было увидеть папу Пия VI, который колотил тиарой Екатерину II, а та отвечала ему ударами скипетра; короля Испании в схватке валили на землю, и он терял при этом огромный нос из картона. Больше того, с некоторых пор поощрялось определенное пренебрежение к людям умственного труда. В различных комитетах раздавался варварский клич: «Опасайтесь всех, кто пишет книги». Все литературные клубы в Нанте – это общеизвестно – были закрыты по распоряжению Каррье [72]. Невежда Анрио дошел до требования сжечь Национальную библиотеку; [73] а в это самое время Комитет общественного спасения посылал на эшафот прославленных хирургов, выдающихся химиков, эрудитов, поэтов, астрономов…
Эстебан осекся, заметив, что Виктор выказывает признаки нетерпения.
– Вот еще критикан нашелся! – взорвался наконец Юг. – Рассуждаешь так, как, без сомнения, рассуждают в Кобленце. [74] Тебя интересует, почему были закрыты литературные клубы в Нанте? – Он грохнул кулаком по столу. – Мы изменяем облик мира, а их занимают только литературные достоинства и недостатки какой-нибудь театральной пьесы. Мы преобразуем жизнь людей, а они сетуют на то, что некоторые литераторы не могут собираться вместе и читать вслух идиллии и прочие бредни. Да они способны пощадить изменника, врага народа только потому, что он написал красивые стихи!
На палубе послышался шум – что-то перетаскивали. Пробираясь между тюками, плотники сносили на нос корабля доски, за ними шли матросы, сгибаясь под тяжестью больших продолговатых ящиков. Когда открыли один из ящиков, лунный луч скользнул по стальному предмету треугольной формы; при виде его Эстебан содрогнулся. Люди, чьи тени отражались в воде, казалось, выполняли какой-то жестокий и таинственный обряд: на палубе были разложены – пока еще в одной плоскости – опора, верхняя перекладина и боковые стойки, они лежали в порядке, указанном в листке с инструкцией, и плотники при свете фонаря молча сверялись с ней. Пока еще адское сооружение существовало лишь в проекции на горизонтальную плоскость; это был как бы чертеж с искаженной перспективой, выполненный в двух измерениях, он позволял представить себе то, что вскоре должно было приобрести высоту, ширину и грозную глубину. Словно следуя ритуалу, люди, казавшиеся в темноте черными, воздвигали под покровом ночи ужасное сооружение, они доставали брусья, скобы, шарниры из ящиков, походивших на гробы, – гробы, однако, слишком длинные для человеческого тела, но достаточно широкие, чтобы вместить колодку с круглым отверстием, которая сможет зажать шею любого размера. Послышались удары молотков, и зловещий их ритм нарушал глубокую тишину моря, на котором уже появились первые саргассовые водоросли.
– Стало быть, она тоже путешествовала вместе с нами! – воскликнул Эстебан.
– Разумеется, – ответил Виктор, прохаживаясь по каюте. – Она да походная типография – вот две самые необходимые вещи, которые мы везем с собой, если не считать пушек.
– Не так прочтешь – кровью изойдешь! – пробормотал Эстебан.
– Не приводи мне испанских поговорок, – отрезал Виктор, снова наполняя рюмки.
Затем, пристально и многозначительно посмотрев на своего собеседника, Юг достал портфель из телячьей кожи и медленно раскрыл его. Он извлек оттуда пачку листков, отпечатанных на гербовой бумаге, и швырнул их на стол…
– Да, мы везем с собой также и эту грозную машину, – продолжал Виктор. – Но знаешь ли ты, что я вручу жителям Нового Света?
Он сделал паузу и прибавил, выделяя каждое слово:
– Декрет от шестнадцатого плювиоза второго года Республики, которым отменяется рабство. Отныне и впредь все люди, живущие в наших колониях, независимо от цвета кожи провозглашаются французскими гражданами и получают полное равенство в правах.
Юг высунулся из двери каюты и стал наблюдать за работой плотников. Стоя спиной к Эстебану, он продолжал свой монолог, не сомневаясь, что собеседник слушает его:
– Впервые морская эскадра приближается к берегам Америки, не осененная знаком креста. Флотилия Колумба несла изображение креста на парусах своих каравелл. Крест знаменовал собою рабство, которое собирались навязать жителям Нового Света во имя искупителя; Христос, внушали капелланы, умер, дабы спасти людей, принести утешение беднякам и устыдить богатых. А мы, – Виктор резко обернулся и указал на декрет, – мы люди без креста, без искупителей, без бога, на наших кораблях нет капелланов, и мы плывем в Новый Свет, чтобы уничтожить все привилегии и установить равенство. Брат мулата Оже будет отомщен…
Эстебан опустил голову, устыдившись той критики, которую он перед тем поспешно высказывал Югу, словно стремясь избавиться от мучительных сомнений. Он взял в руки декрет и стал ощупывать бумагу, снабженную большими сургучными печатями.
– Так или иначе, – проговорил он, – но я предпочел бы, чтобы цели эти были достигнуты без применения гильотины.
– Все будет зависеть от людей, – отвечал Виктор. – И от других, и от тех, кто едет с нами. Не думай, что я доверяю всем, кто плывет на наших кораблях. Посмотрим, как каждый станет вести себя, ступив на твердую землю.
– Ты это для меня говоришь? – осведомился Эстебан.
– Может быть, для тебя, может, для других. По своему положению я обязан не доверять никому. Одни слишком много рассуждают. Другие слишком много жалуются. Некоторые до сих пор тайком носят на груди ладанки. Кое-кто утверждает, будто при старом режиме – в этом публичном доме! – жилось лучше. Среди военных скрываются заговорщики, они спят и видят, как бы избавиться от комиссаров Конвента, едва только придется обнажить сабли. Но я, я знаю обо всем, что говорят, что думают и что делают на этих проклятых кораблях. Поэтому внимательно следи за своими словами. Мне их тут же перескажут.
– Ты считаешь меня подозрительным? – спросил Эстебан с горькой улыбкой.
– Я подозреваю всех, – ответил Виктор.
– Отчего бы тебе нынче вечером не испробовать на мне, как действует гильотина?
– Плотникам пришлось бы слишком торопиться. Да и овчинка выделки не стоит. – Виктор принялся стаскивать рубаху. – Ступай-ка лучше спать.
Он протянул Эстебану руку с сердечностью и искренностью, которые прежде отличали его. Взглянув на Юга, юноша был поражен сходством между Неподкупным, чей портрет висел на стене каюты, и Виктором, который явно подражал манере Робеспьера держать голову, вперять в собеседника испытующий взгляд и смотреть на него одновременно учтиво и твердо: все это было запечатлено на портрете. И то, что Эстебан разглядел эту слабость Виктора – желание даже физически походить на человека, которым тот восхищался больше всего, – принесло юноше некоторое удовлетворение. Итак, Юг, который некогда, разыгрывая живые картины в Гаване, рядился в одежды Ликурга или Фемистокла, ныне, достигнув власти и исполнения своих честолюбивых помыслов, старался подражать другому человеку, чье превосходство признавал. Впервые гордый Виктор Юг склонялся – быть может, почти безотчетно – перед личностью более значительной.
XVII
Когда эскадра в полном составе вошла в теплые моря, укрытая чехлом грозная машина по-прежнему высилась на носу корабля, являя взору две плоскости – горизонтальную и вертикальную – и походя чистотою линий на чертеж из учебника геометрии. О близком соседстве суши говорили принесенные сюда морскими течениями древесные стволы, корневища бамбука, мангровые ветви, листья кокосовых пальм, которые плавали на поверхности воды, – в тех местах, где дно было песчаным, она казалась светло-зеленой. Снова возникла опасность встречи с британскими кораблями; со дня отплытия никто не знал, что же происходит на Гваделупе, и эта неизвестность держала всех в тревожном ожидании; день проходил за днем без особых происшествий, но беспокойство все возрастало. Если кораблям флотилии не удастся пристать к берегам Гваделупы, они продолжат свой путь в Сен-Доменг. Однако англичане могли завладеть и этим островом. В таком случае, решили Кретьен и Виктор Юг, надо будет любым способом добраться до Соединенных Штатов и отдать эскадру под покровительство дружественной державы. Эстебан сердился на самого себя, он мысленно возмущался тем, что считал недопустимым проявлением эгоизма, и все же сердце его замирало каждый раз, когда речь заходила о том, что флотилия, быть может, войдет в порт Балтимора или Нью-Йорка. Это означало бы конец долгого приключения, которое с каждым днем казалось ему все более нелепым; его присутствие на кораблях эскадры станет излишним, он попросит вернуть ему свободу действий или сам, без всякого разрешения, воспользуется ею и возвратится, опаленный Историей, наслушавшись разных историй и насмотревшись на них, туда, где ему станут внимать с таким же удивлением, с каким внимают пилигриму, вернувшемуся из странствий по святым местам. Его первый выход на арену мировых событий закончился бесславно, однако он приобрел немалый опыт, он приобщился к великим преобразованиям, и это как бы служило залогом его будущих деяний. Но пока надо было делать нечто такое, что придало бы смысл жизни. Эстебану хотелось писать, он надеялся, что, взявшись за перо и приведя мысли в строгую систему, он сможет сделать важные выводы из своих впечатлений. Молодой человек еще плохо представлял себе, каким именно будет этот его труд. Но он должен быть, во всяком случае, чем-то важным, отвечающим нуждам эпохи; чем-то таким, что весьма не понравится Виктору Югу, не без удовольствия думал Эстебан. Возможно, это будет новая теория государства. Возможно – критический пересмотр «Духа законов» Монтескье. Возможно даже – исследование ошибок, допущенных в ходе революции. «Словом, такую книгу вполне мог бы написать один из этих скотов эмигрантов», – сказал себе Эстебан, заранее отказываясь от своего замысла. За последний год-два юноша
заметил, что в нем все больше развивается критический дух – порою он досадовал на эту свою новую черту, так как она мешала ему непосредственно восторгаться тем, чем восторгались другие, – и Эстебан все чаще отказывался подчиняться господствующему мнению. Когда при нем изображали революцию как нечто идеальное и возвышенное, когда не желали признавать за ней ни недостатков, ни заблуждений, она начинала представляться ему уязвимой и ущербной. Однако он защищал бы революцию от нападок монархистов с помощью тех же самых аргументов, которые раздражали его, когда ими пользовался, скажем, Колло д'Эрбуа. Эстебана в равной мере возмущали и демагогические высказывания газеты «Отец Дюшен», [75] и чудовищные бредни эмигрантов. Он чувствовал себя священником, когда сталкивался с гонителями церкви, и гонителем церкви, когда сталкивался со священниками; он был похож на монархиста, когда при нем утверждали, что все короли – в том числе и Яков Шотландский, и Генрих IV, и Карл Шведский [76] – были дегенератами, и вел себя как ярый противник монархии, когда при нем прославляли испанских Бурбонов. «Я и впрямь критикан, – признавался он себе, вспоминая, что Виктор Юг назвал его так несколько дней тому назад. – Но спорю я с самим собою, а это хуже всего». У типографов Лёйе мало-помалу развязались языки, и они рассказали Эстебану, каким беспощадным был в Рошфоре общественный обвинитель Юг; юноша смотрел теперь на Виктора со смешанным чувством досады и недоброжелательства, нежности и зависти. Досаду он испытывал, так как видел, что Виктор отдалил его от себя; недоброжелательство к Югу родилось у Эстебана, когда он узнал, как тот неистовствовал в трибунале; почти женская нежность и благодарность возникала в душе молодого человека при мысли о дружеских чувствах Виктора к нему; зависть в Эстебане вызывало то обстоятельство, что комиссар владел декретом, благодаря которому этому сыну булочника, чье детство прошло между печью и квашней, предстояло войти в историю. Эстебан целые дни мысленно спорил с Виктором, давал ему советы, требовал отчета, повышал голос, – словом, готовился к беседе с Югом, которой, возможно, не суждено было состояться вообще, а если бы она когда-нибудь и состоялась, то юноша вел бы совсем не те речи, какие долго вынашивал: скорее всего чувства нахлынули бы на него, и вместо упреков, доводов, категорических требований и угроз разрыва, какие он теперь шептал про себя, прозвучали бы жалобы, а быть может, пролились бы даже и слезы… В пору этого тревожного ожидания Виктор Юг спозаранку отправлялся на фрегат «Фетида» в шлюпке под флагом Республики; там он совещался с командующим флотилией де Лессегом – оба разговаривали, облокотившись на карты, где были нанесены рифы и мели, меж которых в те дни шла эскадра. Когда комиссар возвращался, Эстебан стремился попасться ему на глаза: при этом он делал вид, будто погружен в какое-то дело и не замечает идущего мимо Виктора. Когда Юг бывал окружен офицерами и адъютантами, он не заговаривал с юношей. Эта группа людей в украшенных перьями головных уборах и расшитых мундирах составляла особый мир, куда Эстебану не было доступа. Провожая долгим взглядом комиссара Конвента, юноша со смешанным чувством восхищения и гнева смотрел на его широкие плечи, обтянутые пропотевшим мундиром: ведь плечи эти принадлежали человеку, посвященному в самые заветные тайны семьи Эстебана, человеку, который вторгся в его жизнь, как рок, и с тех пор ведет его все более и более опасными путями. «Не обнимай холодных статуй», – шептал молодой человек, с горькой иронией повторяя слова Эпиктета и думая о том, какое расстояние пролегло сейчас между ним и его товарищем прежних лет. А ведь он видел, как эта «холодная статуя», как этот человек предавался утехам любви с самыми изощренными в страсти женщинами – именно потому Виктор их и выбирал – во время их совместных похождений в первые дни жизни в Париже, когда искали только одного: наслаждений. Тогдашний Виктор Юг, сбросив рубашку, похвалялся своими мускулами перед случайными любовницами, ценил хорошее вино и соленую шутку, обладал живостью нрава, несвойственной нынешнему Югу, – теперь же он был вечно хмур, затянут в парадный мундир и гордился знаками отличия, дарованными ему Республикой; человек этот распоряжался ныне судьбами всей флотилии и присвоил себе права адмирала с самоуверенностью, приводившей в смущение самого де Лессега. «От расшитого мундира голова у тебя пошла кругом, – думал о нем Эстебан. – Берегись: опьянение мундиром – худший вид опьянения»… Однажды на рассвете два пеликана опустились на гик фрегата «Копье». Ветер донес запах пастбищ, патоки и дыма. Эскадра, замедлив ход, то и дело измеряя глубину лотами, приближалась к грозным рифам острова Дезирад. Еще в полночь солдаты и матросы были подняты по тревоге и теперь, столпившись у борта, жадно вглядывались в берег, суровые очертания которого с самой зари проступали на горизонте: остров этот походил на громадную тень, падавшую на море от низких, неподвижных облаков. Дело происходило в самом начале июня, царил полный штиль: казалось, можно расслышать, как вдалеке летающая рыба задевает плавником поверхность воды, такой прозрачной, что видно было, как на небольшой глубине скользят угри. Корабли остановились неподалеку от обрывистого берега, где не было ни посевов, ни жилищ. Шлюпка с несколькими матросами отделилась от фрегата «Фетида» и понеслась к острову. Вскоре командующий флотилией де Лессег в сопровождении генералов Картье и Руже прибыл на фрегат «Копье», чтобы вместе с Кретьеном и Виктором Югом дожидаться известий… Часа через два, когда терпение у всех уже истощилось, показалась шлюпка.
– Ну, что там? – крикнул комиссар матросам, когда, по его мнению, они уже могли расслышать вопрос.
– Англичане на Гваделупе и на острове Сент-Люсия, – послышался ответный крик, и на палубах кораблей раздались громкие проклятья. – Они завладели этими островами уже после того, как мы отплыли из Франции.
Напряжение уступило место досаде. Вновь вернулась неуверенность прежних дней: отныне начинался новый опасный переход по морям, кишевшим вражескими судами, к острову Сен-Доменг, – а он, вероятнее всего, тоже захвачен англичанами, которым помогали богатые колонисты, сторонники монархии, переходившие на сторону врага вместе с толпами своих рабов-негров. Если же и можно будет избежать британской опасности, то останется угроза со стороны испанцев; эскадре придется в самую дурную пору года бороздить море во всех направлениях, чтобы добраться до Багамских островов; при этой мысли Эстебан вспомнил стихи из «Бури», [77] где говорилось об ураганах, бушующих над Бермудскими островами. Солдатами овладевали пораженческие настроения. Коль скоро высадиться на Гваделупе нельзя, лучше всего убраться восвояси, да поскорее. Многие молча возмущались тем упорством, с каким Виктор Юг заставлял матроса, посланного за вестями, вновь и вновь повторять свой рассказ о коротком пребывании на суше. Места для сомнений не оставалось. Новость сообщили ему несколько человек: негр-рыбак, крестьянин, слуга из какого-то кабачка; кроме того, он беседовал с солдатами небольшого форта. Все они видели корабли эскадры, но на расстоянии приняли их сперва за флотилию адмирала Джервиса: она должна была сняться с якоря в Пуэнт-а-Питре, вернее, уже снялась или снималась в эту минуту, и взять курс на остров Сент-Кристофер… Оставаться тут, среди рифов, было крайне опасно.
– Думаю, ждать дольше не стоит, – заметил Картье. – Если они нас здесь окружат, то разобьют в пух и прах.
Генерал Руже придерживался того же мнения. Однако Виктор не уступал. Вскоре голоса спорящих зазвучали громче. Генералы не соглашались с комиссарами Конвента, в ножнах позвякивали сабли, сверкали нашивки, перевязи и кокарды, раздавались самые грубые ругательства, какие только можно было услышать от француза II года Республики, всего минуту назад с пафосом упоминавшего Фемистокла и Леонида. Внезапно Виктор Юг заставил всех замолчать, резко оборвав разговор.
– В Республике военные не спорят, а подчиняются. Нас послали на Гваделупу, и мы высадимся на Гваделупе.
Остальные опустили головы, словно львы под хлыстом укротителя. Комиссар приказал немедленно поднять якоря, и эскадра взяла курс на порт Салин в области Гранд-Тер. Вскоре показался остров Мари-Галант, окутанный опаловою дымкой; на кораблях объявили боевую тревогу. Послышался грохот лафетов, скрип канатов и шкивов, крики, шум, отрывистые слова команды, ржание лошадей, почуявших близость земли и зеленых пастбищ. По приказанию Юга типографы принесли несколько сот афиш, отпечатанных во время морского перехода: на них большими черными буквами был воспроизведен текст декрета от 16 плювиоза, который провозглашал отмену рабства и давал равные права всем обитателям острова, независимо от цвета кожи и имущественного состояния. Затем комиссар Конвента твердым шагом пересек шкафут, подошел к гильотине и сбросил просмоленный брезент, покрывавший ее: она впервые предстала всем взорам, сверкая в лучах солнца хорошо отточенным лезвием. Словно выставляя на всеобщее обозрение дарованную ему власть, Виктор Юг замер в неподвижности, упершись правой рукой в боковую перекладину грозной машины, и внезапно превратился в живую аллегорию. Вместе со свободой в Новый Свет прибывала первая гильотина.





