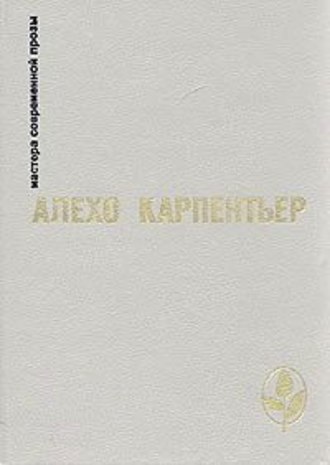
Алехо Карпентьер
Век просвещения
– Я вернулся от варваров, – сказал Эстебан Софии, когда перед ним, торжественно заскрипев на петлях, распахнулась тяжелая дверь родного дома.
Дом по-прежнему стоял на углу улицы, он был, как и раньше, украшен высокими белыми решетками.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Разумно или нет.
Гойя
XXXV
– Ты?! – воскликнула София при виде этого опаленного солнцем, возмужалого и раздавшегося в плечах человека с крепкими, загрубелыми руками, который, как все моряки, держал свои скромные пожитки в переброшенном через плечо брезентовом мешке. – Ты?!
И она целовала его прямо в губы, целовала его заросшие щетиной щеки, лоб, шею.
– Ты?! – растерянно повторял и Эстебан, в изумлении глядя на женщину, которую он теперь сжимал в объятиях, такую цветущую, с округлыми формами, столь непохожую на узкобедрую девушку, чей образ все это время жил в его памяти.
Да, стоявшая перед ним женщина ничуть не походила на прежнюю Софию, которая была для него не просто кузиной, а скорее девочкой-матерью, угловатым подростком, товарищем его отроческих игр, подружкой, приходившей ему на помощь во время приступов мучительной болезни. Он оглядывался по сторонам и теперь узнавал здесь все, однако не в силах был отделаться от чувства, будто он тут посторонний. Он так мечтал о той минуте, когда вернется к себе, но сейчас почему-то не испытывал радости. Знакомый дом – так хорошо ему знакомый дом – казался чужим, и Эстебан никак не мог освоиться с привычными вещами. В углу стояла все та же арфа, а над ней по-прежнему висел ковер, на котором были вытканы попугаи, единороги и борзые; в простенке между большими окнами поблескивало венецианское зеркало в раме с потускневшими гирляндами; вдоль стены тянулись полки с книгами, и все книги были теперь аккуратно расставлены. Вместе с Софией он прошел в столовую, где высились массивные буфеты, а на стенах виднелись все те же покрытые лаком натюрморты с фазанами и зайцами в окружении плодов. Затем они миновали кухню и направились в комнату, в которой он жил с самого детства.
– Подожди, я схожу за ключом, – сказала София.
И Эстебан вспомнил, что в старинных креольских семьях было принято запирать навсегда комнаты умерших.
Когда распахнулась дверь, молодой человек увидел пыльную груду марионеток и сваленных в кучу физических приборов; они в беспорядке лежали повсюду – на полу, на креслах, на узкой железной кровати, столько времени служившей для него ложем страданий; выцветший воздушный шар так и висел на веревочке; сцена кукольного театра все еще изображала какой-то средиземноморский порт – на ней хоть сейчас можно было представлять «Проделки Скапена». Разбитые лейденские банки, барометры и сообщающиеся сосуды валялись вокруг оркестра обезьян. Внезапно встретившись со своим детством – вернее сказать, с первыми днями отрочества, – Эстебан зарыдал. Он долго плакал, уткнувшись головой в колени Софии, совсем так, как плакал ребенком, поверяя ей свои горести и жалуясь на то, что он просто больной неудачник. Нарушенные связи сразу же восстановились. Окружающие вещи словно обрели голос. Эстебан и София вновь направились в гостиную через переднюю, увешанную картинами. Арлекины по-прежнему весело водили хороводы на острове Цитеры; на великолепных, но холодных натюрмортах, как и прежде, красовались чугунки, вазы для фруктов, два яблока, ломоть хлеба и пучок лука-порея, выполненные каким-то подражателем Шардена, [129] а рядом виднелось полотно, изображавшее пустынную и монументальную площадь, – картина эта, где было, как говорят, «мало воздуха» и где не хватало перспективы, напоминала манерой письма работы Жана-Антуана Карона. [130] На своих местах оставались и сатирические персонажи Хогарта, они как бы вели к картине «Усекновение главы святого Дионисия», краски на которой не только не потускнели под лучами тропического солнца, но, казалось, приобрели необычайную яркость.
– Мы недавно подновили ее и покрыли лаком, – пояснила София.
– Вижу, вижу, – отозвался Эстебан. – Чудится, будто на ней свежая кровь.
Однако чуть дальше, там, где некогда висели полотна, изображавшие жатву и сбор винограда, теперь появились новые, писанные маслом холсты, но выполненные в какой-то удивительно сухой манере: на них были представлены назидательные сцены из древней истории, события из жизни Тарквиния и Ликурга, – подобные сюжеты изрядно надоели Эстебану за время его пребывания во Франции.
– Стало быть, эти картины уже добрались и до вас? – спросил он.
– Такие творения сейчас больше всего пользуются успехом, – ответила София. – Ведь здесь не просто игра красок, это искусство содержит мысль, служит образцом, заставляет думать.
Но Эстебан уже замер в глубоком волнении перед полотном неизвестного неаполитанского мастера – «Взрыв в кафедральном соборе». В нем, казалось, было заключено предвестие многих, теперь уже известных, событий, и молодой человек терялся, он не знал, как истолковать этот пророческий холст, нарушавший все законы пластики, чуждый всем художественным школам, холст, каким-то таинственным образом попавший в их дом. Если собор в соответствии с доктриной, которой Эстебана в свое время обучали, был символом – ковчегом и дарохранительницей – его собственного существа, то там, без сомнения, и в самом деле произошел взрыв, взрыв запоздалый и замедленный, разрушивший алтари, эмблемы и священные предметы, которым он прежде поклонялся. Если собор символизировал эпоху, то ужасающий взрыв и в самом деле потряс до основания все ее главные устои, и под грудой развалин были погребены те самые люди, которые, быть может, строили адскую машину. Если собор символизировал христианскую церковь, то, как заметил Эстебан, ряд массивных колонн неспроста уцелел, в то время как другая колоннада разлетелась на куски и ее обломки повисли над землей, точно апокалипсическое видение; оставшиеся невредимыми колонны как бы выражали собою прочность и незыблемость здания, которому предстояло вновь возродиться, когда минует пора разрушений и погаснут звезды, возвещавшие гибель старого.
– Ты всегда любил смотреть на эту картину, – проговорила София. – Подумать только, а мне она кажется нелепой и тягостной!
– Это наше время тягостно и нелепо, – сказал Эстебан.
Внезапно вспомнив о двоюродном брате, он спросил, как поживает Карлос.
– Он с самого утра уехал с моим мужем в деревню, – ответила София. – К вечеру они вернутся…
Молодая женщина осеклась, заметив, что при ее словах на лице Эстебана отразились величайшая растерянность и тревога. Тогда, приняв небрежный и беззаботный тон, София с непривычной для нее словоохотливостью стала рассказывать о том, что она год назад вышла замуж за человека, ставшего ныне компаньоном Карлоса в торговых делах, – и она указала на прежде всегда закрытую одностворчатую дверь, которая вела во дворик с цветником и двумя пальмами, похожими на колонны, тут совсем неуместные. Когда преследование франкмасонов прекратилось, – кстати, все ограничилось только угрозами, – Карлос избавился от дона Косме и стал подыскивать себе компаньона, долю которого в Делах составляли бы опыт, трудолюбие и коммерческие познания, то есть те качества, которых сам Карлос был лишен. Именно с таким сведущим человеком, понаторевшим в торговых операциях, он и познакомился в масонской ложе.
– В ложе? – переспросил Эстебан.
– Не перебивай, – попросила София и принялась восторженно расхваливать мужа, который почти сразу оздоровил дела фирмы и, воспользовавшись временем небывалого расцвета, переживаемого страной, утроил, а может быть, даже упятерил их доходы. – Ты теперь богат! – крикнула она Эстебану, и щеки ее пылали от восторга. – По-настоящему богат! И обязан этим – мы все этим обязаны – Хорхе. Мы женаты уже около года. Его дед и бабка ирландцы. Он состоит в родстве с семейством О'Фаррил.
Эстебану не понравилось, что София не преминула подчеркнуть свое родство с одним из самых старинных и влиятельных семейств на острове.
– Вы, должно быть, теперь часто устраиваете торжественные приемы? – угрюмо осведомился он.
– Не валяй дурака! В доме ничто не переменилось. Хорхе такой же, как мы. Ты с ним отлично сойдешься.
И София заговорила о том, как она сейчас довольна, как она рада была составить счастье другого человека, и о том, что женщина испытывает удивительное чувство уверенности и покоя, когда у нее есть верный спутник жизни. Потом, словно желая оправдать свою невольную измену, она прибавила:
– Ведь вы с Карлосом мужчины. И рано или поздно обзаведетесь семьей. Что ты так на меня смотришь? Говорю тебе, у нас все осталось, как прежде.
Однако Эстебан глядел на нее с глубокой грустью. Он никогда не думал, что ему доведется услышать из уст Софии столько общих мест, характерных для буржуазной морали: «Составить счастье другого человека», «удивительное чувство уверенности», которое испытывает женщина, зная, что «у нее есть верный спутник жизни»… Страшно было подумать, что теперь не ум, а одно только женское естество говорит устами Софии – устами женщины, само имя которой должно было сделать ее обладательницей «улыбчивой мудрости», веселого ума. В представлении Эстебана имя «София» всегда было неотделимо от высокого купола Византийского собора, от вечнозеленых ветвей Древа Жизни, от величия древнегреческих архонтов, от великой тайны Девственности. Но вот достаточно было Софии ощутить чувство физической гармонии, порожденное, быть может, еще не до конца осознанной радостью грядущего материнства – она могла понять это потому, что впервые с той поры, когда она стала взрослой, кровь, берущая начало в самых недрах женского существа, прекратила свой регулярный ток, – и его старшая сестра, Девочка-Мать, та, что некогда была высоким воплощением женственности, сразу же превратилась в добродетельную супругу, уравновешенную и осмотрительную, думающую только о своем драгоценном Чреве и о его будущем Плоде и гордую родством мужа с олигархией, которая обязана своим богатством тому, что веками выжимала соки из многих поколений черных рабов. И если, возвратившись после долгого отсутствия в свой дом, Эстебан почувствовал себя там посторонним, чужим, то еще более посторонним, еще более чужим он почувствовал себя сейчас в присутствии этой женщины, слишком явной властительницы и хозяйки их дома, где все теперь казалось ему чересчур благоустроенным, чересчур опрятным, чересчур оберегаемым от любой случайности. «Тут везде ощущается ирландский дух», – подумал Эстебан и попросил разрешения (именно: «попросил разрешения») принять ванну; София по привычке проводила его в ванную комнату и продолжала оживленно болтать до тех пор, пока он не остался в одних только коротких нижних панталонах.
– Подумаешь, какая тайна! Ведь я все это сто раз видела, – смеясь, воскликнула София, бросив ему поверх ширмы кусок кастильского мыла.
Затем Эстебан отправился в кухню и кладовую, где обнял Росауру и Ремихио, которые шумно обрадовались, увидя его; за время отсутствия Эстебана оба совсем не переменились: Росаура по-прежнему отличалась миловидностью, а определить возраст Ремихио было невозможно – этому негру, видно, суждено было прожить в царстве земном целый век. София и Эстебан завтракали вдвоем; говорили они мало и о каких-то пустяках, но все время присматривались друг к другу; каждый очень много хотел сказать другому, но никак не решался. Эстебан бегло упоминал о местах, где ему довелось побывать, но в подробности не вдавался. Если бы между ними вновь установилась былая душевная близость, нарушенная долгой разлукой, и он бы дерзнул открыть свою душу, ему потребовались бы часы, целые дни, чтобы поведать обо всем, что он пережил и перечувствовал за эти смутные и бурные годы. Теперь, когда годы эти уже остались позади, ему чудилось, что они промелькнули быстро. И все же за короткий срок многие вещи, главным образом некоторые книги, необычайно устарели. Встреча с аббатом Рейналем, [131] чье сочинение стояло на книжной полке, чуть было не заставила его рассмеяться. Барон Гольбах, [132] Мармонтель с его опереточными инками, Вольтер, чьи трагедии представлялись столь злободневными – и не только злободневными, но и разрушительными – каких-нибудь десять лет назад, теперь показались ему старомодными, отставшими от времени и такими устарелыми, каким мог показаться трактат по фармакологии XIV века. Однако ничто не казалось большим анахронизмом, чем «Общественный договор»: [133] произведение это буквально расползлось по швам, распалось на куски под натиском грозных событий. Эстебан взял в руки книгу, страницы которой были испещрены восклицательными знаками, комментариями и пометками, сделанными его рукой – его прежней рукой.
– Помнишь? – спросила София, припав головою к плечу кузена. – Раньше я не понимала этого сочинения. Теперь же прекрасно понимаю.
Брат и сестра поднялись в комнаты верхнего этажа. Эстебан остановился перед широким «брачным ложем», которое показалось ему слишком узким, – это ложе София делила с чужим, незнакомым ему человеком; юноша молча смотрел на два ночных столика в изголовье, на лежавшие там книги в разных переплетах, на сафьяновые ночные туфли рядом с туфлями его кузины. Он вновь почувствовал себя посторонним. И не захотел устроиться в соседней комнате, «служившей кабинетом Хорхе, хотя Хорхе им никогда не пользовался», а отправился в свою старую каморку; сложил в угол физические приборы, музыкальные шкатулки и марионетки, потом прикрепил гамак к толстым металлическим кольцам, ввинченным в стены, – эти кольца в свое время поддерживали свернутую жгутом простыню, на которую он опирался подбородком во время приступов астмы. Внезапно София спросила у него о Викторе Юге.
– Не говори мне о Викторе, – ответил Эстебан, роясь в своем брезентовом мешке. – Он стал настоящим чудовищем. Впрочем, я привез тебе от него письмо.
И, положив в карман несколько монет, Эстебан вышел на улицу. Ему не терпелось подышать воздухом родного города, в котором он, едва сойдя с корабля, заметил немало перемен. Вскоре Эстебан поравнялся с кафедральным собором: его строгие антаблементы, высеченные из местного камня – уже казавшегося древним, когда он только попал в руки каменотесов, – были увенчаны завитками в стиле позднего барокко. Этот недавно воздвигнутый храм, окруженный дворцами с решетками и балконами, свидетельствовал об эволюции во вкусах тех, кто определял архитектуру города. До самых сумерек Эстебан бродил по Гаване, переходя с улицы Офисное на улицу Инкисидор, а оттуда на улицу Меркадерес; миновав площадь Христа, он вышел к храму Святого Духа, прошелся по вновь отстроенному проспекту Паула и площади Де-Армас – с наступлением вечера под ее аркадами уже собирались шумные группы праздных горожан. Зеваки толпились под окнами какого-то дома, откуда доносились незнакомые им звуки фортепьяно, недавно привезенного из Европы. Цирюльники, стоя на пороге своих заведений, пощипывали струны гитар. В каком-то патио фокусник показывал доверчивым зрителям говорящую голову. Проходя мимо, две смазливые негритянки, занимавшиеся проституцией для умножения доходов некой весьма почтенной дамы-католички, – это было в городе не редкостью, – поманили Эстебана. Он нащупал в кармане монеты и двинулся вслед за девицами в полумрак подозрительного постоялого двора… Домой он вернулся поздно вечером. Карлос бросился навстречу брату и обнял его. Молодой негоциант почти не изменился. Только немного возмужал, выглядел чуть солиднее да, пожалуй, слегка располнел.
– Мы, коммерсанты, люди оседлого образа жизни… – заговорил он, смеясь.
И тут вошла София со своим мужем, худощавым человеком, – на вид ему было лет двадцать пять, хотя уже исполнилось тридцать три; у него было красивое лицо с тонкими, благородными чертами, большим высоким лбом и чувственным ртом, который несколько портило выражение надменной холодности. Эстебана, боявшегося увидеть заурядного купца, болтливого и ограниченного, приятно поразила наружность Хорхе; однако он успел заметить, что в походке, манерах, одежде супруга Софии, решительно во всем проявлялась какая-то задумчивая снисходительность, рассеянная учтивость и легкая меланхолия; пристрастие к темным костюмам, широким отложным воротникам и небрежной с виду прическе составляло характерную черту, присущую молодым людям, которые всего несколько лет назад получили образование в Германии или же, как Хорхе, в Англии.
– Ну, посмей только сказать, что он у меня не красив, – сказала София Эстебану, с нежностью и восхищением глядя на мужа.
В тот вечер хозяйка дома приказала поставить на стол золоченые канделябры и серебряную посуду, чтобы должным образом отметить первую трапезу вновь собравшейся семьи.
– Вижу, вы тут закололи тучного тельца, – пошутил Эстебан, когда появилась целая вереница подносов, уставленных отлично зажаренной птицей и замысловатыми, пикантными соусами.
Этот ужин напоминал пиршества, которым предавались в той же самой столовой три вчерашних подростка, воображавшие, будто они находятся в Потсдамском дворце, Карлсбадском курзале или в покоях дворца в стиле рококо, расположенного где-нибудь в окрестностях Вены. София пояснила, что жареная дичь, запеченные в тесте паштеты, фаршированная трюфелями телятина в винном соусе – все это было приготовлено ради того, кто долго жил в Европе и, должно быть, привык там вкушать изысканные яства. Однако Эстебан, добросовестно порывшись в памяти, вынужден был признать, – до сих пор он над этим как-то не задумывался, – что недолгая пора, когда его приводила в восхищение кухня, необычайно богатая ароматами, разнообразными соусами, приправами, душистыми травами, пряностями и изысканными эссенциями, давно миновала. Быть может, потому, что ему на протяжении нескольких месяцев пришлось довольствоваться треской, красным перцем и прочей нехитрой снедью, которая в ходу у басков, Эстебан пристрастился к простой и здоровой пище крестьян и моряков и предпочитал эти несложные кушанья тем, какие пренебрежительно именовал блюдами, сдобренными «липким соусом». И теперь он отдавал предпочтение светлому и душистому батату, испеченному в золе; зеленому банану, подрумяненному в масле; сердцевине пальмового дерева, удивительно напоминающей по вкусу спаржу и содержащей все питательные древесные соки; копченому мясу черепахи и дикого кабана; морскому ежу и устрице, живущей на мангровых ветвях у самого берега; холодной похлебке, куда накрошены солдатские сухари и где плавают карликовые крабы, – их поджаренная скорлупа хрустит на зубах и рассыпается, оставляя на мясе краба морскую соль. Однако больше всего ему нравились только что вытащенные из сети сардины, которых еще живыми зажаривают на раскаленной жаровне после полночной рыбной ловли, – их съедают тут же, на палубе, с сырым луком и грубым черным хлебом, запивая густым красным вином прямо из бурдюка.
– А я-то убила весь день и вечер, старательно изучая поваренные книги, – смеясь, сказала София.
Кофе подали в большую гостиную, и Эстебан с грустью отметил, что милый его сердцу беспорядок, некогда царивший тут, канул в прошлое. Было очевидно, что внук ирландцев, став супругом хозяйки дома, навел здесь строгий порядок. К тому же София старалась предупредить малейшее желание мужа: она то и дело вставала, выходила, возвращалась, подавала ему уголек для трубки, а потом усаживалась на низенькую скамеечку возле его кресла. В молчании Хорхе, в выжидательной улыбке Карлоса, в порывистых движениях Софии, которая поспешно пошла за подушечкой, – во всем чувствовалось нетерпение, и было понятно, что окружающие ждут, когда же Эстебан, по примеру древних путешественников, – для своих родичей, живших на огромном расстоянии от мест, где происходили главные события, он был вроде сэра Мандевиля времен французской революции, – начнет рассказ о своих приключениях. Но слова замирали у него на губах, – он понимал, что первые же из этих слов повлекут за собой бесчисленное множество других, что наступит рассвет, а он все еще будет сидеть на диване и говорить, говорить.
– Расскажи нам о Викторе Юге, – не выдержал наконец Карлос.
Поняв, что ему, подобно Улиссу, придется непременно поведать в эту ночь свою одиссею, Эстебан попросил Софию:
– Принеси-ка бутылку самого простого вина, а другую поставь остудить, ибо рассказ мой будет долгим.
XXXVI
Не стоит кричать.
Гойя
Эстебан начал свой рассказ в шутливом тоне: он вспоминал о различных перипетиях, сопровождавших его переезд из Порт-о-Пренса во Францию, – ехал он туда на борту корабля, битком набитого беженцами, которые почти все были масонами, членами клуба филадельфов, весьма влиятельного в Сен-Доменге. Было и в самом деле очень любопытно наблюдать за тем, как все эти филантропы, друзья китайца, перса и индейца-алгонкина, грозили после подавления негритянского восстания самым свирепым образом свести счеты с неблагодарными слугами, которые первыми подносили горящие факелы к домам и усадьбам своих господ. Затем молодой человек с усмешкой поведал о том, как он, подобно Вольтерову гурону, знакомился с Парижем, рассказал о своих мечтах и надеждах, о своих похождениях и приобретенном опыте; при этом он вспомнил несколько анекдотических историй. Героем одной из них был некий гражданин, предлагавший воздвигнуть на французской границе гигантскую фигуру – бронзового колосса, чей лик должен был внушать такой непреодолимый ужас, что, завидя его, тираны вместе с их перепуганными армиями в страхе повернули бы назад; другой его достойный собрат в дни грозной опасности для страны заставлял Национальное собрание попусту тратить время, доказывая, что, именуя всех женщин «гражданками», оставляют невыясненным весьма волнующий вопрос, идет ли в каждом отдельном случае речь о девице или же даме; потом Эстебан рассказал, что к пьесе «Мизантроп» была дописана проникнутая гражданским духом развязка – Альцест неожиданно примирялся с родом человеческим и возвращался к жизни в обществе; молодой человек потешался над огромным успехом, который получил во Франции – правда, уже после его отъезда – роман «Маленький Эмиль»; ему довелось прочесть эту книгу на Гваделупе: там рассказывалось о мальчике из простонародья, который попал в Версаль и, к своему величайшему изумлению, обнаружил, что дофин тоже ходит на горшок… Эстебан старался сохранить юмор, но мало-помалу события и картины, возникавшие из его рассказа, приобретали все более мрачную окраску. Алый цвет кокард все чаще уступал место темно-красному цвету запекшейся крови. Эпоха деревьев свободы уступила место эпохе эшафотов. В какой-то неуловимый, не поддающийся определению, но страшный час в душах людей произошла разительная перемена: тот, кто еще вчера был мягким, назавтра сделался грозным, тот, кто прежде ограничивался суровыми речами, стал теперь подписывать обвинительные приговоры. Всех словно охватило помешательство, помешательство тем более необъяснимое, что происходило это в стране, где цивилизация, казалось, привела все в состояние полной уравновешенности, в стране с гармоничными зданиями, укрощенной природой, невиданным расцветом искусств и ремесел, в стране, самый язык которой был как будто нарочно создан для размеренного классического стиха. Судя по всему, французский народ был меньше всего расположен воздвигать эшафоты. По сравнению с испанской инквизицией инквизиция во Франции была детской игрою. Варфоломеевская ночь не шла ни в какое сравнение со всеобщим избиением протестантов, которое производилось по повелению короля Филиппа. Когда сейчас, спустя несколько лет, Эстебан вспоминал тогдашнего Бийо-Варенна, он почему-то представлялся ему экзотическим жрецом ацтеков, сжимающим в окровавленной руке нож из обсидиана; рядом возвышалась величественная колоннада и статуи работы Гудона, а вокруг зеленели подстриженные и ухоженные сады. Разумеется, французская революция отвечала смутному порыву, веками зревшему в душах людей, порыву, который вылился в столь грандиозные события. Однако Эстебана ужасала уплаченная за все это цена: «Мы слишком быстро забываем о мертвецах». О мертвецах Парижа, Лиона, Нанта, Арраса (Эстебан перечислял названия и таких городов, как Оранж, страдания которых стали полностью известны только в недавнее время); о тех, кто нашел свою смерть в плавучих тюрьмах Атлантики, в болотах Кайенны и во множестве других мест, не говоря уже обо всех погибших в заточении, тайно умерщвленных или пропавших без вести… А сколько было таких, что превратились в живые трупы, сколько было людей с разбитой жизнью, погубленным призванием, людей, чей труд пошел прахом, – все они были обречены влачить жалкое существование, если только не находили душевных сил наложить на себя руки. Эстебан высоко ставил злополучных бабувистов, он видел в них последних истинных революционеров, сохранивших верность высокому идеалу равенства; и по воле рока им довелось оказаться современниками тех, кто разглагольствовал в колониях о братстве и свободе, превратив на деле эти лозунги в орудие политических интриг, чтобы сохранить уже захваченные земли и приобрести новые. Древний бог, чьи храмы и соборы вновь открывались всюду, где прежде на время восторжествовал атеизм, вышел победителем из трудного испытания. Его приверженцы могли теперь со злорадством утверждать, что все происшедшее было в конечном счете лишь результатом гнева, который он обрушил на многочисленных философов подошедшего к концу века – до начала нового столетия остались считанные недели, – осмелившихся непочтительно дергать его за бороду, утверждать, будто его пророк Моисей – обманщик, а апостол Павел – глупец, и даже уверявших, что настоящим отцом Иисуса Христа был какой-то римский легионер: об этом как-то говорил и Виктор Юг в одной из своих речей, где он использовал доводы барона Гольбаха. Осушив последний стакан вина, Эстебан с горечью закончил свой рассказ:
– На сей раз революция потерпела неудачу. Быть может, следующая добьется большего. Однако когда она произойдет, я уже на эту удочку не попадусь, меня тогда и днем с огнем не сыщут. Нет ничего опаснее пышных фраз и лучших миров, что существуют только на словах. Нашу эпоху буквально затопляет поток слов. Есть лишь одна обетованная земля – та, которую человек может обрести внутри самого себя.
Говоря это, Эстебан невольно подумал об Оже, который часто приводил высказывание своего учителя Мартинеса де Паскуальи: «На человека только тогда может снизойти истинное просветление, когда он освободит дремлющую в нем божественную искру из-под гнета всего телесного…» Предрассветные лучи уже окрашивали оконные стекла и зеркала гостиной. Было воскресенье, на всех колокольнях звонили к заутрене, а северный ветер с самой зари хлестал по стенам домов. К знакомым Эстебану с самого детства голосам колоколов присоединился теперь мощный бас большого колокола на новом кафедральном соборе. Ночь прошла удивительно быстро – как в ту счастливую пору, когда в доме царил беспорядок. Никто из сидевших в гостиной не спешил уйти спать, все четверо, завернувшись в пледы, которые они один за другим приносили себе, молча оставались в креслах, словно погрузившись в размышления.
– Так вот, мы с тобой не согласны, – внезапно объявила София спокойным, но слегка язвительным тоном, каким она всегда говорила, готовясь вступить в спор.
Эстебан счел уместным осведомиться, кого она имеет в виду под словом «мы».
– Мы все, все трое, – ответила она, округлым жестом указав на себя, мужа и брата и как бы исключая этим Эстебана из семьи.
И, будто говоря только для одной себя, молодая женщина начала длинный монолог, а Карлос и Хорхе только одобрительно кивали головой. Вполне понятно, что жить без политического идеала немыслимо; благоденствие народов не может быть достигнуто сразу; разумеется, были совершены серьезные ошибки, но ошибки эти послужат полезным уроком для будущего; она, конечно, понимает, что Эстебан прошел через тягостные испытания, – и глубоко ему сочувствует, – но он, видимо, оказался жертвой своего неумеренного идеализма; она согласна с тем, что в ходе революции были допущены достойные сожаления эксцессы, однако великие завоевания человечества всегда достигались ценою страданий и жертв. Словом, ничто великое не совершалось на земле без кровопролития.
– Это уже сказал до тебя Сен-Жюст! – крикнул Эстебан.
– Сен-Жюст сказал это потому, что был молод. Как и мы, – ответила София. – Когда я думаю о Сен-Жюсте, меня удивляет зрелость этого юноши, только недавно окончившего коллеж.
Все, что рассказывал кузен, ей было известно, – особенно то, что имело отношение к политике, – и, возможно, известно лучше, чем ему, так как его взгляд на события был пристрастен и ограничен, а порою ему мешали должным образом оценить происходящее всякого рода нелепые пустяки и неизбежные проявления наивности, которые ни в коей мере не умаляли величия титанической попытки.
– Выходит, пребывание в аду ничему меня не научило, ничего не дало?… – снова крикнул Эстебан.
Нет, отчего же, она хотела только сказать, что на расстоянии можно составить более верное – менее пристрастное – представление о происходящих событиях. Она весьма сожалела о великолепных монастырях, подвергшихся разрушению, о прекрасных храмах, погибших в огне, об изуродованных статуях, о разбитых витражах. Однако, по ее мнению, стоило пожертвовать доброй половиной всех средневековых памятников, если того требовало счастье человека. Услышав слова «счастье человека», Эстебан пришел в ярость.
– Берегись! Именно такие вот восторженные глупцы, беспочвенные мечтатели, доверчиво глотающие всякую человеколюбивую писанину, фанатики идеи и воздвигают эшафоты.
– Было бы совсем неплохо, если б мы могли, не медля, воздвигнуть эшафот на площади Де-Армас в нашем глупом и прогнившем городе, – отрезала София.
Да, она бы с удовольствием смотрела, как скатываются с плеч головы бездарных чиновников, землевладельцев, угнетающих своих рабов, спесивых богачей, вояк, кичащихся эполетами, – ведь ими буквально кишел этот остров, которому судьба послала самое жалкое и безнравственное из всех существующих правительств: оно держало его в невежестве и низвело до состояния задворок земного шара, превратило в какой-то ящик для сигар.
– Здесь и впрямь не мешало бы кое-кого отправить на гильотину, – поддержал сестру Карлос.
– И не кое-кого, а многих, – изрек Хорхе.
– Я всего ожидал, – проговорил Эстебан, – но никак не думал найти тут клуб якобинцев.
Ну, это не совсем так, заговорили они в один голос. Но, во всяком случае, они отлично разбираются в происходящем (слова эти снова вывели из себя Эстебана) и полны решимости «не стоять в стороне». А это значит – трезво оценивать события, иметь определенную цель в жизни и найти свое место в быстро меняющемся мире. Некоторое время назад Карлосу удалось наконец основать небольшую масонскую ложу, куда входят не только мужчины, но и женщины, – передовых людей на острове слишком мало, и не следует пренебрегать поддержкой умных и просвещенных дам; члены ложи видят свою политическую задачу в том, чтобы распространять философские сочинения, проникнутые духом революции, а также важнейшие из революционных документов: Декларацию прав человека и гражданина, французскую Конституцию, речи политических деятелей, гражданский катехизис и тому подобное. Они показали Эстебану несколько листовок и тонких книжечек: судя по непривычным очертаниям типографских литер и плохому набору, эти тексты печатались в тайных типографиях где-нибудь в Новой Гранаде или в Гаване, а возможно, даже в Ла-Плате либо в Пуэбла-де-лос-Анхелес. Эстебану были знакомы такие тексты. Они были так хорошо ему знакомы, что по некоторым неповторимым оборотам, по некоторым удачным находкам, по точному эпитету, отыскать который ему стоило немалого труда, он узнавал свои собственные переводы, – он занимался ими по указанию Виктора Юга еще в Пуэнт-а-Литре, а набирали текст отец и сын Лёие. И вот теперь, в эту самую минуту, он опять увидел те же листовки, размноженные печатными станками где-то на Американском континенте…





