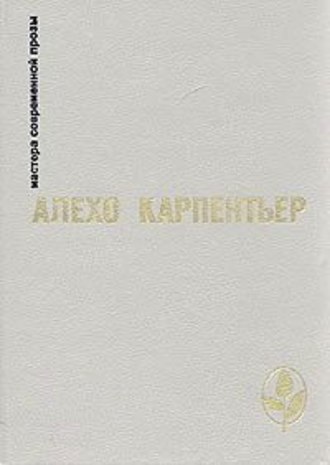
Алехо Карпентьер
Век просвещения
XVIII
Бедствия войны.
Гойя
Кретьен и Виктор Юг отплыли в одной из первых шлюпок, – быть может, желая показать солдатам, что в решительный час комиссары Конвента не менее отважны, чем кадровые военные. Когда французы высадились на берег, грянуло несколько залпов, затем завязалась короткая перестрелка, но мало-помалу выстрелы замерли в отдалении. Спустилась ночь, и все затихло на кораблях, где еще оставались отряды военных моряков и две роты пиренейских стрелков под общим командованием капитана де Лессега. Прошло три дня, но за это время ничего не случилось, по-прежнему ниоткуда не поступало никаких известий. Стремясь усыпить тревогу, Эстебан развлекался рыбной ловлей в компании с типографами, которые поневоле сидели сложа руки. Теперь, когда большая часть солдат покинула корабли, на борту стало так много свободного места, что палубы походили на театральную сцену, какой она бывает после шумного представления. Повсюду свисали концы веревок, валялись брошенные тюки, стояли пустые ящики. Можно было без помех прогуливаться взад и вперед, дремать в тени паруса, съедать свою миску супа где-нибудь в холодке, искать блох на вольном воздухе, играть в карты, не сводя глаз с горизонта, – пока один сдавал, остальные внимательно следили, не появится ли вдали парус вражеского корабля. Все это походило бы на приятный отдых вблизи Наветренных островов, если бы отсутствие новостей не беспокоило солдат. На берег смотреть было бесполезно. Там ничего не происходило. Только какой-то мальчишка выкапывал съедобные ракушки из песка, несколько собак барахтались по брюхо в воде да целое семейство негров проходило, неся на головах огромные узлы, словно переселялось на новое место… Многие на кораблях уже готовились к худшему, когда на рассвете четвертого дня к борту «Фетиды» пристала лодка, и вестовой вручил приказ, предлагавший флотилии направиться в Пуэнт-а-Питр. Республиканцы одержали победу. После недолгой схватки, завязавшейся сразу при высадке, французы осторожно продвигались вперед, но не встречали ожидаемого сопротивления. Виктор Юг приписывал непрерывное отступление английских отрядов страху, который местные поселенцы-монархисты, защищавшие белый королевский штандарт, испытывали перед дерзкой отвагой бойцов, осененных трехцветными знаменами. Экипажи стоявших в гавани торговых кораблей проявили большую твердость духа и с помощью шестнадцати артиллерийских орудий оказали сопротивление французам в форте Флер д'Эпе. Прошедшей ночью Картье и Руже внезапно пошли на приступ этого форта, который защищали девятьсот человек, и, пустив в ход холодное оружие, овладели им. Кретьен, подававший солдатам пример редкого мужества, пал на поле битвы. Англичане, деморализованные победой противника, отступили и укрепились в области Бас-Тер, за Ривьер-Сале, – этот узкий морской пролив, покрытый вдоль берегов мангровыми зарослями, разделяет Гваделупу на две части. Виктор Юг с полуночи находился в Пуэнт-а-Питре и уже осуществлял власть в городе. Восемьдесят семь брошенных в гавани торговых судов попали в руки французов. Склады ломились от товаров. В порту с минуту на минуту ждали прибытия эскадры… Шлюпки перевозили солдат на берег, а корабли тем временем входили в гавань. Всеобщая радость и глубокое удовлетворение охватили людей. Всюду – от трюма до марса – царило веселое возбуждение: солдаты и матросы куда-то карабкались, бежали, двигали вагу, поднимали паруса, свертывали и развертывали брезент, убирали все лишнее. Победа! Хорошо! Но, кроме того, вечером можно будет отведать доброго вина и жаркого из свежей баранины, нашпигованной дольками чеснока; да, вина будет вдоволь, будет и говядина с молодой морковью; вино потечет рекой, появится отличный ром и крепкий кофе, от которого на чашках остается налет; а потом, может, появятся женщины – краснокожие и бронзоволицые, белые и чернокожие, те, что щеголяют в туфельках на высоком каблуке и в кружевных юбках; от всех них пахнет духами, туалетною водой, ароматическими притираниями и, главное, – женщиной. На пристанях звучали песни, приветственные клики, гремело «ура» в честь Республики, песням и кликам вторили с кораблей, и под праздничный гул эскадра вошла в порт в тот памятный день прериаля II года Республики; на носу фрегата «Копье» высилась начищенная до блеска и сверкавшая новизной гильотина, освобожденная от брезента для того, чтобы все ее хорошо видели и внимательно разглядели. Виктор Юг и де Лессег обнялись. А затем вместе направились в старинную резиденцию наместника, – комиссар Конвента разместил там свою канцелярию и подчиненных, – чтобы воздать последние почести Кретьену: покойник лежал в мундире, с перевязью через плечо и в головном уборе с кокардой; черный катафалк был усыпан красными гвоздиками, белыми туберозами и голубыми вьюнками…
Эстебану пришлось сразу отправиться в порт, на таможню. Ему предстояло в тот же день приступить к исполнению своих обязанностей – составлять реестр трофеев, захваченных на вражеских кораблях. В городе повсюду был расклеен декрет об отмене рабства. Патриотов, заключенных в тюрьму богатыми колонистами, которых негры называли «белые начальники», выпустили на свободу. Пестрая и веселая толпа заполнила улицы, приветствуя вновь прибывших. Всеобщее ликование усилилось, когда пришло известие о том, что генерал Дандас, британский губернатор Гваделупы, скончался в Бас-Тере накануне высадки французов. Судьба явно благоприятствовала солдатам Республики. Однако пирушка, на которую рассчитывали моряки в тот вечер, не состоялась: сразу же после полудня капитан де Лессег приступил к работам по укреплению и защите порта, приказав для начала потопить несколько старых кораблей, чтобы преградить вход в гавань, и установить на пристанях пушки, жерла которых смотрели в море… Четыре дня спустя события внезапно приняли дурной оборот. Артиллерийская батарея, расположенная на холме Сен-Жан, по ту сторону Ривьер-Сале, начала планомерный обстрел города. Адмирал Джервис высадил свои войска в Гозье и приступил к осаде Пуэнт-а-Питра. Население охватил ужас; круглые сутки с неба падали снаряды – они обрушивались на город в разных местах, пробивая потолки и перекрытия, разнося вдребезги кровли, так что градом сыпалась красная черепица; отскакивая от каменных стен, от мостовых и тумб, ядра с грохотом катились до тех пор, пока не встречали на своем пути нечто менее устойчивое – колонну, балюстраду или человека, ошеломленного быстротою, с какой неслось на него ядро. В городе все время что-то рушилось, и над ним стоял запах известки, штукатурки, пепла и гари, от которого саднило в горле и щипало глаза. Отскочив от прочной каменной стены, ядро крушило деревянные дома; скатываясь по лестнице, оно разбивало в щепы буфет, набитый бутылками, или лавку горшечника, или, влетев в погреб, заканчивало свой зловещий путь, кроша бочки, либо разрывало на куски тело роженицы. Какой-то снаряд угодил прямо в колокол, и тот рухнул на землю с таким ужасающим грохотом, что медный гул услышали, должно быть, даже вражеские канониры. Все это царство жалюзи, легких ширм, воздушных балконов, ажурных галерей, деревянных стоек, виноградных беседок, устроенное так, чтобы пропускать малейшее дуновение ветерка, служило весьма слабой защитой от разъяренного металла. Каждый выстрел был подобен удару палицы, обрушенному на плетеную клетку, и от попадания снаряда под столом орехового дерева, где искали укрытия обитатели дома, оставалось по несколько трупов. Вскоре распространилась еще одна ужасная новость: на холме Савон англичане установили свою батарею, развели огонь и обстреливали теперь город калеными ядрами. Уцелевшие от обстрела дома загорались. К тучам известковой пыли прибавились дым и пламя. Не успевали потушить один пожар, как в другом месте вспыхивал новый – то загоралась лавка торговца сукнами, то лесопильня, то склад рома. Ром мгновенно вспыхивал и выливался на улицу неторопливым потоком синего пламени, сбегавшего вдоль домов под гору. Многие жилища бедноты были крыты сухими листьями и плетеным волокном, и одно каленое ядро испепеляло чуть не целый квартал. В довершение всего не хватало воды, и с пожарами приходилось бороться при помощи топора, пилы и мачете. То, чего не уничтожили падавшие с неба снаряды, растаскивали дети, женщины и старики. Снизу, оттуда, где на свалках горели всевозможный хлам и нечистоты, поднимались клубы густого черного дыма, и в полдень злосчастный город внезапно погружался в полумрак. То, что, казалось, невозможно было вынести и часу, длилось дни и ночи напролет: непрестанный грохот рушащихся строений сливался с воплями раненых, треск пламени сплетался с грозным шумом, который производили катившиеся по земле предметы; они ударялись друг о друга и о стены, сотрясая их, точно удары тарана. Чудилось, что бедствия достигли предела, что худшего нельзя себе и представить, а между тем разрушения и жертвы росли с каждым днем. Троекратная попытка заставить замолчать сеющие смерть батареи потерпела неудачу. Скончался генерал Картье, силы которого были подорваны бессонницей, нечеловеческой усталостью и непривычным климатом. Генерал Руже, раненный осколком снаряда, агонизировал в одном из залов здания, превращенного в военный лазарет. Из различных подземелий и тайных укрытий вышли на свет монахи-доминиканцы, они, как призраки, возникали у изголовья страдальцев, поднося им микстуру или отвар. При создавшихся обстоятельствах никто не обращал внимания на их монашеское платье: люди принимали уход и помощь, а затем появлялось и распятие, и священный елей. Это контрабандное проникновение религии шло успешнее всего там, где особенно свирепствовала гангрена, где гноились раны, и не было недостатка в людях, которые, почуяв приближение смерти, срывали с себя кокарду и молили об отпущении грехов…
К бесчисленным невзгодам прибавились теперь муки жажды. Несколько трупов упало в водоемы, и пользоваться зараженной водой было нельзя. Солдаты кипятили морскую воду и приготовляли солоноватый кофе, в который они клали очень много сахара, сдабривая напиток спиртным. Водовозы, обычно доставлявшие в город воду в бочках, которые грузили в лодки или на двуколки, не могли попасть к близлежащим речушкам из-за артиллерийского обстрела. Улицы кишели большими крысами, они шныряли среди обломков, проникая всюду; на город обрушилось еще одно бедствие – из ветхих деревянных домов, превращенных в руины, выползали серые скорпионы, вонзая смертоносные жала во всякого, кто оказывался рядом. От многих кораблей в гавани остались только плавучие остовы из обгорелых досок. Смертельно раненная «Фетида» накренилась, мачты ее рухнули, а корпус походил на призрачный скелет. На двадцатый день осады началась эпидемия кишечных заболеваний. Смерть уносила людей в несколько часов, могло показаться, будто жизнь уходит из них вместе с извергавшейся пищей. Хоронить покойников подобающим образом не было возможности, и трупы закапывали где придется: у подножия дерева, в какой-либо яме, возле отхожих мест. Несколько ядер упало на старое кладбище, кости из взрытых могил были выброшены на поверхность земли и валялись среди пробитых надгробных плит и вывороченных из почвы крестов. Виктор Юг вместе с последними еще остававшимися в живых старшими офицерами во главе отборных отрядов удерживал холм Губернатора, – эта возвышенность господствовала над городом, на ней стояла каменная церковь, обнесенная прочной оградой… Эстебан, подавленный и ошеломленный, неспособный думать ни о чем, кроме грозных бедствий, продолжавшихся уже почти месяц, проводил дни и ночи в наспех устроенном им самим укрытии – в своеобразной траншее, которую он проложил в груде мешков с сахаром, занимавших большую часть портового склада, где бомбардировка настигла его за описью товаров. Возле Эстебана, по его примеру, отец и сын Лёйе проделали в груде мешков углубление побольше и перетащили туда часть оборудования типографии, в первую очередь ящики со шрифтом, который в здешних местах раздобыть было бы почти невозможно. Добровольные узники не страдали от жажды, так как неподалеку нашлось несколько бочек вина, и они осушали целые кувшины этой тепловатой влаги, когда им хотелось немного освежиться, умерить страх или просто выпить: вино с каждым днем становилось все более терпким и запекалось на губах темно-лиловой корочкой. Старик Лёйе, чей отец был камизаром [78], в эти трудные дни, не таясь, читал захваченную из дому Библию, которую он прежде прятал в ящике с бумагой. Когда снаряды падали по соседству, старик, осмелевший от выпитого вина, выкрикивал из глубины своей пещеры какой-нибудь стих Апокалипсиса. И фразы, которые в пророческом бреду начертала рука Иоанна Богослова, удивительным образом перекликались с тем, что происходило вокруг: «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела».
– Неслыханные деяния нечестивцев, – со стоном восклицал типограф, – привели к концу света.
Батареи адмирала Джервиса отождествлялись в его представлении с яростным гневом могучих древних богов.
XIX
Однажды утром вражеские батареи замолкли. Люди расправили плечи; лошади перестали прядать ушами; то, что неподвижно лежало на земле, так и осталось в неподвижности, но уже больше не подскакивало от взрывов. Стало слышно, как плещется вода в гавани, и звон стекла, разбитого на сей раз мальчишкой, напугал людей, которые отвыкли от столь слабых звуков. Оставшиеся в живых выползли на свет божий из своих нор, пещер, зловонных укрытий, они были перемазаны копотью, грязью, нечистотами, их раны и язвы были кое-как перевязаны заскорузлыми бинтами. И вскоре все узнали, что произошло почти чудо: позапрошлой ночью Виктор Юг, которому сообщили, что англичане уничтожили французские передовые посты и начали просачиваться в город, спустился со своими отрядами с холма Губернатора и с такой отчаянной яростью ударил по врагу, что британские части были сначала оттеснены, а затем обращены в бегство; им пришлось вновь перейти Ривьер-Сале и остановиться в укрепленном лагере Бервиль, возле города Бас-Тер. После этой победы в руках французов оказалась половина острова… В полдень на улицах появились первые водоносы, и на них буквально набросилась толпа людей в лохмотьях, вооруженная котелками, ведрами, тазами, чанами. Люди пили прямо из бочек, рядом с домашними животными, которые отталкивали их мордами, пили, до ушей погружая лицо в воду, захлебывались, лакали воду и извергали ее обратно, так как слишком жадно заглатывали, воровали друг у друга кувшины, – словом, стоял такой шум и суматоха, что некоторых приходилось даже усмирять прикладами. Утолив жажду, солдаты и местные жители принялись расчищать главные улицы, вытаскивать из-под обломков трупы. Время от времени вражеский снаряд еще падал на город, убивая прохожего, разрушая оконную решетку, разбивая скульптурное украшение. Но после страданий, пережитых за эти четыре ужасные недели, никто не обращал внимания на такие пустяки. Стало известно, что генерал Обер, последний из числа старших офицеров экспедиционного корпуса, умирает от желтой лихорадки. Таким образом, Виктор Юг становился единственным властелином доброй половины Гваделупы. Призвав отца и сына Лёйе в свой кабинет, где оконные стекла вылетели из рам, а обгоревшие занавеси свисали, как траурные полотнища, он продиктовал им текст приказа, который надлежало немедленно размножить: этим приказом в городе вводилось осадное положение и создавалось ополчение в две тысячи человек, которых следовало набрать среди цветного населения, способного носить оружие. Кроме того, объявлялось, что всякий, кто станет распространять ложные слухи, или выкажет себя врагом свободы, или попытается перейти в Бас-Тер, будет казнен по приговору военно-полевого суда; истинных патриотов призывали сообщать властям о каждом изменнике. Особым декретом капитан Пеларди был произведен в дивизионные генералы и назначен главнокомандующим французских вооруженных сил, размещенных на острове, а майор Будэ получил чин бригадного генерала, ему было поручено обучать и муштровать отряды, набранные из местных жителей… Эстебан дивился той энергии, какую выказывал комиссар Конвента со дня высадки на Гваделупе. Виктор Юг был прирожденным военачальником, и к дару командовать присоединялось его необыкновенное везение. Как нельзя более кстати для него оказалась гибель Кретьена, Картье, Руже и Обера, умерших один за другим. Смерть унесла всех тех, кто в какой-то мере мог противостоять ему. Отныне напряженность, то и дело возникавшая прежде между военным командованием и гражданской властью, перестала существовать. Юг, которому не раз приходилось вступать в резкие споры с генералами экспедиционного корпуса, которые кичились своим чином, расшитыми мундирами, военным опытом и былыми победами, теперь опирался на двух преданных помощников, и они, помимо всего прочего, знали, что от него зависит, утвердит Конвент их новое назначение или нет… В ту ночь вино в городе лилось рекой, и солдаты, у которых сохранилось достаточно сил, спешили вознаградить себя за долгое воздержание. Комиссар Конвента был весел, остроумен, разговорчив, он был душой офицерской пирушки, на которой присутствовали Эстебан и оба типографа. Прислуживавшие за столом мулатки разносили на подносах пунш и ром, при этом они не сердились, когда их невзначай обнимали за талию, щипали или даже забирались под юбку. Между тостами Виктор Юг объявил, что холм Губернатора будет переименован в холм Победы, а площадь Сартин, откуда так хорошо было любоваться гаванью, станет отныне именоваться площадью Победы. Что касается Пуэнт-а-Питра, то было решено, что в будущем он получит название «Порт Свободы». («Его по-прежнему будут называть Пуэнт-а-Питр, – подумал Эстебан. – Точно так же, как Шовен-Драгон останется для всех Сен-Жан-де-Люз».) Во время десерта – а к нему приступили уже на рассвете – Эстебан вместе с другими услышал из уст служанки, которую попросили спеть, меланхоличные куплеты, сочиненные маркизом де Буйе, двоюродным братом Лафайета. В ранней молодости маркиз был губернатором Гваделупы; отозванный во Францию двадцать четыре года назад, он, покидая остров, написал на местном диалекте грустную песенку, и ее с тех пор пели все здешние жители:
«Прощай, фуляр, прощай, Мадрас,
Прощай, колье, прощай, браслет, —
Уехал милый мой дружок,
Ему, увы, возврата нет.
День добрый, сударь! Я с мольбой
Пришла к вам, голову склоня:
Верните милого домой,
Пускай он радует меня».
«Мне, барышня, вас очень жаль,
Но не могу его вернуть:
Корабль уже уходит вдаль,
На родину он держит путь».
Эстебан, захмелевший от выпитого пунша, поднялся со своего места: ему не давало покоя навязчивое желание во что бы то ни стало произнести тост в честь «милой девицы» со столь приятным голосом; однако при этом он настаивал, что обращение «сударь» и «барышня» должно быть выброшено из песни, ибо оно не отвечает демократическому духу, вместо него следует петь: «гражданин губернатор» и «гражданка». Виктор Юг бросил на юношу хмурый взгляд и жестом оборвал рукоплескания, которыми было встречено это проникнутое республиканским пылом предложение. Теперь уже все приглашенные запели хором новую песенку Франсуа Жируэ «J'ai tout perdu et je m'en fous» [79], которая как нельзя больше перекликалась с только что одержанной победой:
На стол мне прежде подавали
Цыплят и жирных каплунов,
Хлеб был вкуснее пирогов,
Хлеб был вкуснее пирогов.
Теперь война, и я пощусь,
Пайком солдатским обхожусь.
И все же громко мы поем:
«Георг, Британии тиран,
Позор вкушает, мы ж, друзья,
Напиток славы пьем!»
Когда рассвело, обнаружилось, что все спят в креслах вокруг стола, на котором виднелись недопитые бокалы, подносы с фруктами и остатки жаркого; один только комиссар Конвента, стоя в своей комнате перед раскрытым окном, уже энергично растирался губкой, беседуя с цирюльником, точившим бритву…. Но вот заиграли зорю, и к восьми часам утра под дробный перестук молотков площадь Сартин, – впрочем, теперь уже бывшая площадь Сартин, – украсилась праздничными шестами, флажками, гирляндами, аллегорическими изображениями; оркестр пиренейских стрелков в парадной форме без перерыва исполнял революционные марши – звенела медь, и грохотали барабаны. Плотники сооружали помост, откуда представители властей должны были руководить торжественной гражданской церемонией, возвещенной глашатаями. Заслышав необычный утренний концерт, люди покидали полуразрушенные дома и толпами стекались на площадь. Эстебан возвратился в портовую таможню, где стояло его ложе, он пытался унять сильную головную боль уксусными компрессами и ложками глотал ревень, чтобы успокоить печень; он даже вздремнул часок в ожидании торжественной церемонии, которая – он недаром прожил некоторое время в Париже и потому знал это – непременно начнется с опозданием. Было часов десять, когда юноша пришел на площадь, уже запруженную шумной и живописной толпою, словно забывшей о недавних бедствиях. На помосте появились представители гражданских и военных властей во главе с Виктором Югом, генералами Пеларди и Будэ и командующим флотилией де Лессегом. Люди теснились, желая получше разглядеть новых властителей, которых они впервые видели в парадном одеянии, и на площади воцарилась тишина, – ее нарушали только голуби, хлопавшие крыльями в соседнем дворе. Медленно обведя взглядом собравшихся, комиссар Конвента начал речь. Он поздравил вчерашних рабов с тем, что они стали отныне свободными гражданами. С похвалой отозвался о мужестве, которое население города выказало в дни ужасных бомбардировок, воздал должное доблести павших и закончил вступительную часть своей речи взволнованным надгробным словом, посвященным памяти Кретьена, Картье, Руже и Обера, который скончался в военном лазарете за полчаса до начала празднества, – при этом Юг гневным жестом указал на здание лазарета, как бы угрожая смерти, истребляющей лучших из лучших. Затем Виктор произнес несколько слов о Христофоре Колумбе, который во время своего третьего путешествия в Америку открыл этот остров, населенный простодушными и счастливыми людьми, жившими здоровой жизнью, какая и должна быть естественным состоянием человеческих существ; Колумб назвал остров по имени своего корабля. Но одновременно с первооткрывателем сюда прибыли христианские священники, проповедники фанатизма и мракобесия, которое точно проклятие тяготеет над миром с тех пор, как апостол Павел распространил ложное учение иудейского пророка Иисуса, сына римского легионера по имени Пантер: ведь все, что касается Иосифа и яслей, – чистая легенда, опровергнутая философами. Указав рукой на холм Губернатора, комиссар объявил, что находящаяся на нем церковь будет снесена, дабы уничтожить всякий след идолопоклонства, а священники, которые, по его сведениям, еще прячутся в окрестностях Ле-Муль и Сент-Анн, должны будут принести присягу на верность Конституции…
Эстебан, внимательно следивший за красноречивыми жестами смазливой мулатки, головной платок которой был завязан тремя замысловатыми узлами, означавшими: «и для тебя в моем сердце найдется местечко», – этот своеобразный язык был понятен каждому жителю острова, – весь ушел в созерцание выразительных ужимок молодой женщины, то подносившей пальцы к браслетам, то поводившей плечами, отчего приходила в движение ее призывно темневшая спина, и рассеянно прислушивался к речи Юга, который в эту минуту объявлял о переименовании площади Сартин в площадь Победы. Громкий металлический голос Виктора доходил до него как бы порывами, особенно когда оратор повышал тон, желая подчеркнуть важный вывод, определение свободы или какое-либо классическое изречение. Речь Виктора, бесспорно, отличалась красноречием и силой. Но она мало гармонировала с настроением собравшихся на площади мужчин и женщин: они пришли сюда как на празднество, им хотелось развлечься, потолкаться среди людей, и временами они переставали улавливать мысль оратора, потому что язык Виктора – благодаря южному акценту, который он ко всему еще подчеркивал, словно гордился им, как дворянским гербом, – сильно отличался от сочного диалекта жителей острова. Но вот комиссар подошел к концу своей речи: он обрушился на Вест-Индскую компанию и «белых начальников» с Гваделупы и объявил, что борьба еще не окончена, что необходимо сокрушить англичан, засевших в Бас-Тере, и что скоро он начнет решительное наступление, – оно принесет мир стране, навсегда освобожденной от рабства. Юг говорил ясно, взвешивая каждое слово и не злоупотребляя ораторскими приемами; собравшиеся уже встретили рукоплесканиями заключительную фразу комиссара Конвента, увенчанную выдержкой из Тацита, но в эту минуту де Лессег заметил, что какое-то судно вошло в гавань и направилось к ближайшему причалу. Впрочем, жалкий вид корабля не внушал никакой тревоги: то было ветхое двухмачтовое суденышко, потрепанное, облезлое и грязное, с парусами из кое-как сшитой мешковины; оно походило на призрачный корабль из рассказов о кораблекрушениях. Суденышко пристало к берегу, и в толпе тотчас же возникла суматоха: к помосту, где стоял комиссар Конвента, приближались люди с изуродованными руками и ушами, беззубые, хромые; кожа у них серебрилась от шелушащихся волдырей. Это были прокаженные с острова Дезирад, они пожелали принести присягу на верность Республике. Виктор Юг торжественно назвал их «больными гражданами», вручил им трехцветную перевязь и заверил, что вскоре посетит остров прокаженных, дабы узнать нужды больных и облегчить их страдания. После этого неожиданного происшествия, которое еще больше упрочило зарождавшуюся популярность комиссара Конвента, Виктор, провожаемый приветственными возгласами и рукоплесканиями, которые заставляли его несколько раз возвращаться на помост, удалился в свою канцелярию в сопровождении генералов и старших офицеров. В безоблачном небе внезапно появилось ядро, выпущенное вражеской батареей, оно пронеслось над толпой и, никому не причинив вреда, врезалось в воду бухты. Над городом все еще плавал запах тления. Однако к вечеру зацвели лимонные деревья. И это было Возрождением дерева после долгой Тризны Мрака.





