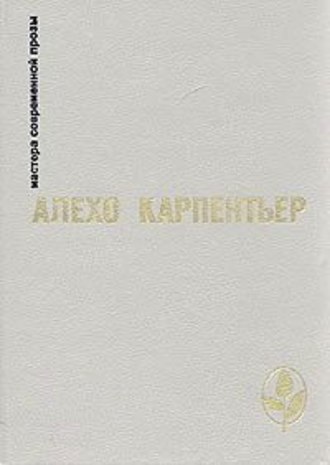
Алехо Карпентьер
Век просвещения
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Пользуются случаем.
Гойя
XXIV
Гремели пушки, звучали торжественные марши, реяли на ветру трехцветные знамена – небольшие эскадры одна за другой покидали гавань Пуэнт-а-Питра. В последний раз проведя ночь с мадемуазель Аталией и яростно искусав ее грудь, ибо кипевшая в нем злоба еще не утихла, Эстебан задал любовнице такую трепку за доносы и наушничество, что ягодицы у нее покрылись синяками, – у молодой мулатки было очень красивое тело, и обезображивать его у юноши просто не поднималась рука; она рыдала, раскаивалась и, быть может, впервые была в него по-настоящему влюблена. Аталия помогла Эстебану одеться, величая его при этом «Mon doux seigneur» [86], и теперь, стоя на корме брига, который уже оставил позади островок Кошон, молодой человек смотрел на все более удалявшийся город с чувством облегчения. Эскадра, состоявшая из двух небольших кораблей и одного покрупнее, на котором и предстояло плыть Эстебану, показалась ему, по правде говоря, слишком слабой и жалкой для того, чтобы сражаться с крепкими люгерами англичан и с их узкими, стремительными куттерами. И все же это было лучше, чем оставаться в неистовом мире, который создал Виктор Юг, решивший во что бы то ни стало возвеличить себя и сделаться незаурядной личностью, Юг, которого в американских газетах уже именовали «Робеспьером Антильских островов»… Теперь Эстебан дышал полной грудью, как будто спешил очистить свои легкие от миазмов. Эскадра выходила в открытое море, а дальше лежал безбрежный океан, океан опасных одиссей. Чем больше корабли удалялись от берега, тем синее становилось море, и вся жизнь теперь подчинялась его ритму. На борту установился строгий распорядок, каждый занимался своим делом: баталер не вылезал из провиантской камеры, плотник менял уключины на шлюпке, этот смолил дно, тот регулировал ход часов, а кок изо всех сил старался, чтобы мерлан, выловленный для закуски, был подан ровно в шесть часов на офицерский стол и чтобы дымящаяся похлебка из порея, капусты и батата была разлита в миски матросов еще до того, как на небе вспыхнут багровые краски заката. В первый же день все почувствовали себя так, словно вернулись к нормальному существованию, к повседневной размеренной жизни, которую не нарушал устрашающий стук гильотины, – удаляясь от всего преходящего и беспорядочного, они приобщались к миру неизменному и вечному. Отныне они станут жить без парижских газет, не будут читать защитительные речи и протоколы дознаний, не будут прислушиваться к ожесточенным спорам; вместо этого им предстоит созерцать солнце, беседовать со светилами, вопрошать горизонт и Полярную звезду… Едва только «Друг народа» вышел на морской простор, как неподалеку показался молодой кит, выбрасывавший вверх струю воды со щедростью водомета; решив, что один из кораблей собирается напасть на него, гигант в испуге нырнул в глубину. И в волнах, казавшихся при вечернем освещении почти фиолетовыми, Эстебан еще долго различал его огромный силуэт и густую тень на поверхности моря – кит походил на какое-то допотопное животное, которое заплыло в чуждые ему широты и вот уже много веков блуждает тут…
Несколько дней на горизонте не показывался ни один корабль, и маленькая эскадра, состоявшая из брига и двух меньших кораблей – «Декады» и «Аврала», казалось, не столько готовилась к наступательным операциям, сколько совершала увеселительную прогулку. Суда бросали якорь в небольших бухтах, паруса убирали, и матросы высаживались на берег: одни рубили дрова, другие собирали съедобные ракушки – ракушек этих было так много, что их находили даже глубоко в песке, – и все, пользуясь случаем, бродили среди тянувшихся вдоль моря зарослей либо купались в тихих заливах. Ранним утром вода была такая ясная, прозрачная и свежая, что Эстебан испытывал физическое наслаждение, походившее на то, какое испытывает чуть захмелевший человек. Барахтаясь в неглубоком месте, там, где он доставал ногами дно, юноша учился плавать и, когда наступала пора возвращаться на берег, никак не мог решиться вылезти из воды; он чувствовал себя настолько счастливым, до такой степени окутанным и пропитанным ярким светом, что нередко, вновь оказавшись на суше, спотыкался и пошатывался, как пьяный. Эстебан называл это «опьянением водой», он подставлял свое обнаженное тело лучам восходящего солнца, лежал ничком на песке или опрокидывался на спину, широко разбрасывал руки и ноги, и на лице у него появлялось такое восторженное выражение, что он походил на мистика, испытывающего блаженство от созерцания несказанной красоты. Порою, движимый незнакомой ему прежде энергией, которую пробуждал в нем новый образ жизни, юноша подолгу гулял среди утесов: он карабкался на них, перепрыгивал со скалы на скалу, шлепал босыми ногами по воде и восторгался всем, что видел вокруг. У подножия каменных громад находили себе пристанище веточки звездчатых кораллов, пятнистые и поющие раковины Венеры, изысканной формы улитки, спиральные и остроконечные раковины которых вызывали в памяти башни готических соборов. Встречались здесь и блестевшие, как стеклянные бусы, колючие багрянки, брюхоногие моллюски, похожие на веретено, – словом, целый сонм морских животных, обитающих в раковинах, которые под скромной известковой оболочкой скрывают великолепные, отливающие янтарем недра. Морской еж ощетинивал свои темно-лиловые иглы, пугливая устрица захлопывала створки раковины, морская звезда, почуяв шаги человека, сжималась, а губки, налипшие на подводную часть утеса, искрились на свету. В этом удивительном море вокруг Антильских островов даже булыжники на дне океана казались изысканными и поблескивали, как парча; одни были безукоризненно круглые, словно их обтачивали на шлифовальном станке; другие обладали причудливой формой – как будто под влиянием внутренних сил самой материи готовы были прийти в движение; некоторые были вытянуты в струну и заострены, иные смахивали на стрелы. Встречались тут и прозрачные камни, отсвечивавшие алебастром, и камни, похожие на фиолетовый мрамор или на мерцающий под водой гранит, и неказистые камни, покрытые съедобными улитками, – их мякоть, напоминавшую по вкусу водоросли, человек доставал из крохотной темно-зеленой раковины с помощью шипов кактуса. Самые необычайные кактусы, точно часовые, высились на берегах этих безымянных Гесперид, где во время своих опасных морских переходов отдыхали корабли; тут можно было увидеть и высокие зеленые канделябры, и увенчанные зеленым шлемом рыцарские доспехи, зеленые фазаньи хвосты, зеленые сабли и зеленые шишки, колючие арбузы и стелющиеся по земле айвовые деревья, – под обманчиво гладкой оболочкой их плодов таились шипы; словом, то был целый мир, недоверчивый, коварный, всегда готовый ранить обидчика и при этом вечно раздираемый актом рождения красного или желтого цветка: человек может овладеть таким цветком, только уколовшись, а затем, если он сумеет преодолеть новый барьер из жгучих колючек, то доберется наконец и до вожделенного дара – сочных плодов кактуса. Вооруженные до зубов, усеянные острыми, как гвозди, колючками растения, мешавшие взобраться на гребни холмов, где поспевали аноны, как бы повторялись внизу, в кембрийском мире, в виде коралловых лесов: там гнездились переливчатые, пламенеющие золотом деревья с бесконечными и многообразными мясистыми ветками, резными, как кружево, или продырявленными, как сито; они походили на деревья, описанные алхимиками, магами и чернокнижниками, они напоминали крапиву, выросшую на дне морском, или какой-то огнедышащий плющ, и этот причудливый мир подчинялся таким загадочным и сложным законам и ритмам, что утрачивалась всякая грань между недвижным и трепещущим, между растением и животным. В то время как на земле все больше сокращалось число различных зоологических форм, коралловый лес сохранял первые причуды животворящей Природы, первые свидетельства ее буйной расточительности: все эти сокровища лежат на такой глубине, что, желая полюбоваться ими, человек подражает рыбам, – видно, недаром его зародыш в своем развитии проходит через стадию рыб, и человек порою тоскует по жабрам и хвосту, которые позволили бы ему избрать местом своего постоянного жительства великолепные морские пределы. Коралловые леса казались Эстебану осязаемым, близким, но недоступным прообразом потерянного рая, где деревья, которым первый человек на своем неразвитом младенческом языке дал первые, нетвердые названия, наделены кажущимся бессмертием этой пышной флоры, этой дароносицы, этой неопалимой купины: для нее осень и весна знаменовались только изменениями оттенков да легкой игрою теней… С величайшим изумлением Эстебан обнаруживал, что во многих местах море через три века после открытия Америки только-только начинало выбрасывать на берег отшлифованное стекло, стекло, давно изобретенное в Европе, но в те далекие времена неизвестное в Новом Свете: бутылки, флаконы, графины, форма которых не была еще знакома обитателям здешнего материка; попадались тут и зеленые стекла с матовыми пятнами и пузырьками; и тонкие осколки витражей, предназначенных для строившихся в ту далекую пору кафедральных соборов, витражей, с которых вода смыла сцены, взятые из жития святых; и стекла, уцелевшие во время кораблекрушений – выброшенные на океанский берег, они казались загадочными и новыми, волны все дальше выносили их на сушу, отполировав с таким искусством, словно это сделал шлифовальщик или ювелир: их потускневшим граням вновь возвращался блеск. Эстебану встречались совершенно черные береговые откосы, усыпанные мельчайшими частицами аспида и мрамора, – под солнечными лучами они вспыхивали тысячью искр: и желтые переливающиеся откосы, на которых каждый морской прилив оставлял свои узоры, а потом стирал их и вновь рисовал; и белые, такие белые, столь ослепительно-белые откосы, что каждая песчинка на них казалась пятном; то были обширные кладбища, где покоились ракушки, – разбитые, раздавленные, расплющенные, раздробленные, превращенные в мельчайшую пыль, она просачивалась сквозь пальцы, как вода, которую не удержать в горсти. Было Удивительно обнаруживать во множестве этих океанид гнездившуюся повсюду жизнь, жизнь лепечущую, пробивающуюся, цепкую: она продолжалась и на источенных водою утесах, и на плывущих по морю древесных стволах, и трудно было разобраться в том, что же принадлежит тут растительному царству, а что животному, что принесено, прибито к берегу волнами, а что движется по собственной воле. Здесь иные рифы сами себя создавали и выращивали; скала становилась больше; погруженная в воду каменная громада на протяжении тысячелетий совершенствовала свою форму, – а вокруг кишели рыбы-растения, грибы-медузы, мясистые морские звезды, блуждающие водоросли, папоротники, которые в разное время дня окрашивались в шафрановый, синий или пурпурный цвет. На стволе мангрового дерева под водой вдруг появлялась пыльца, напоминавшая муку. Белые крупинки превращались в тонкие, как пергамент, листочки; листочки эти затвердевали, набухали и становились чешуйками, которые, точно пиявки, присасывались к дереву, а позднее в одно прекрасное утро на нем появлялись устрицы в жемчужно-серых ракушках. Моряки ударами мачете отрубали от ствола ветви, усеянные устрицами, и приносили их на корабли; то были невиданные растения, покрытые морскими ракушками, одновременно ветви и гроздья, пучки листьев, пригоршни раковин и кристаллов соли, и никогда еще, пожалуй, люди не утоляли голод яствами более необычными и причудливыми. Пожалуй, ни один символ не передает лучше сущность моря, чем античный миф о нереидах, прекрасных обитательницах морских глубин; они приходили на память при взгляде на нежную плоть устриц, выглядывавших из розовой полости раковин-крылоножек, в которые вот уже много веков дуют гребцы архипелага; прикладывая губы к раковине, они извлекают из нее чуть хриплый звук, напоминающий пение трубы, рев Нептунова быка – солнечного зверя, – разносящийся над безбрежными просторами, открытыми лучам дневного светила…
Переносясь в мир симбиоза, окунаясь по шею в морские колодцы, где вода вечно клубится и пенится, так как в эти ямы все время низвергаются укрощенные волны, разбитые, растерзанные, раздробленные от ударов о грозный, ощерившийся каменными клыками утес, Эстебан с удивлением замечал, что жителям островов приходилось прибегать к агглютинации, к словесному сплаву и метафоре, чтобы передать двойственность форм причудливых существ, принадлежавших к различным породам и видам. Здесь некоторые деревья и растения имели сложные названия: «акация-браслет», «ананас-раковина», «дерево-ребро», «веник-десятка», «клевер-коротышка», «орех-кувшин», «душица-облако», «дерево-ящерица»; подобно этому, многие морские существа получали составные названия, причем для того, чтобы передать их образ, приходилось соединять самые несочетаемые слова: так возникала фантастическая зоология, где встречались рыбы-собаки, рыбы-быки, рыбы-тигры, рыбы-хрипуны, рыбы-свистуны, летучие рыбы, рыбы с красными хвостами, рыбы пятнистые, рыжие, как бы татуированные, рыбы со ртом на спине или с пастью посреди туловища, рыбы с белым брюхом, рыбы-мечи и колоснянки; встречались тут даже рыбы, прозванные «охотниками за мошонками», – известны были случаи, когда эти рыбы впивались в срамные места мужчин, – и травоядные рыбы, и песчаные мурены все в красных крапинках, особенно ядовитые, когда они наглотаются плодов мансанильо, не говоря уже о рыбе-старухе, рыбе-капитане с блестящей, отливающей золотом чешуею вокруг головы, и о рыбе-женщине – таинственной и пугливой морской корове, которую можно увидеть в устьях рек, где смешиваются соленые и пресные воды, – эти рыбы с повадками женщины и грудью сирены весело резвятся, справляя свадьбы на подводных пастбищах. Однако самым несравненным зрелищем – веселым, гармоничным и грациозным – были игры дельфинов, которые выскакивали из воды вдвоем, втроем, а иногда и целыми дюжинами или, сливаясь с волною, подчеркивали контурами своих тел ее прихотливые очертания. Вдвоем, втроем или целыми дюжинами дельфины как бы водили хороводы: неотделимые от волн, они живут их движениями, с такой точностью повторяя все паузы, взлеты, падения и новые паузы в беге морских валов, что чудится, будто они катят на себе эти волны, подчиняя их определенному темпу и такту, ритму и последовательности. Затем дельфины пропадали из виду, исчезали вдали в поисках новых приключений, пока встреча с каким-нибудь кораблем или лодкой вновь не приводила в волнение этих морских танцоров, которым, казалось, были знакомы только прыжки да пируэты, как бы подтверждавшие мифы, сложенные о них…
Иногда над водами воцарялась гробовая тишина, словно предвещая необычайное Событие, и оно совершалось: на морской поверхности – будто посланец минувших эпох – появлялась гигантская, неповоротливая, допотопная рыба, которую собственная медлительность держала в вечном страхе; ее уродливую голову, состоявшую из пасти и маленьких глазок, едва можно было различить на массивном туловище, кожа чудища была покрыта водорослями и паразитами, как давно не чищенный корпус корабля; морское чудовище, раздвигая мощной спиною бурлящие волны, всплывало на поверхность торжественно, как поднятый со дна галион, как патриарх пучины, как Левиафан, извлеченный на свет божий, и вода вокруг пенилась: эта гигантская рыба показывалась над морской гладью, быть может, только во второй раз с той поры, как в этих местах впервые появилась астролябия. Толстокожая громадина приоткрывала свои маленькие глазки и, заметив поблизости утлый рыбацкий челнок, вновь погружалась в воду, охваченная тревогой и страхом, – она спешила вернуться в спасительное одиночество глубин, чтобы переждать там еще век-другой и только затем опять подняться в мир, полный опасностей. Событие завершалось, и обитатели моря вновь возвращались к своим повседневным делам. Морские коньки копошились в песке, покрытом морскими ежами, сбросившими с себя утыканную иглами кожу: высыхая, она походила на шар такой правильной формы, что его можно было свободно представить себе на гравюре Дюрера «Меланхолия»; чешуя рыбы-попугая переливались на солнце, а тем временем рыба-ангел и рыба-дьявол, рыба-петух и рыба святого Петра исполняли каждая свою роль в торжественной мистерии, свершавшейся на великом театре Вселенского Пожирания, где каждый поедал другого, ибо все тут от века тесно переплетены, спаяны друг с другом и всем уготована одинаковая участь – жизнь в изменчивой стихии…
Некоторые острова были очень узкие, и Эстебан, стараясь забыть о том, что происходило вокруг, в одиночестве отправлялся на противоположный берег, где чувствовал себя полновластным господином: ему безраздельно принадлежали раковины, в которых шумел прилив; принадлежали ему и морские черепахи с топазовыми панцирями, – они прятали свои яйца в ямках, вырытых в песке, а затем старательно закапывали их и разравнивали теплый песок чешуйчатыми лапами; принадлежали Эстебану и великолепные синие камни, которые сверкали на девственных песчаных отмелях, где никогда не ступала нога человека. Принадлежали ему также и пеликаны, совсем не боявшиеся людей, – ведь они их почти не знали; птицы эти степенно летали над лоном вод: важность им придавал раздутый кожистый мешок, они то резко взмывали вверх, то камнем обрушивались вниз, вытянув вперед клюв, на который давила вся тяжесть тела, и сложив крылья, чтобы ускорить свой стремительный полет. Заглотав добычу, пеликан с торжеством вскидывал голову и начинал весело шевелить хвостовыми перьями в знак удовольствия, словно вознося к небу благодарственную молитву, после чего продолжал над самым морем волнообразный полет, который повторял движение морских валов, подобно тому как его повторяли головокружительные прыжки дельфинов. Сбросив с себя одежду, Эстебан растягивался на песке, таком мелком, что самое крохотное насекомое оставляло на нем следы своих лапок: юноше чудилось, будто он один в целом мире, и он весь уходил в созерцание светящихся, почти неподвижных облаков, которые так медленно меняли свою форму, что порою с утра до вечера походили все на ту же самую триумфальную арку или на голову пророка. Полное счастье вне времени и пространства! «Те Deum…» В другой раз, касаясь подбородком свежего листа винограда, он, не отводя глаз, наблюдал за улиткой – одной улиткой, которая высилась, точно памятник, на уровне его бровей, закрывая собою горизонт. Улитка как бы служила посредником между всем изменчивым, ускользающим, текучим, между всем тем, что не подчинялось точным законам и не могло быть измерено, и землею с ее четкими линиями, кристаллической структурой и строгим чередованием явлений, землею, где все можно было ощупать и взвесить. Море, покорное лунным циклам, переменчивое, спокойное или яростное, клубящееся или гладкое, как зеркало, но по природе своей словно бы чуждое коэффициентам, теоремам и уравнениям, породило эти поразительные панцири, которые своими пропорциями и очертаниями символизируют именно то, чего недостает Матери-Земле. В раковине улитки содержатся в зародыше различные сочетания кривых и завитков, подчиненных законам геометрии, конические фигуры удивительной точности, равновесие объемов, почти осязаемые арабески, в них уже угадывается вся причудливая прихотливость барокко. Наблюдая за улиткой – одной улиткой, – Эстебан думал о том, что на протяжении долгих тысячелетий перед взором первобытных народов, живших рыбною ловлей, постоянно находилась спираль, но они еще не способны были не только постичь ее форму, но даже и осознать ее присутствие. Он созерцал похожего на шар морского ежа, спиралевидную раковину моллюска, желобки на раковине святого Иакова и поражался богатству и изощренности Творения форм, открытых невидящему взору человечества, которое не способно было осмыслить то, что представало его глазам. «Верно, и ныне многое вокруг меня приняло четкие и определенные формы, но я не могу постичь их смысл!» – думал Эстебан. Какой знак, какая мысль, какое предупреждение таится в завитках цикория, в немом языке мхов, в строгой форме плода миртового дерева? Созерцать улитку. Одну улитку… Те Deum…
XXV
Когда в первый раз была объявлена боевая тревога, Эстебан не на шутку перепугался и поспешил укрыться в глубине трюма, – положение письмоводителя позволяло ему это; однако вскоре он обнаружил, что каперство – как его понимал командующий эскадрой капитан Бартелеми – в общем-то не было связано с серьезными опасностями. Когда маленькая флотилия встречалась с кораблем, на борту которого стояли мощные орудия, она обходила его стороной, не поднимая флага Республики. Если же захват судна казался делом доступным, легкие суденышки преграждали путь кораблю, а бриг давал предупредительный выстрел. И обычно противник без сопротивления спускал флаг в знак сдачи. Корабли эскадры вплотную подходили к судну, французы прыгали на его палубу и начинали осматривать груз. Если он не представлял большой ценности, корсары забирали все, что имело Для них интерес – не исключая денег и личных вещей перепуганного экипажа, – и переносили на борт брига «Друг народа» то, что могло им пригодиться. После этого униженный капитан вновь получал право командовать судном и продолжал свой путь или возвращался обратно в порт, чтобы сообщить о случившейся беде. Если же груз представлял серьезную ценность, то корсарам надлежало захватить его заодно с кораблем, – особенно когда корабль был в хорошем состоянии, – и отвести вражеское судно вместе с его командой в Пуэнт-а-Питр. Однако до сих пор небольшой эскадре капитана Бартелеми, трофеи которой старательно подсчитывал Эстебан, еще ни разу не пришлось столкнуться с таким кораблем. В этих местах нечасто встречались крупные торговые суда, здешние воды обычно бороздили небольшие парусники, груженные дешевыми товарами, которые никого не занимали. Корсары не затем покинули Гваделупу, чтобы охотиться за сахаром, кофе и ромом, – всего этого и там было в избытке. Однако даже на самых ветхих и убогих судах французы находили для себя поживу: якорь, оружие, порох, плотничий инструмент, канаты, новую карту с полезными пометками – для плавания вдоль побережья Новой Гранады [87]. Кроме того, хорошенько порывшись в сундуках и укромных углах, корсары выискивали для себя и другую добычу. Один забирал две хорошие сорочки и нанковые панталоны, второй – табакерку из эмали или украшенную драгоценными камнями церковную чашу – достояние священника из Картахены; корсары грозились выбросить его за борт, если он не отдаст им «всю обедню» – другими словами, крест и дароносицу, обычно золотые. То были, так сказать, личные трофеи, а потому они не попадали в опись Эстебана, – капитан Бартелеми закрывал на это глаза, так как не желал ссориться со своими людьми, зная, что во времена Республики при столкновении с матросами в проигрыше неизменно оставался офицер, особенно если он, как сам Бартелеми, прежде служил в королевском флоте. Вот почему корма брига «Друг народа» постепенно превратилась в подобие рынка, где происходили купля и обмен различных предметов, разложенных на ящиках или подвешенных на веревках; когда маленькая флотилия бросала якорь в какой-нибудь бухте, чтобы запастись дровами, матросы с «Декады» или «Аврала» являлись на бриг, нередко прихватив с собой вещи для продажи. Чего тут только не было: наряду с платьем, шапками, поясами и косынками встречались черепаховые ларцы для мощей; гаванские халаты с пышными кружевными оборками; ореховая скорлупа, в которой умещался целый свадебный кортеж миниатюрных фигурок в мексиканских нарядах; высушенные рыбы, из пасти которых вместо языка выглядывал кусочек красного атласа; набитые соломой чучела маленьких кайманов; человечки из кованого железа, пляшущие озорной танец кандомбе; шкатулки из ракушек; птицы из леденцов; кубинские и венесуэльские трехструнные гитары; возбуждающие зелья, настоянные на ослиннике или на знаменитых лианах, растущих в Сен-Доменге; было тут множество предметов женского туалета – серьги, ожерелья из стеклянных бус, нижние юбки, набедренные повязки индеанок, а также локоны, перехваченные лентами, изображения голых женщин, непристойные гравюры и даже кукла, наряженная пастушкой: под ее юбками скрывалось миниатюрное шелковистое лоно, выполненное с таким искусством, что все просто диву давались. Владелец куклы заломил за нее неслыханную цену, и матросы, которым она оказалась не по карману, называли его мошенником; Бартелеми, опасаясь, как бы дело не дошло до драки, приказал своему второму помощнику купить фигурку, намереваясь преподнести ее в дар Виктору Югу, – после 9 термидора тот на глазах у всех читал непристойные книги, быть может, желая этим подчеркнуть, что политика Парижа перестала его занимать…
Но однажды матросы эскадры особенно обрадовались: пустившись в погоню за португальским кораблем «Ласточка» и захватив его, они обнаружили внушительный груз спиртного, – в трюмах было столько бочек с белым и красным вином, а также с мадерой, что там пахло, как в давильне. Эстебан поспешил переписать все бочки, чтобы таким образом спасти их содержимое от неутолимой жажды корсаров, которые уже успели завладеть несколькими бочонками и торопливо, захлебываясь, пили вино. Укрывшись в темном прохладном трюме, куда не доносился шум споров и ссор, письмоводитель пил в полном одиночестве из вместительной чаши красного дерева, – он прикасался губами к плотной и свежей древесине, как прикасаются к живой плоти, и аромат, исходивший от чаши, смешивался с запахом вина. Во Франции Эстебан научился смаковать чудесный и древний сок земли: этот сок, струившийся из сосков виноградных лоз, вспоил буйную и пышную средиземноморскую цивилизацию – теперь же цивилизация эта продолжалась в Карибском Средиземноморье, где все еще происходило Великое Смешение народов, начавшееся много тысячелетий назад в приморских странах. Здесь, после долгого периода разобщенности, вновь скрещивались расы, различные говоры и физические типы, вновь встречались потомки затерянных по всему свету племен: на протяжении веков они многократно смешивались друг с другом, цвет их кожи не раз менялся, в одно прекрасное утро она светлела и за одну лишь ночь вновь темнела, возвращаясь к прежнему; бесконечно менялись черты их лица, звук голоса, линии тела; такие же перемены происходили и с вином, которое с финикийских кораблей, из погребов Гадеса, из амфор Маркое Сестиос попало на каравеллы человека, открывшего Америку, – оно попало на эти каравеллы вместе с гитарой и трещоткой, чтобы достичь гостеприимных берегов, где должна была произойти трансцендентальная встреча Оливы и Маиса. Вдыхая запах, поднимавшийся от влажной чаши, Эстебан с внезапным волнением вспоминал старинные патриархальные бочки, стоявшие на складе в Гаване, теперь забытом и таком далеком от его нынешних путей, на складе, где вино капало из кранов с тем же размеренным звуком, какой он слышал сейчас вокруг. И вдруг нелепость жизни, которую он все это время вел, с такой ясностью представилась молодому человеку, – он как бы находился в театре, где разыгрывалось нелепое действо, – что Эстебан прислонился к переборке и застыл в оцепенении, с остановившимся взором, словно с изумлением созерцал самого себя на сцене. Все последнее время море, жизнь, полная приключений и опасностей, почти заглушали в нем его собственное «я», – он испытывал чисто животное удовлетворение, чувствуя себя с каждым днем все более здоровым и сильным. Но теперь, взглянув на себя со стороны, он увидел, что стоит среди бочек с вином в еще вчера незнакомом ему трюме и тщетно пытается понять, что же он, собственно, тут делает. Он искал путь, в котором ему было отказано. Он ждал случая, которому, видно, так и не суждено было представиться. Отпрыск богатой семьи, он исполнял обязанности письмоводителя на корабле корсаров – и само название этой должности звучало нелепо. Не считаясь узником, он оказался им на деле, так как судьба его была отныне связана со страною, против которой боролся весь мир. Словно в кошмарном сне, Эстебан видел самого себя на сцене, где он будто спал наяву, одновременно играя роль судьи и ответчика, будучи сразу и действующим лицом, и зрителем; и все это происходило вблизи островов, походивших на тот единственный остров, куда он не мог попасть; возможно, он обречен всю остальную жизнь вдыхать запахи своего детства, встречать дома, деревья, видеть восходы и закаты, какие он видел в отрочестве (о, эти оранжевые стены, синие двери, гранатовые плоды, свисающие через ограду!), и при этом понимать, что все то, чем он владел в детстве и юности, уже никогда не будет ему возвращено… Однажды вечером в их доме раздался грохот большого дверного молотка, послуживший сигналом к демоническим событиям, – они сразу перевернули жизнь трех человек, которые до той поры были одной семьей; все началось с игры: ее участники тревожили могильный покой Ликурга и Муция Сцеволы; затем возникли кровавые трибуналы, вихрь событий охватил город, остров, несколько островов, целое море, и теперь воля Одного человека, ставшего душеприказчиком Другого человека, которого заставили навеки замолчать, грозно нависала над жизнями многих людей. С того дня, когда появился Виктор Юг, – о нем знали тогда только то, что он ходит с зеленым зонтиком, – юноша, который стоял сейчас посреди бочек и бочонков, перестал принадлежать самому себе: отныне его существование, его будущее полностью зависело от чужой воли… А потому лучше всего было пить, чтобы винные пары затуманили беспощадную ясность сознания, столь мучительную в эту минуту, что ему хотелось кричать. Эстебан подставил чашу под кран и наполнил ее до краев. Наверху матросы вновь подхватили хором песню «Три пушкаря из Оверни».
На следующий день французы высадились на пустынном, поросшем лесом берегу, где, по словам лоцмана с брига «Друг народа», было много диких кабанов; лоцман, сын негра и индеанки, уроженец острова Мари-Галант, пользовался у матросов авторитетом, так как превосходно знал эти места. Он советовал пристать к берегу, где били студеные ключи, – в них можно будет охладить вино, достойной закуской к которому послужит копченая свинина. Вскоре охота была уже в полном разгаре, и некоторое время спустя убитые животные, чьи пятачки все еще были судорожно сжаты, как у всех загнанных кабанов, попали в руки корабельного кока и его помощников. Вооружась ножами для чистки рыбы, повара содрали со свиней черную щетинистую кожу, уложили туши на решетчатые жаровни с раскаленными углями, и пока кабаньи спины зарумянивались на огне, их распоротые животы были широко растянуты деревянными колышками. Затем в эти зияющие отверстия, будто мелкий дождь, заструился сок лимона и померанца, градом посыпались соль, перец, душица и чеснок; в то же самое время над толстым слоем зеленых листьев гуайявы, уложенных на пылающие угли, потянулись завитки белого дыма, пахнущего свежестью полей, – казалось, будто свиное мясо окропляют сверху и снизу; поджариваясь, оно покрывалось тонкой корочкой бурого цвета, которая время от времени лопалась с сухим треском; из длинных трещин жир капал на дно ямы под жаровней, он шипел на углях, вспыхивал искорками, и сама земля издавала запах копченой свинины. Когда кабаны были почти готовы, их открытое чрево набили перепелками, лесными голубями, цесарками и другими только что ощипанными птицами. После этого колышки, державшие края распоротых свиных животов, были убраны, и ребра зажаренных животных сомкнулись над дичью, образовав как бы гибкие духовки, стенки которых сдавили содержимое, так что темное и постное мясо перемешалось со светлым и жирным; словом, как выразился Эстебан, получилось «знатное жаркое» – настоящая «Песнь песней» поварского искусства. Вино текло рекой в чаши и в глотки, – захмелев, матросы разбивали бочки ударами топоров, сбрасывали их со склонов, и, натыкаясь на острые камни, бочки разваливались; выстроившись двумя шеренгами друг против друга, люди яростно катали бочки взад и вперед, пока не лопались обручи, разбивали в щепы, дырявили их выстрелами, а какой-то незадачливый танцор, женоподобный и щуплый, кажется, испанец, плававший на судне «Декада» младшим коком, – по его словам, он был другом свободы, – так усердно отплясывал на бочках цыганский танец, что продавил несколько днищ; все очень много выпили и в конце концов уснули мертвым сном под деревьями или прямо на песке, еще хранившем тепло солнечных лучей…





