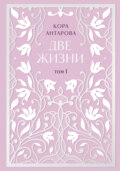Конкордия Антарова
Две жизни. Роман в четырех частях
Должно быть, мой вид и голос вызывали сочувствие; капитан чуть улыбнулся, велел верзиле проводить меня в каюту турок и оставаться при мне, пока не вернется Иллофиллион. Обратившись к турку и Иллофиллиону, он пригласил их следовать за ним.
Казалось, рука капитана задержала и ослабила до минимума удар турка по моей голове; тем не менее я едва шел, сильно опираясь на верзилу, и с большим трудом опустился в кресло. Все плыло перед моими глазами, меня подташнивало, и я сознавал, что едва удерживаюсь от того, чтобы не застонать.
Не могу определить, долго ли я просидел в кресле и где я сидел. Мне чудилось, что снова разыгралась буря, что меня бросает волной, что я вижу чудесное лицо моего дивного друга Флорентийца, склонившегося надо мной…
Я проснулся, чувствуя себя сильным и здоровым, и первое, что я увидел, было бледное, печальное и расстроенное лицо старшего турка, сидевшего подле меня.
– Что-нибудь случилось? – спросил я его, совершенно забыв все предшествовавшие обстоятельства.
– Слава Аллаху! – воскликнул он. – Наконец-то вы очнулись, и я не чувствую себя больше убийцей.
– Как убийцей? Что вы говорите? Почему я здесь? – спрашивал я, видя себя в каком-то новом месте. – Где Иллофиллион? Что же случилось? – продолжал я, пытаясь встать и начиная беспокоиться.
– Ради Аллаха, лежите спокойно и не разговаривайте, – сказал мне турок. – От моего несчастного удара у вас поднялся жар, начались бред и тошнота, и вас перенесли сюда. Здесь же лежит и сын мой, у которого началась гангрена ноги. Три дня Иллофиллион не отходил от вас обоих. Часа три назад он сказал, что вы оба вне опасности и оставил меня подежурить возле вас. Не пытайтесь встать. Вы привязаны ремнями к койке, потому что вам нельзя двигаться. Иллофиллион приказал мне, если вы проснетесь раньше его возвращения, ослабить ремни, но не позволять вам вставать.
Левушка, простите ли вы мне когда-нибудь мою ужасную ошибку? Не в первый раз в жизни я дохожу до полной потери контроля над самим собой. И каждый раз причиной моего бешенства является любовь. Когда капитан хотел посадить меня в карцер за драку на пароходе, я пытался ему объяснить, что любовь к сыну свела меня с ума, и он иронически спросил: «Кому нужна такая любовь, которая несет всюду скандалы и несчастья, вместо радости и красоты жизни?» Я все понимаю. Понимаю сейчас и ужас такого положения, когда сын, мною обожаемый, боится меня, скрывает даже боль свою – значит, он не видит друга во мне…
– Напрасно, отец, ты так думаешь, – раздался внезапно голос с соседней койки. – Я по глупости скрывал от всех свою рану, думая, что все быстро пройдет. Зная, как ты ценишь способность к самообладанию, я хотел просто оберечь тебя от лишнего разочарования в самом себе, потому что хорошо знаю, как сводит тебя с ума всякая тревога за любимых. Именно мое желание быть тебе другом, а не только сыном, заставило меня скрывать от тебя свою рану. Я много раз убеждался, что мои попытки подойти к тебе ближе раздражают тебя, отец. И хотя я сам никогда не теряю самообладания и не повышаю голоса – я не могу доказать тебе свою любовь так, чтобы не раздражать тебя. Только одна мать умеет говорить с тобой в любые моменты жизни…
Молодой турок замолчал, и на лице его, которое мне теперь было хорошо видно, появилось мечтательное выражение, а в глазах блеснули слезы. Очевидно, образ матери, перед которой он благоговел, унес его мысль куда-то далеко в воспоминания.
Я представил себе, каково было этой женщине прожить свою жизнь рядом с такой пороховой бочкой, какой был ее муж. Я невольно сравнил свою манеру поведения с его характером и понял, глядя со стороны, как тяжелы в простой обиходной жизни такие невыдержанные, невоспитанные люди.
Я стал «Левушкой – лови ворон», мысль моя улетела в неведомые дали. Я представил себе никому не известную женщину, сумевшую – среди ежедневного хаоса и бурь страстей – воспитать сына таким выдержанным, каким был молодой Ибрагим. «Кто она, его мать?» – подумалось мне.
– Мать, мать! – прозвучал в этот момент печальный голос старшего турка. – Ах, если бы ты знал, сынок, сколько выстрадала твоя мать в молодости от моих буйств ревности! Сколько раз я грозил ей ножом! Но в ней никогда не было страха; она только защищала тебя и старалась, чтобы ты ничего этого не видел.
Внезапно резко открылась дверь. Я увидел вошедших капитана и Иллофиллиона. Оба они были по обыкновению энергичны, но их лица были непривычно бледны и суровы. Иллофиллион склонился ко мне и ласково спросил:
– Слышишь ли ты меня, Левушка?
Я улыбнулся ему, хотел пожать его руки в ответ на его прикосновение, но ремни мешали мне пошевелиться. Мне казалось, что я громко засмеялся, когда ответил ему: «Слышу». На самом деле я едва вымолвил это слово и чувствовал себя очень утомленным.
– Левушка, ты видишь, кто со мной пришел? – снова спросил он меня.
– Вижу, мой брудершафт, капитан, – ответил я. – Только я почему-то очень устал.
И помимо моей воли меня стала одолевать раздирающая зевота, которую я не имел сил прекратить.
– Я вас просил посидеть с больным в полном молчании. Я объяснил вам, как опасно для обоих малейшее волнение, – услышал я суровый голос Иллофиллиона; еще ни разу я не слышал, чтобы он говорил так сурово. – А вы, друг, снова не оказались на высоте выдержки, снова думали о себе, а не о них.
Тут я взмолился, чтобы мне позволили повернуться, чтобы я мог заснуть на боку. Нежно, ласково, как я не мог ожидать от капитана, он склонился надо мной и стал уговаривать меня, как ребенка, полежать еще немного на спине, потому что мы будем сейчас входить в гавань и нас немного покачает. Но мы вскоре пристанем к отличному молу, где будет совершенно спокойно, и тогда меня отвяжут и позволят сесть.
Он протянул руку к Иллофиллиону, взял у него рюмку с лекарством и поднес ее к моим губам, так осторожно приподняв мою голову, как будто бы она могла рассыпаться. Я выпил и, поблагодарив, хотел улыбнуться ему, но меня одолевала зевота, а потом я вдруг куда-то провалился, должно быть, заснул.
Очнулся я в нашей каюте. Возле меня сидел верзила и, что меня необычайно поразило, я увидел уже выходившую из нашей каюты женскую фигуру. Мне показалось, что это была Жанна. По выражению глупой и добродушной физиономии моего няньки-матроса я понял, что это действительно была она. На его лице было столько забавного счастья, что какая-то красотка по мне страдает, что я расхохотался. На этот раз это действительно был громкий смех.
– А, возврат к жизни моего храбреца также выражается смехом, – услышал я звенящий голос капитана. – Здравствуй, дружок. Наконец-то ты выздоровел. Стой, стой! Экий ты, брат, горячка! Лежи, пока Иллофиллион не придет, – продолжал он, не давая мне вставать.
Но я, все смеясь, начал бороться с ним. Капитан принялся умолять меня не возиться, на лице его появилось выражение беспокойства и тревоги.
– Ты ведь сам понимаешь, что после такой серьезной болезни надо быть очень осторожным, мой дорогой. Лежи смирно, я пошлю за Иллофиллионом, и тогда ты сможешь, наверное, встать.
Капитан отдал приказание вытянувшемуся в струнку верзиле отыскать доктора Иллофиллиона и попросить его немедленно подойти в каюту. Отвечая на мои вопросы, капитан сказал мне, что сегодня уже пятый день моей болезни и что к вечеру мы будем в Константинополе.
Я был сбит с толку. Мысли не связывались в сплошную ленту событий, я не помнил промелькнувших суток, только эпизод на лестнице, удар, и еще эпизод в лазарете, – вот и все, что удержала моя память.
Иллофиллион все не приходил, и капитан рассказал мне, что он очень тревожился за мои зрение и слух, и даже посылал телеграмму лорду Бенедикту в Лондон и в Б. каким-то врачам, прося их советов и помощи; и что из Б. он получил очень быстро ответ и относительно успокоился. Но из Лондона ответ пришел только вчера, и после этой телеграммы меня перенесли сюда, и Иллофиллион перестал так тревожиться за мое здоровье.
У меня на душе стало тихо и ясно. Я понял, что Иллофиллион посылал телеграммы сэру Уоми и Флорентийцу. И эти незаслуженные мною заботы привели меня в состояние благоговения перед расточаемым мне вниманием.
Я хотел спросить капитана, не говорил ли ему Иллофиллион, есть ли известия о моем брате. Но мысль о маленьком слове «такт», о котором говорил мне Флорентиец, удержала меня.
Послышались быстрые, легкие шаги, которые я узнал, и никто и ничто не могло меня больше удержать. Я вскочил как кошка и бросился на шею моему спасителю – Иллофиллиону.
– Безумец Левушка! Задушишь! – закричал мне Иллофиллион, и вместе с капитаном они уложили меня снова в постель.
– Да что вы в самом деле! Я не могу больше лежать! – кричал я.
– А сердце твое стучит как молот, потому что ты его сейчас переутомил, – ответил мне Иллофиллион. – Тебе можно только сидеть в кресле на палубе, но ходить нельзя будет даже в Константинополе дня два-три. Если хочешь быть мне помощником в деле устройства жизни Жанны и ее детей, надо проявить терпение и выполнять предписания врачей. А их предписания именно таковы.
Он многозначительно посмотрел на меня и сказал, что кроме Жанны, двух синьор итальянок и семьи греков, которые все жаждут меня видеть и которым надо будет помогать, надо еще повидаться с молодым князем и уделить ему особую поддержку.
– Ты сам понимаешь, что один я не могу выполнить всего этого. Чтобы быть мне настоящим помощником, ты должен забыть о своих личных желаниях и думать только об этих несчастных людях. Каждый из них несчастен на свой лад, но все одинаково страдают.
Капитан хмурился. Наконец он спросил Иллофиллиона:
– Скажите, друг, по каким же законам Божеским и человеческим вы лишаете личного счастья эту молодую жизнь? Неужели ему так и придется все возиться с чужим горем, вместо того чтобы веселиться и жить простой жизнью семьянина и ученого? Ведь он имеет все предпосылки для того, чтобы сделать отличную карьеру. Отдайте его мне! Он будет мне братом, будет моим наследником. Англия – чудесная страна, где каждый живет для себя и, не страдая болезнью собирания чужих горестей в свои карманы, не мешает жить другим.
– Левушка – взрослый и свободный человек. Он имеет полное право выбирать себе любой жизненный путь. Если он выразит желание следовать за вами, а не за мной, вы можете хоть сию минуту перевести его в свою каюту, – ответил Иллофиллион.
– Левушка, переходи ко мне. Мы поедем в Англию. Я не женат. Ты будешь богат. Мой дом – один из лучших среди старых дворянских домов. Моя мать и сестра – очаровательные женщины; они обожают меня и примут тебя как родного. Ты будешь свободен в выборе карьеры. Не бойся, я не навяжу тебе карьеру моряка, как и той невесты, какую ты не будешь любить. Не думай, что Англия не сможет быть тебе родиной. Ты полюбишь эту страну, когда ее узнаешь, и все, чего ты будешь хотеть – науки, искусство, путешествия, любовь, – все будет доступно тебе. Ты будешь счастлив и свободен от всяких обязательств, в которых тебя воспитывают сейчас. Живет человек лишь один раз. И ценность жизни – в личном опыте, а не в том, чтобы забыть о себе и думать о других, – говорил капитан, медленно шагая по нашей большой каюте.
– Много бы я дал, чтобы быть в Лондоне в эти дни, – сказал я. – Но быть там, мой дорогой друг, я хотел бы именно затем, чтобы забыть о себе и думать о других. А потому вы сами видите, как невозможно нам сочетать наши судьбы, хотя я вас очень люблю, вы очень мне нравитесь. И нравитесь не потому, что я отвечаю вам благодарностью на ваше чудесное ко мне отношение, а потому, что в сердце моем крепко запечатлелся ваш образ, ваше глубокое благородство, храбрость и честь. Но путь моей жизни – единственный счастливый для меня – это путь с Иллофиллионом. Я встретил великого человека не так давно, которого полюбил и которому предан теперь навек… О, если бы я мог вас познакомить с ним, как был бы я счастлив! Я уверен, что, узнав его, вы оценили бы его по достоинству и всю жизнь стали бы воспринимать иначе. И тогда мы с вами пошли бы по одной дороге, братски и неразлучно. Благодарю вас за вашу любовь, за ласку и внимание. Я знаю, что вы предлагали мне, в вашем понимании, освобождение, потому что думаете, что я живу в плену высоких идей. Нет, я совершенно свободен; правду сказал Иллофиллион. Я счастлив потому, что каждая минута моей ранее бесполезной жизни теперь отдана на спасение моего родного брата-отца, брата-воспитателя, единственного существа в мире, к которому я имею кровную и личную привязанность. Ему грозит преследование и смерть; и я стараюсь замести его следы и с помощью его и моих друзей направить преследователей по ложному пути. Я пойду до конца, хотя бы гибель моя была близка и неизбежна. И пока я живу, я буду обращать внимание на страдания людей и наполнять их горестями, как вы сказали, свои карманы.
Капитан молча и печально смотрел на меня. Наконец он протянул мне руку и сказал:
– Ну, прибавь тогда в один из своих карманов и мою горечь жизни. Все, чего бы я в жизни ни пожелал, – все рушится. Была невеста – изменила. Был любимый брат – умер. Было счастье в семье – отец нас оставил. Было честолюбие – дуэль помешала высокой карьере. Встретился ты – не вышло братства. Твои карманы должны быть бездонными. Люди – существа эгоистичные. И как только видят, что кто-то готов переложить их горести на свои плечи, садятся ему на голову…
Он помолчал и продолжил тихо и медленно, обращаясь к Иллофиллиону:
– Если моя помощь может быть полезна вам или вашему брату, – вы оба можете располагать мной. У меня нет таких привязанностей, которые заполняли бы мою жизнь целиком. Я гонялся за ними всю жизнь, но они улетали от меня как иллюзии. Я совершенно свободен. Я люблю море потому, что не жду от него постоянства и верности. Вы верны своей любви к брату и к какому-то другу. Вы счастливее меня. У меня нет никого, кто бы нуждался в моей верности. Мои родные хоть и любят меня, но легко без меня обходятся.
– Вы очень ошибаетесь, – воскликнул Иллофиллион каким-то особенным голосом. – Разве вы не помните юную русскую девушку, которая полюбила вас до самозабвенья? Талантливую скрипачку, которую звали Лизой?
Капитан остановился как громом пораженный.
– Лиза?! Лизе было четырнадцать лет. Было бы наивно думать, что это было серьезно. У нее была тетка, которая преследовала меня своей любовью. Мне была смешна эта старая фея, а маленькая ревнивица меня забавляла. Но я никогда не позволял себе играть ее чувствами и замыкался в самую ледяную броню вежливости и воспитанности. Но не спорю: будь обстоятельства более счастливыми – я мог бы увлечься этим существом.
– А это существо не расстается с вашим портретом и ищет всех возможностей встретить вас. Не по ее вине, а по вине своей семейной трагедии она не едет сейчас на вашем пароходе и именно в этой каюте.
– Не может этого быть, фамилия Лизы была другой. А эта каюта была снята графиней Р. из Гурзуфа, – сказал капитан.
– Да, но вы встретили Лизу на курорте под фамилией ее тетки. И вы можете мне поверить, что графиня Р. – не кто иной, как Лиза. И если вы на самом деле считаете, что могли бы полюбить эту девушку, поезжайте в Гурзуф и повидайтесь с Лизой. Это ценная жизнь, которую надо спасти, и тут вам предоставляется случай, не забывая о себе, помочь человеку пройти свой жизненный путь в большом счастье. Среди людей есть однолюбы; Лиза – как раз из их числа. И ничто – ни ее богатство, ни ее талант – не сможет дать ей счастья, если ее любовь останется безответной. Не будьте жестоки или легкомысленны, капитан. Вы ведь играли чувствами девушки, думая, что ее любовь к вам мимолетна. А на деле оказалось, что ее сердце разбито. И если вы не поспешите, ее здоровье может пошатнуться.
Моему изумлению не было границ. А я-то раздумывал, мог бы я полюбить Лизу и как она относится ко мне. Теперь мне припомнились некоторые незначительные подробности в поведении Лизы и ее прощальный пристальный взгляд, которым она провожала Иллофиллиона при расставании. Очевидно, она доверила ему тайну своего сердца.
Капитан долго молчал. И никто из нас не нарушал этого молчания.
– Странно, как все странно, – наконец вздохнув, сказал он. – Как удивительно, что в нашей жизни все делается так внезапно, вдруг! Еще час тому назад мне казалось, что без Левушки жизнь моя будет пуста. Несколько минут тому назад, когда он отказался от моего предложения, я пережил горечь разочарования. А сейчас я точно начинаю прозревать. Я вам верил с самого начала, доктор Иллофиллион, я как-то особенно выделил вас из всех людей, которых повстречал в жизни. Но сейчас ваши слова точно сняли завесу с моего разума и сердца, и я начинаю надеяться на лучшую жизнь. Но – какой я эгоист! Я развернул ковер-самолет своих мечтаний и забыл о том, что сказал мне Левушка. Нет, пока я не помогу вам в вашем деле, я не начну строить для себя новую жизнь.
– У каждого свой путь, и пройти хотя бы каплю чужого пути – невозможно, – сказал Иллофиллион. – Если вы послушаетесь истинного голоса своего сердца, мы встретимся с вами и вашей будущей женой еще не раз. И вы не раз еще сможете оказать нам дружественную услугу. Сейчас же временно наши пути разойдутся. Предоставьте жизни вести нас так, как она ведет. Мы будем поддерживать с вами связь по почте. И если разрешите, я обращусь к вам сейчас с очень большой просьбой. Пожалуйста, помогите нам устроить несчастного князя с его женой в каком-нибудь уединенном доме в Константинополе. Вы ведь знаете людское любопытство, и можете себе представить, как тяжело будет и без того несчастному мужу переносить насмешки людей над его руиноподобной женой.
– Устроить это легче легкого, – ответил капитан. – В одной из кают едет греческая семья; да вы их знаете, во время бури вы их лечили. У них есть небольшой дом с садом, который они сдают в аренду. Мальчик мне говорил, что сейчас этот дом свободен. Если это так, то я дам вам людей, и они ночью перенесут старуху на носилках в этот дом. Я все это выясню и пришлю человека, чтобы сообщить вам. А сейчас я должен идти.
И, пожав нам руки, капитан ушел.
Мне не хотелось говорить. Иллофиллион подошел к моей постели, присел на стул и взял мою руку, считая пульс.
Он давно уже и пульс сосчитал, и убедился в том, что сердце мое перестало биться ураганно, а все же сидел, держа меня за руку.
– Мой мальчик! – тихо сказал он. – Мы только начинаем наш путь испытаний, а тебе кажется, что ты страдаешь уже целый век. Неужели тебе кажется, что все, что так неожиданно свалилось на тебя, приносит тебе лишь горе, заботы и страдания? Представь себе, что у тебя все было бы благополучно, ты был бы счастлив с братом и все шло как обычно в твоей жизни. Разве ты встретил бы тогда Али, Флорентийца и сэра Уоми? Разве ты узнал бы, что на свете есть не только обыватели, ищущие для себя одних земных благ, но и люди, воплощающие в себе духовное начало, проявляющееся в огне творчества сердца, в вечном несении любви и мира на общее благо? Взгляни в свое сердце сейчас и посмотри, как расширились его границы по сравнению с прошлым! А если бы ты мог заглянуть в сердце Флорентийца, какую мощь красоты ты увидел бы! Каким светом и очарованием наполнился бы твой летящий день в его присутствии! Все счастье человека зависит от силы его души, от той высоты духа, которой он может достичь. Если в тебе проявляется жажда чувственных, плотских желаний, твои мечты не превзойдут мира физических тел, прекрасных и желанных. Но если твоя мысль увлекает тебя в пределы духовной любви, ты слышишь звучание сердца другого человека, и созвучие твое с ним складывается по силе тех вибраций, которые излучает мощь твоего творящего сердца. Устремись мыслью к Флорентийцу. И если ты сможешь постичь все величие его мысли и духа, то его любовь сможет ответить и твоей любви, и запросам твоей мысли, и творчеству твоего сердца. И чем естественнее ты будешь устремляться своими мыслями к слиянию с его высоким умением жить каждый день в простой доброте, чем ты спокойнее будешь при всех обстоятельствах жизни, в том числе ее опасностях, тем легче ему будет объединяться с тобой.
Я понимал не все из того, о чем говорил мне Иллофиллион. Многое казалось мне неясным или невозможным; но спрашивать я ни о чем не хотел.
Распоряжению Иллофиллиона – лежать на палубе – я охотно подчинился, потому что мне не хотелось видеть никого, а книги брата привлекали меня. Верзила устроил меня на палубе великолепно. Иллофиллион сел подле меня писать письма, я обложился книгами и… заснул вместо наслаждения ими.
Путь до Константинополя мы прошли без всяких приключений. Прощание с капитаном было очень трогательным и расстроило меня до слез. Он подарил мне свой портрет в чудной рамке, оставил свой лондонский адрес и сказал, что утром зайдет к нам в отель, чтобы побыть со мною, пока Иллофиллион будет занят делами. Мы горячо обнялись, и с помощью верзилы и Иллофиллиона я стал спускаться по трапу одним из последних.