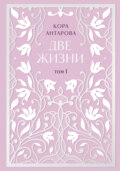Конкордия Антарова
Две жизни. Роман в четырех частях
Необычная тишина воцарилась во мне. Легко и просто, точно получив озарение, я понял, как мне надо дальше жить, и я заснул безмятежным сном, чувствуя себя счастливым.
Утром меня разбудил Иллофиллион, сказав, что верзила с капитаном ждут меня внизу, чтобы плыть морем к месту общего свидания, и что завтракать я буду в лодке.
Я быстро оделся и не успел даже набросить пальто, как верзила явился, заявляя, что я «не по-морскому долго одеваюсь». Он не дал мне взять пальто, сказав, что в лодке есть плащ и плед, но и без них тепло.
Он вел меня через какие-то дворы, и хотя мы шли очень медленно, все же вскоре очутились у моря, где я благополучно сел в лодку.
Глава 17
Начало новой жизни Жанны и князя
Море было тихо, едва плескались волны. Для Константинополя погода была необычайно прохладная, что капитан объяснял влиянием бури. Он говорил, что множество мелких и крупных судов было разбито бурей, а пропавших лодок и рыбаков до сих пор сосчитать не могут.
– Да, Левушка, героическими усилиями моей команды и беззаветной храбростью твоей и твоего брата много счастливцев спаслось на моем пароходе. И мы с тобой сегодня наслаждаемся этой феерической панорамой, – сказал капитан, указывая рукой на сказочно красивый город, – а сколько людей сюда не добралось. Вот и угадай свою судьбу за час вперед, и скажи когда-нибудь, что ты счастлив, думая о завтрашнем дне. Выходит, я прав, когда говорю, что мы живем один раз и надо жить только мгновением и ловить его, это драгоценное летящее мгновение счастья.
– Да, – ответил я. – Я тоже раньше думал, что смысл жизни в том, чтобы искать всюду только свое личное счастье. Но с тех пор как я ближе понял моих новых друзей, я понял, что счастье жить – не в личном счастье, а в таком самообладании, когда человек сам может приносить людям радость и мир. Так же, как и вы, Иллофиллион говорит о ценности вот этого самого летящего мгновения. Но он понимает под этим умение воспринимать сразу весь мир, всех окружающих, и трудиться для них и с ними, сознавая себя единицей всей Вселенной. Я еще мало понимаю его. Но во мне уже зазвучали новые ноты; сердце мое открылось для любви. Я точно окончил какой-то особенный университет, благодаря которому стал понимать каждый новый день как духовную школу. Я перестал думать о том, что ждет меня в жизни вообще. А раньше я все жил мыслями о том, что будет со мной через десять лет.
– Да, мои университеты много хуже твоих, Левушка, – ответил капитан. – Я все живу днем завтрашним или уже прошедшим, так как мое настоящее меня не удовлетворяет и не пленяет. Сейчас я часто думаю о Гурзуфе и мечтаю встретить Лизу. Настоящее я как-то не умею достаточно ценить.
Пользуясь тем, что наши матросы не понимают французского языка, мы продолжали беседу, изредка прерывая ее, чтобы полюбоваться красотами и отдельными зданиями и куполами мечетей и дворцов, которые мне называл капитан, отлично знавший город.
Наше довольно долгое путешествие приходило к концу, когда мои мысли вернулись к Жанне.
– Ваш глубокий поклон великому страданию Жанны не выходит у меня из головы, – сказал я.
– Бедная женщина, девочка-мать! Так много вопросов предстоит ей решить за своих малюток. Так важно правильно воспитать человека с самого детства. А что может Жанна сделать для детей? Ведь она сама ничего не знает и не сумеет прочитать ни одной книжки о воспитании, потому что ничего в ней не поймет, – задумчиво сказал капитан.
– И мы с вами мало поймем в тех книгах, которые написал человек, стоящий на более высокой ступени развития, чем мы сами. Все зависит от тех вибраций сердца и мысли, которыми живет сам человек. Понять можно только что-нибудь созвучное себе. И такой общий всем язык, объединяющий бедуина и европейца, негра и англичанина, святую и разбойника, есть. Это язык любви и красоты. Жанна может любить своих детей, любить не животной любовью, как свою плоть и кровь, но как личностей, гордясь или страдая от их достоинств или пороков, – заступился я за Жанну.
– Но пока она может любить их только как свой долг, как свой урок жизни. И пока ее сознание примет свою жизнь, как предназначенные только ей обстоятельства, неизбежные, единственные, посланные во всем мире ей одной, а не кому-то другому, пройдет много времени. И только тогда в ее душе не будет места ни ропоту, ни слезам, а будет готовность к радостному труду и благословению, – отвечал мне капитан.
Я уставился на него, забыв обо всем на свете. Лицо его было нежно, и доброта лилась из глаз. Чарующая волна нежности прошла из моего сердца к нему.
– Как необходимо вам встретиться с Флорентийцем, – пробормотал я. – Или, по крайней мере, поговорить очень серьезно с Иллофиллионом. Я ничего не знаю, но – простите, простите меня, мальчишку перед вами, вашими достоинствами и опытом – мне кажется, что и у вас в голове и сердце такая же каша, как у меня.
Капитан весело рассмеялся.
– Браво, брависсимо, Левушка! Если у тебя каша, то у меня форменная размазня, даже кисель. Я сам все ищу случая поговорить с твоим загадочным Иллофиллионом, да все мне не удается. Вот мы и добрались, – добавил он, отдав матросам приказание плыть к берегу и пристать к концу мола.
Мы вышли из лодки и в сопровождении верзилы стали подниматься к городу. Вскоре мы были уже на месте и издали увидели, как вся компания наших друзей вошла в дом.
Мы нагнали их в передней. Ко всеобщему удивлению, квартира оказалась хорошо меблированной. Из передней, светлой, с большим окном, обставленной вроде приемной, дверь вела в большую комнату вроде гостиной в турецком стиле.
Строганов объяснял Жанне, как он мыслит устроить прилавок и стеклянные витрины для готовых шляп, а также перьев, цветов и лент, чтобы покупательницы могли оценить талант и изысканный вкус Жанны и сразу выбрать понравившиеся им вещи.
За большой комнатой было еще помещение для мастерской, где стояли два длинных стола и откуда вела дверь в сени черного хода.
Дети Жанны вцепились в меня сразу же, но Иллофиллион запретил мне их поднимать на руки. Они надулись и утешились только тогда, когда верзила посадил их обоих на свои гигантские плечи и вынес во двор дома и сад, где находился небольшой фонтан и стояло несколько больших восточных сосудов с длинным узким горлом.
Осмотрев нижнее помещение, мы снова вышли в переднюю и по железной винтовой лестнице поднялись на второй этаж.
Здесь были три небольшие комнаты. Одна из них была обставлена как столовая; в другой стояли две детские новенькие кроватки и диван; в третьей стояло великолепное зеркало в светлой раме, широкий турецкий диван и несколько кресел.
У Жанны побежали слезы по щекам. Она снова протянула обе руки Строганову и тихо сказала:
– Вы вчера преподали мне ценнейший урок, говоря, что побеждает тот, кто начинает свое дело легко. Сегодня же вы показали мне на деле, как вы добры, как просто вы сделали все, чтобы помочь мне легко начать мое дело. Я никогда не забуду вашей доброты и постараюсь отплатить вам всем, чем только смогу. Вы навсегда сделали меня вашей преданной слугой за одни эти детские прелестные кроватки, о которых я и мечтать не смела.
– Это пустяки, мадам, я хотел давно уже обставить этот домик, так как говорил вам, что я здесь родился и ценю его за воспоминания и уроки жизни, полученные здесь. Я очень рад хорошему случаю приготовить его для трудящейся женщины и ее детей. А, вот и дочь моя, – продолжал Строганов, двигаясь навстречу поднимавшейся по лестнице женской фигуре.
Перед нами стояла закутанная в черный шелковый плащ, со спущенным на лицо черным покрывалом высокая женская фигура.
– Ну вот, это моя дочь Анна, – сказал он, обращаясь к Жанне. – Вы – Жанна, она – Анна, хорошо было бы, если бы вы подружились и «благодать» царила бы в вашей мастерской, – продолжал он смеясь. – Ведь Анна значит по-гречески благодать. Она очень покладистого и доброго характера, моя любимая благодать.
Анна откинула с лица свое черное покрывало, и… мы с капитаном так и замерли от удивления и восторга. Нам предстали бледное, овальное лицо с огромными черными глазами, черные косы, лежавшие по плечам и спускавшиеся ниже талии, чудесные улыбавшиеся губы и белые, как фарфор, зубы. Протягивая Жанне красивую белую руку, Анна сказала приятным низким и мягким голосом:
– Мой отец очень хочет, чтобы я научилась трудиться не только головой, но и руками. Я несколько лет сопротивлялась его воле. Но на этот раз, узнав, что моей учительницей будет женщина с детьми, перенесшая страшное горе, я радостно и легко согласилась, даже сама не знаю почему. Не могу сказать, чтобы меня пленяли шляпы и дамы, – продолжала Анна смеясь, – но что-то интуитивно говорит мне, что здесь я буду полезна.
Ее французская речь была чиста и правильна. Она сбросила глухой плащ и оказалась в простом, но элегантном белом шелковом платье и черных лакированных туфельках, необыкновенно маленьких для ее высокого роста.
Не знаю, длинными ли косами, крошечными ли туфельками, стройностью ли фигуры или какой-то особенной элегантностью манер, но чем-то Анна напомнила мне Наль. Я не удержался и прошептал: «Наль, Наль».
– Что такое? Что ты говоришь? – тихо спросил меня капитан.
Иллофиллион взял меня под руку и спросил тоже:
– Левушка, что ты шепчешь? Это не Наль, а Анна. Приди в себя и не осрамись, когда нас будут ей представлять. Руки не целуй и жди, пока она сама протянет тебе руку. А то, пожалуй, ты еще задрожишь, как от встречи с Хавой, – улыбнулся он мне.
– Шехерезада; вся моя жизнь теперь сказка, а женщины – феи, – сказал капитан. – Но кто же был тот, кого любила эта Афина-Паллада, если она до сих пор верна его памяти? Можно отдать полжизни, чтобы быть любимым одну ночь такой женщиной.
Отец знакомил Анну со всеми. Она внимательно смотрела каждому в глаза, слегка улыбаясь и подавая руку, но истинное внимание ее привлекли дети, ехавшие наверх на верзиле. Анна подошла к детям, протягивая им руки. Малютки смотрели на нее во все глаза; девочка потрогала ее косы и спросила:
– Почему ты, тетя, такая черная? Тебя покрасили сажей?
– Нет, – засмеялась Анна. – Меня мой отец наградил таким черным цветом волос. Но скоро я буду седая, и ты моих кос перестанешь бояться.
Наконец очередь дошла и до нас.
Первым был представлен капитан, который низко поклонился и пожал протянутую ему руку, глядя прямо в лицо Анны, глаза которой на этот раз были опущены вниз; на щеках ее разлился легкий румянец, и мне показалось, что на нем мелькнуло выражение досады.
На Иллофиллиона Анна взглянула пристально, и ее черные глаза вспыхнули точно факелы.
– Вы тот друг Ананды, конечно, о котором он мне писал в последнем письме? Я очень счастлива встретить вас. Надеюсь, что до приезда Ананды вы окажете честь нашему дому и посетите нас.
– Я буду очень счастлив навестить вас, если ваш отец ничего не имеет против, – ответил Иллофиллион.
– Вы думаете, что моя турецкая внешность имеет что-либо общее с восточным воспитанием? Уверяю вас, нет. Более свободолюбивого и отзывчивого отца не найти во всем мире. Это первый мой, да и всех моих сестер и братьев, друг и помощник. Каждый из нас совершенно свободен в выборе своих знакомств. Единственно, чего не терпит мой отец, – это жизни без работы. Я одна из всей семьи все еще не зарабатываю денег. Но теперь и я поняла, что мне необходимо общаться с людьми, внося свой посильный труд в каждый будний день, – говорила Анна, пользуясь тем, что Жанна и ее отец продолжали осмотр спален.
– Разрешите мне представить вам моего двоюродного брата Левушку Т., – сказал Иллофиллион. – Он, как и я, друг Ананды и Флорентийца, о котором думает день и ночь, – прибавил Иллофиллион, выдвигая меня несколько вперед. – Быть может, вы позволите нам вместе навестить вас; мы с ним почти не разлучаемся, так как Левушка немного нездоров сейчас.
– Я буду очень рада видеть вас обоих у себя, – любезно ответила Анна, протягивая мне руку, которую я слегка пожал.
– А, попались, молодой человек, – услышал я позади себя голос Строганова. – Анна, наверное, уже почуяла в вас писателя. Она ведь и сама неплохая поэтесса. Пишет для детей сказки прекрасно, но не соглашается их печатать. Но ее произведения все же очень известны в Константинополе. Держу пари, что она уже вас околдовала. Только вы ей не верьте, она вроде как бы без сердца.
– Отец, ты так сконфузил молодого писателя – если он действительно писатель, – что он тебе, несомненно, отомстит, описав тебя, по крайней мере, в качестве константинопольской достопримечательности, – сказала Анна, громко, но очень мелодично рассмеявшись.
К ней подошла Жанна, обе женщины отошли к окну, и о чем они говорили, я не знаю. Анна стояла к нам в профиль, и мы все четверо смотрели на нее.

ЕСЛИ ПОДНЯТЬСЯ МЫСЛЬЮ В ОКЕАН ДВИЖЕНИЯ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ И ТАМ УЛОВИТЬ СВОБОДНУЮ НОТУ ЛЮБВИ, НЕ ПОДАВЛЯЕМОЙ ИЛЛЮЗОРНЫМ ПОНИМАНИЕМ ДНЯ КАК ТЯЖЕЛОГО ИСПЫТАНИЯ, ДОЛГА И ЖАЖДЫ НАБРАТЬ СЕБЕ ЛИЧНО ПОБОЛЬШЕ БЛАГ И БОГАТСТВА, – ТАМ МОЖНО УВИДЕТЬ НЕ ЭТОТ СЕРЫЙ ДЕНЬ, СДАВЛЕННЫЙ ПЕЧАЛЬЮ И СКОРБЬЮ, НО ДЕНЬ СЧАСТЛИВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗЛИТЬ ИЗ СВОЕГО СЕРДЦА ЛЮБОВЬ СВОБОДНУЮ, ЧИСТУЮ, БЕСКОРЫСТНУЮ, – И В ЭТОМ ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Мне вспомнился благоухающий вечер в саду городского дома Али, вспомнились темные, но не черные косы Наль, ее зеленые глаза и три других мужских лица, смотревших на нее неотрывно с совершенно разными выражениями.
Так и сейчас – капитан напряженно смотрел на Анну и видел в ней только физическое очарование гармоничных форм. Знакомое мне выражение хищника светилось в его желтых глазах, он напоминал тигра, следящего за добычей.
На лице Иллофиллиона было выражение мягкости и доброты, точно он благословлял Анну, и у меня мелькнуло в сознании: «благодать».
Отец смотрел на Анну задумчиво и печально, точно он страдал от какой-то тайной боли своей дочери, которой не мог помочь и которая бередила его сердце.
Я же весь пылал. В голове моей мелькали мысли, точно волны кипя и наскакивая друг на друга. Я мысленно видел Ананду возле высокой фигуры Анны и думал, что никто и не мог быть избран ею, если она близко знала такого обаятельного красавца с глазами-звездами.
Я забыл обо всем на свете; я видел только Ананду, вспоминал его необычайный голос, и вдруг этот голос зазвенел у меня в ушах: «Не всякая любовь связывает плоть людей. Но плоха та любовь, что связывает рабски их дух. То будет истинной любовью, где все способности и таланты раскрываются к творческой деятельности, где освобождается дух человека».
Иллюзия слуха была так сильна, что я невольно бросился вперед, чтобы увидеть Ананду из окна. Но железная рука Иллофиллиона меня крепко держала.
Капитан повернулся на произведенный мною шум.
– Вам дурно, Левушка! Как вы бледны! Здесь душно, поедемте домой, – сказал он, беря меня под руку с другой стороны и нежно стараясь меня увести.
Жанна услышала последние слова капитана, быстро подошла ко мне со словами:
– Не уходите, Левушка.
Но, увидев мою бледность, покачала головой и тихо прибавила:
– Какая я эгоистка! Только о себе думаю. Вам необходимо ехать домой. Вы очень страдаете?
Я не мог выговорить ни слова, какая-то судорога сжала мне горло. Иллофиллион ответил Жанне, что сейчас капитан отведет меня домой, а вечером я смогу пообедать с нею, если она освободится к семи часам, – мы будем ждать ее в моей комнате. Сам же он, Иллофиллион – если она разрешит, – примет участие в ее делах по обустройству квартиры.
Тут вмешались все время молчавшие турки, старик Строганов и Анна, категорически протестуя против участия Иллофиллиона в этом деле и уверяя, что они всё сделают сами.
Мы простились со всей компанией и, сопровождаемые верзилой, который передал Жанне детей, вышли втроем на улицу.
Иллофиллион хотел проводить меня до лодки, но капитан предложил ему посидеть со мною на скамье, пока он с верзилой сделает одно маленькое дело очень неподалеку от дома.
Я был рад посидеть в тени и побыть с Иллофиллионом. Я попросил его дать мне укрепляющую пилюлю Али, но он ответил мне, что никакие пилюли сейчас мне не помогут.
– Есть люди, Левушка, которые слышат и видят то, чего не могут ни слышать, ни видеть сотни и тысячи людей. Они одарены особой способностью – внутренним зрением и слухом, которые действуют на иной частоте вибраций, чем обычные зрение и слух, свойственные большинству людей. Ты имеешь этот дар – слышать и видеть на расстоянии – и принимаешь его за галлюцинации и последствия твоей рассеянности. Если бы не этот удар по темени, твои духовные способности развивались бы нормально. Теперь же весь твой организм, а особенно спинной мозг, потрясены так сильно, что та огненная энергия, которая находится в каждом человеке в скрытом состоянии, вырвалась наружу и разорвала все преграды, лежащие на ее пути, обострив все твои духовные силы. Когда ты восстановишься от потрясения, я подробнее объясню тебе все то, о чем говорю сейчас вскользь. Я хочу только, чтобы ты понял, что ты не болен, не сходишь с ума, а просто в тебе преждевременно раскрылись к восприятию духовно-психические способности, гораздо более значительные, чем те, к которым ты привык до сих пор. Соблюдай спокойствие. Больше лежи и всеми силами старайся не раздражаться. Никому ни слова о том, о чем мы сейчас говорили, – прибавил он, видя подходивших к нам капитана и верзилу.
Зрелище, представившееся нам, было довольно необычно, и издали я никак не мог понять, что такое к нам приближается. Но Иллофиллион начал сразу же смеяться и сказал мне:
– Ну, поздравляю, Левушка. Теперь ты поедешь по Константинополю в роли гаремной красавицы.
Теперь и я мог рассмотреть большой паланкин с опущенными занавесками, который несли два огромных турка. Я так возмутился, так затопал ногами, что Иллофиллион, весело смеявшийся за минуту, схватил меня обеими руками, усадил и очень серьезно сказал мне:
– Я только что просил тебя не раздражаться и предупреждал тебя о серьезности твоего состояния сейчас. Неужели для тебя так мало значат мои слова и все дальнейшие возможности чудесной жизни в познании? И неужели у тебя совсем нет чувства юмора?
– Юмор я понимаю и чрезвычайно дорожу всякой возможностью продвинуться в своих познаниях. Но я вовсе не желаю стать мишенью для шуток, хотя бы только для тех матросов, которые нас понесут, – ответил я запальчиво.
– Прежде всего сдержи себя. Осознай большую радость быть господином самого себя. И оцени заботу капитана. Будь деликатен и прежде всего воспитывай себя так, чтобы находить джентльменскую внешнюю форму для выражения своих, даже очень неприятных, чувств. Учись проявлению тактичности, о которой говорил тебе Флорентиец.
Группа приближалась. Капитан отделился от нее и подошел к нам, весело размахивая фуражкой.
– Как видите, я изобрел способ передвижения без тряски. Это носилки одного моего безногого приятеля, который предпочитает этот способ передвижения всякому другому. Но Бог мой! Вам хуже, Левушка? Вы были бледны, а теперь в красных пятнах, – сказал тревожно капитан.
Я поборол свой припадок яростного раздражения и хотел «с холодной любезностью» поблагодарить капитана, как в дело вмешался Иллофиллион, очень ласково обратясь к капитану:
– Нет, капитан, Левушке не хуже. Это все еще реакция от удара. Но он прекрасно дойдет с вами пешком до лодки, и это ему будет даже полезно сейчас. А носилки ваши, если бы вы согласились, были бы, наверное, очень полезны для детей Жанны, чтобы отправить их домой с матросом-верзилой. Жанне надо будет отправиться в поездку по делам, а дети связывают ее. Если бы вы разрешили употребить раздобытый вами экипаж по моему усмотрению, я бы сейчас же пошел за детьми.
– Если вы считаете, что Левушке можно идти пешком, то я буду очень рад предоставить носилки в ваше распоряжение, – весело ответил капитан, и не подозревавший, какую бурю я пережил из-за его заботы.
Иллофиллион пожал мне руку, попросил капитана проследить, чтобы я улегся на диване дома и сказал, что заедет за мной в шесть часов и мы вместе отправимся к князю, если до тех пор я выдержу постельный режим.
Мы расстались с Иллофиллионом и двинулись в путь. Я был счастлив, что отделался от паланкина, но внутри у меня еще продолжало клокотать недовольство и самим собой, и капитаном.
– Я не понимаю, что за мужчины в Константинополе, – говорил, как бы рассуждая с самим собой, капитан. – Если такая женщина, как Анна, остается свободной, то у здешних мужчин не кровь, а вода. У нас в Англии она была бы уже дважды или трижды замужем и из-за нее случилось бы не менее десятка дуэлей. Ведь это сказочная красота.
– Я мало понимаю в женской красоте, – ответил я. – Но думаю, что Анна в самом деле редкостная красавица. Что же касается мужчин, которые ее не покорили, то, думаю, покоряют тех, кто хочет быть покоренными. А дерутся из-за тех женщин, которые выбирают, кому себя преподнести повыгоднее. Те же, кто, как Анна, ищут истинной любви, всегда идут очень скромным путем, если не обладают талантом и тщеславием.
Капитан даже остановился, так он был поражен моими словами.
– Ай да Левушка! Вот так отлил пулю, – разводя руками, сказал он. – Да тебе сколько лет? Двадцать или пятьдесят? Где это ты успел сделать такое наблюдение?
– Я, право, не знаю, что вас так удивляет? Мне кажется то, что я сказал, самым простым и обыкновенным. У нас в России много прекрасных женщин, в которых отсутствует кокетство. А ухаживают ведь не за самыми прекрасными, а за самыми кокетливыми. Эту азбучную истину мне всегда повторял при случае брат.
Мы молча, углубившись каждый в свои мысли, прошли весь остальной путь.
Добравшись до нашего отеля, мы почувствовали, что проголодались, и заказали легкий завтрак, который я ел, лежа на кушетке. Закурив сигару после завтрака, капитан опять вернулся мыслями к Анне.
– Как странно, – сказал он. – Я действительно отдал бы очень многое, чтобы на какое-то время любить такую богиню, как Анна. Но именно на какое-то время, отнюдь не представляя себе возможным сделаться ее мужем или постоянным рыцарем. В ней есть что-то, что помешало бы мне стать ей близким.
– Анна кажется мне женщиной очень высокого уровня духовной культуры. Если вы еще не скоро уедете из Константинополя, то увидите одного из друзей Иллофиллиона, который также является близким другом Анны. Если она любит его – даже без взаимности, – то никто не сможет сравниться с ним рядом, чтобы привлечь ее внимание. Один голос этого человека – с глазами, светящимися как звезды, – даже в разговоре пленяет; и, увидев и услышав его один раз, его уже нельзя забыть. Говорят, что он поет, как Бог, – ответил я.
– Откуда знать, что именно пленяет одного человека в другом? Анна для меня могла бы быть значительным эпизодом жизни, но не эпохой. А вот девочка Лиза, если бы жизнь свела меня с ней снова, весьма возможно, стала бы эпохой.
Я стал вспоминать Лизу, ее манеры и речь и спросил капитана:
– А как вы отнеслись бы к жене-артистке? И к ее таланту вообще? Ведь говорят, у Лизы огромный талант. А вы полны предрассудков. Как бы вы себя чувствовали, сидя в первом ряду концертного зала, где выступала бы ваша жена-скрипачка?
– Я никогда не думал, что сцена, эстрада или вообще театральные подмостки могут играть какую-либо роль в моей жизни. Я всегда избегал женщин, связанных с театром. Все они казались мне в какой-то мере пропитанными духом карьеризма и желанием продать себя подороже, – ответил капитан.
– Но неужели за всю вашу жизнь вы не встретили ни одной женщины, которая была бы настоящей жрицей искусства? Для которой не было бы иной формы жизни кроме того искусства, которому она служит и которым живет? – спросил я снова.
– Нет, не встречал, – ответил он. – Я был знаком с так называемыми великими актрисами. Но ни одна из них не показалась мне обладательницей божественного дарования. Приходилось встречать художников высокой культуры, которым, казалось, открывались тайны природы. Но… в обыденной каждодневной жизни они оказывались людьми мелкими.
На этом наша встреча закончилась. Капитану нужно было сделать несколько деловых визитов, побывать на своем пароходе, а вечером он хотел посетить своих друзей. Мы расстались до следующего дня.
Утомленный целым рядом пережитых встреч, я задремал, незаметно заснул и проснулся от голоса громко звавшего меня Иллофиллиона, который торопил меня переодеться, взять аптечку и идти к князю.
Он дал мне каких-то горьких капель. Я быстро снарядился в путь, и мы пошли пешком к особняку князя, находившемуся не так далеко. Меня очень интересовала эта встреча. Как ни противна мне была его старая жена, все же жалость к ней, к ее близкой смерти и омертвелому телу сильно билась в моем сердце.
Невольно я задумался, как тяжело каждому человеку умирать. «Что думает о смерти Флорентиец? И как будет умирать он?» – подумал я. И вдруг среди бела дня, среди грохота улиц и суеты я услышал его голос: «Смерти нет. Есть жизнь, одна, вечная, а внешних форм ее много». Я остановился как вкопанный и непременно попал бы под колеса экипажа, если бы Иллофиллион не дернул меня вперед.
– Левушка, тебя положительно нельзя отпускать ни на шаг, – сказал он, беря меня под руку.
– Да, нельзя, Лоллион, – жалобно сказал я. – Проклятый турецкий кулачище сделал меня сумасшедшим. Я просто прогрессирую в безумии и не могу остановиться. Я все больше галлюцинирую.
– Да нет же, Левушка. Ты очень возбужден был сегодня. Что тебя смутило сейчас?
– Мне подумалось о том, как тяжело умирает старуха-княгиня, и о том, что всем людям очень страшно и тяжко умирать. Я постарался представить себе, как Флорентийцу рисуется смерть, – и вдруг услышал его голос: «Смерти нет. Есть жизнь, одна, вечная, а внешних форм ее много». Ну, разве не чепуха мне послышалась? – все так же жалобно говорил я Иллофиллиону.
– Друг мой, ты услышал великую истину. Я тебе все объясню потом. Сейчас мы подходим к нашей цели. Забудь о себе, о своем состоянии. Думай только о тех несчастных, к которым мы идем. Думай о Флорентийце, о его светлой любви к человеку. И старайся увидеть в князе и княгине цель для Флорентийца и стремись в их дом внести тот мир и свет, которые живут в сердце твоего великого друга. Думай только о нем и о них, а не о себе, и ты будешь мне верным и полезным помощником в этом тяжелом визите. И он станет легок нам обоим.
Мы вошли в дом князя, пройдя через калитку довольно большого тенистого сада.
Нас встретила уже знакомая нам по путешествию на пароходе горничная княгини и сказала, что сама княгиня все как бы спит, а князь ждет нас с нетерпением.
Мы прошли через совершенно пустые комнаты и услышали сзади себя поспешные шаги. Это догонял нас князь.
– Как я рад, что дождался вас, – обратился он к Иллофиллиону. – Я уже готов был ехать к вам, так меня беспокоит состояние княгини. Да и сам я не менее ее нуждаюсь в вашей помощи и советах, – продолжал он, приветливо улыбаясь и пожимая нам руки.
– Отчего же вас так тревожит состояние вашей жены? Я ведь предупреждал вас, что ее возврат к жизни будет очень медленным и что большую часть времени она будет спать, – сказал Иллофиллион.
– Да, это я все помню. И – что очень странно для меня самого – абсолютно и беспрекословно верю каждому вашему слову. И вера моя в вас какая-то особенная, ни с чем не сравнимая, – говорил своим тихим и музыкальным голосом князь, пропуская нас в дверь третьей комнаты, кое-чем меблированной и представлявшей собой нечто вроде кабинета.
Князь придвинул для нас кресла к столу, сел сам на табурет восточного стиля и продолжал:
– Я не стал бы вам описывать своего состояния, если бы оно не было так странно. Чувство веры в вас дает мне силу жить сейчас. Точно в мой спинной хребет влилась какая-то мощь, которая держит на своей крепкой оси все мое тело и составляет основу моей уверенности. Но как только я вспоминаю, что вы скоро уедете, – вся моя мощь исчезает, и я чувствую себя бессильным перед всеми надвигающимися трудностями жизни.
– Не волнуйтесь, дорогой мой князь, – сказал Иллофиллион. – Мы еще не так скоро уедем, во-первых. А во-вторых, сюда приедет мой большой друг вместе со своим близким товарищем и учеником, который уже получил звание доктора медицинских наук. Они тоже помогут вам. Возможно, что молодой доктор останется вам в помощь. Как видите, судьба бывает иногда более чем заботлива о нас.
– Я и выразить не могу, как я тронут вашей добротой. И главное, простотой и легкостью, с которой вы приносите людям огромную помощь, которую так легко принимать от вас, как будто это пустяки, – закурив папиросу, сказал князь и, помолчав, продолжал:
– Я сейчас очень обеспокоен. Здесь должен был встретить мою жену ее сын от первого брака, который желает, чтобы ему выделили его долю наследства еще при ее жизни. Я очень надеялся на эту встречу, думая, что этот акт раздела наследства при жизни жены освободит меня от многих мучений и судов после ее смерти. Сын ее, хотя и видный генерал и занимает высокое положение при дворе, – сутяга и стяжатель, враль и обманщик первосортный. Я получил сегодня телеграмму о том, что сам он не приедет, а присылает двух адвокатов из Москвы с доверенностью на ведение всех дел. Вы представляете себе, что это будет за ужас, если эти два франта явятся сюда, увидят мою нечленораздельно мычащую жену, не владеющую ни руками, ни ногами…
– Я вам уже сказал, – перебил Иллофиллион князя, – что речь вашей жены и ее руки восстановятся довольно скоро. Что же касается ног, то ими она владеть вряд ли будет. Но смерть ее наступит еще не скоро; и вам придется вынести тяжкий крест ухода за ней в течение не менее двух лет, а то и более. Сердце у нее исключительно здоровое. Не смотрите на эту предстоящую вам жизнь как на наказание. Великая мудрая жизнь не знает наказаний. Она дает каждому человеку возможность созревать и крепнуть именно в тех обстоятельствах, которые необходимы только ему одному. В данном случае вы не о себе думайте, а о вашей жене. Старайтесь всей добротой сердца раскрыть ей глаза. Объясните ей, что нет смерти, как и нет одной лишь земной жизни. Есть единая вечная жизнь живой земли и живого неба. Это жизнь вечного труда всей Вселенной на общее благо; духовная жизнь света и радости, включенная в плотные и тяжелые формы земных тел людей. И вся земная жизнь человека – это не одно-единственное конечное существование от рождения до смерти. Это ряд существований. Ряд плотных, видимых форм, в которых всегда присутствует единая, вечная жизнь, меняющая лишь свои условные временные земные формы. У нас с вами будет еще не один разговор на эту глубочайшую тему, если вас это интересует. Сейчас я хотел только, чтобы вы осознали все величие и смысл каждой земной жизни человека, чтобы вы поняли, как ясно он должен видеть всё, что есть в самом себе и вовне. Какую мощь в себе имеет каждый, если он научился владеть собою, если он может – в одно открывшееся его знанию мгновение – забыть о себе как о временной форме и постичь присутствие в себе глубокой любви, способной принести помощь и гармонию другому сердцу.