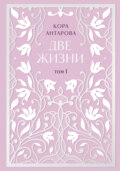Конкордия Антарова
Две жизни. Роман в четырех частях
Что же касается денег, отданных в твое полное распоряжение, думаю, что капитан хотел их подарить тебе, дружок, чтобы и ты чувствовал себя независимым в дальнейшем, пока сам не заработаешь себе на жизнь.
– О нет, дорогой Иллофиллион. Капитан в очень простых отношениях со мною. И если бы он хотел отдать их лично мне, он поступил бы как молодой Али, оставив их в письме. У меня нет сомнений в этом, и лично себе я бы их не взял никогда. Я думаю, что я так малоопытен, что сам едва ли сумел бы распорядиться ими как следует. Но при вас эта проблема отпадает. Одно ясно мне, что деньги эти я употреблю – во имя Лизы и Анны – на покупку инструментов талантливым беднякам-музыкантам, если таких встречу до нового свидания с капитаном. Если же не встречу или вы не укажете мне иного применения этим деньгам – они вернутся к нему. Я очень хотел бы, Лоллион, услышать ваше мнение об этом.
– Поступи как считаешь нужным, дружок. Запрета здесь нет никакого. Но почему ты решил, что лично себе не оставишь этих денег? Разве твой брат не мог бы нуждаться в них?
– Мой брат – мужчина и чрезвычайно благородный человек. Если он решил жениться – значит, он не настолько беден, чтобы не иметь возможности обеспечить жену. А если бы я узнал, что он нуждается, то пошел бы в какую угодно тяжелую кабалу, но послал бы ему только то, что смог бы заработать сам. Я и так в бесконечном долгу у вас, у Флорентийца и у молодого Али. Конечно, я в долгу и у брата. Но если я могу еще рассчитывать возвратить ему свой долг, то уж вам я никогда не смогу вернуть и сотой его доли.
– Все это предрассудки, Левушка. Человек закрепощает себя в долгах и обязанностях. Иногда он так утопает в мыслях о своих нравственных долгах, что положительно похож на раба, подгоняемого со всех сторон плеткой долга. А смысл жизни – в освобождении. Только то из добрых дел достигает творческого результата, что сделано легко и просто.
Принимай все, что посылает тебе жизнь, совершенствуйся, учись и рассматривай себя как канал, как соединительное звено между нами, которых ты ставишь так высоко, и людьми, которым сострадаешь. Передавай, разбрасывай полной горстью всем встречным все то, что поймешь и примешь от нас и через нас. Все высокое, чего коснешься, неси земле – и выполнишь свою задачу жизни. Но то будет не тяжкий и скучный долг добродетели, а радость и мир твоей собственной звенящей любви.
– Далеко еще мне, Лоллион, до всей той мудрости, которую я слышу и вижу в вас. Я самых простых вещей не умею делать. Все раздражает меня. Иногда даю себе слово помнить о вас, о Флорентийце, поступать так, как будто бы вы стоите рядом, – и при первой же неприятности спотыкаюсь, горячусь – и все летит вверх дном.
– Пока ты будешь повторять себе – умом, – что я рядом с тобой, всегда твое самообладание будет пороховой бочкой. Как только ты почувствуешь, что сердце твое живет в моем и мое – в твоем, что рука твоя в моей руке, ты уже и думать не будешь о самообладании как о самоцели. Ты будешь его вырабатывать, чтобы всегда быть готовым выполнить возложенную на тебя задачу. И времени думать о себе у тебя не будет…
Иллофиллион помолчал, думая о чем-то, и продолжал:
– Сегодня мы с тобой не будем обедать с князем, которому надо очень о многом переговорить с Анандой. Если ты отдохнул, мы можем с тобой поехать к нашему другу кондитеру, заказать ему пирожные к завтрашнему вечеру и у него же поесть. Но предварительно мы можем заехать в банк; у меня там есть один знакомый, который быстро сделает все, что нужно, и уже завтра Жанна будет извещена, что она владелица определенного состояния. При ее буржуазной психологии это будет для нее огромным облегчением в жизни.
Я был очень благодарен Иллофиллиону за его неизменную доброту ко мне. У меня вертелся на языке вопрос о Генри, о Браццано, хотел бы я спросить кое-что и о Хаве, – но ни о чем не спросил, пошел в душ, и вскоре мы уже были в огромном зале банка, где сотни спускающихся с потолка вращающихся вееров не могли умерить жары.
Одна часть денег была положена на имя Жанны, с правом пользоваться ею как угодно. Вторая была переведена на мое имя по адресу, указанному мне Иллофиллионом, с какими-то мудреными индусскими названиями, никогда мною не слышанными.
Пока мы сидели в банке, ожидая исполнения нашего заказа, я поделился с Иллофиллионом своей печалью, что ничего не могу подарить капитану, оставившему мне на память такое великолепное кольцо.
– Не горюй об этом. Капитан очень счастливый человек. Он получил от Ананды кольцо, как залог их вечной дружбы. Ананде капитан вернул вещь, имеющую для него очень большое значение. Вообще теперь путь капитана не будет одиноким, и Ананда всегда сможет помочь ему.
Тебе же я могу дать платок сэра Уоми, точно такой же, какой он передал Анне. Если хочешь, – подари его капитану и заверни в него книгу, которую я тоже дам тебе для него. Ты можешь написать ему письмо, а потом положить все к нему на стол. Он вернется и будет радоваться твоему подарку больше, чем всем драгоценностям, которые ты мог бы ему подарить.
Я от всей души поблагодарил Иллофиллиона и сказал ему: «Опять все от вас!»
Через некоторое время нас вызвали к кассовому окошку, все было оформлено и мы пошли к кондитеру, покинув банк почти в минуту его закрытия.
На улице уже не было удушливой жары, слегка повеяло влагой с моря – и я ожил.
– Трудно тебе будет привыкать к климату Индии, Левушка. Надо будет пообщаться с Флорентийцем и получить его указания, как укрепить твое здоровье, – задумчиво сказал Иллофиллион, беря меня под руку.
– Сэр Уоми велел мне ездить верхом, заниматься гимнастикой и боксом, а второй приступ моей болезни все перевернул, – ответил я.
Дойдя до кондитерской, мы передали хозяину наш заказ на завтра. Я просил его приготовить непременно таких же пирожных, как он прислал мне для принца-мудреца. Накормив нас опять на том же уединенном балконе, хозяин сообщил нам новость, облетевшую весь Константинополь. На этой неделе произошли крупные события: один из главных богачей города, некто Браццано, и около десятка его приятелей – таких же биржевых воротил, державших в своих руках весь торговый Константинополь, – оказались шайкой злодеев. Они объявили себя банкротами и таким образом разорили половину города, в том числе и некоторых друзей кондитера. Часть злодеев успела сбежать, часть арестована, а где находится их главарь, Браццано, никто пока не знает.
Мы выслушали его рассказ, посочувствовали горю его приятелей и вернулись домой.
Мысли о Браццано и слова сэра Уоми, что мой поцелуй перенес силу мирового закона пощады в его ужасную жизнь, не давали мне покоя. Я уже стал внутренне опять раздражаться на целую сеть каких-то таинственных событий, готов был крикнуть: «Я ненавижу тайны», как услышал голос Иллофиллиона:
– Левушка, не все то тайны, чего ты еще не понимаешь. Но если ты хотел обрадовать чем-нибудь милого капитана и написать ему письмо, то в этом состоянии раздражения, в которое ты впал, ты ничего не только радостного, но и просто путного не сделаешь.
Возьми мою руку, почувствуй мою к тебе любовь и постарайся вместе с этим платком сэра Уоми передать капитану всю свою чистую и верную дружбу.
Приготовь в своей душе такое же тщательно прибранное рабочее место, как это сделал на твоем столе капитан, поставив тебе цветы, которых ты до сих пор не заметил.
Пиши ему не просто письмо, обдумывая каждое слово, а брось ему цветок твоей молодой души, полной порыва той высокой любви, которая заставила тебя дать поцелуй падшему, но разбитому и униженному существу.
Передай капитану такой же прощальный привет, какой тебе передавали и Флорентиец, и сэр Уоми. Они думали только о тебе. Думай и ты только о нем. Постарайся встать в его положение; подумай о его предстоящей жизни и представь себя в его обстоятельствах.
Любовь к человеку поведет твое перо с таким тактом, что капитан поймет и увидит в лице твоем друга не временного, в зависимости от меняющихся обстоятельств, а неизменного и верного, готового явиться на помощь по первому зову и разделить все несчастья или всю радость.
Иллофиллион стоял, обнимая меня, голос его звучал так ласково. Я точно растворился в какой-то гармонии, радости, благоговении. Все мелкое, ничтожное отошло куда-то. Я увидел самый высокий, скрытый от всех храм человеческого сердца, о котором не говорят, но который движет и животворит все, что ему встречается.
Мне стало удивительно хорошо. Я взял из рук Иллофиллиона синий платок, пошел в его комнату за обещанной для капитана книгой и вернулся к себе, чтобы сесть за письмо.
Не так много писем писал я на своем веку с такой радостью и с такой умиленной душой, как писал в этот раз капитану. Точно само сердце водило перо в моей руке, так легко и радостно я писал:
«Мой дорогой друг, мой храбрый капитан, который еще ни разу в жизни не любил до конца, не был ни верен, ни бесстрашен до конца, – писал я. – В эту минуту, когда я переживаю разлуку с Вами – и кто может знать, как долго продлится она, – сердце мое открыто Вам действительно до конца. И все мысли моей ловиворонной головы, как и все силы сердца, принадлежат в эту минуту Вам одному.
Пытки разлуки, так томящей людей пытки неизвестности, заставляющей оплакивать любимое существо, покидающее нас для нового периода неведомой жизни, – не существует для меня.
Я знаю, что как бы ни разлучила нас жизнь и куда бы ни забросила она каждого из нас, Ваш образ для меня не только страница жизни, и не только ее эпизод. Но Вы мой вечный спутник, доброта и любовь которого – так незаслуженно мною и так великодушно мне отданные – вызвали во мне ответную дружескую любовь, верность которой отдана Вам и навсегда, и до конца.
Я не могу сейчас определить, как и чем я мог бы отплатить Вам сколько-нибудь за всю Вашу нежность и за то, что Вы меня так баловали. Но я знаю твердо, что куда бы и когда бы Вы меня ни вызвали – если моя маленькая помощь Вам понадобится, – я буду рядом с Вами.
Ваше желание относительно Жанны уже исполнено. И завтра она будет владелицей своего капитала, за что – я не сомневаюсь – боги воздадут Вам должное тоже «до конца».
Вторая часть денег, отданная Вами в мое распоряжение, назначается мною для помощи бедным талантливым музыкантам. Во имя Лизы и Анны (о, как бы я хотел когда-нибудь услышать игру Лизы) я буду покупать инструменты и помогать учиться юным талантам – Вашим именем, капитан.
Я не ручаюсь, что, обнимая Вас, держа Ваши тонкие, прекрасные руки в своих при расставании, я не заплачу. Но это будут только слезы балованного Вами ребенка, теряющего своего снисходительного и ласкового покровителя.
Тот же мужчина, который Вам пишет сейчас, благоговейно целует платок сэра Уоми, который просит Вас принять на память, как и книгу Иллофиллиона. И тот же друг-мужчина говорит Вам: между нами нет разлуки. Есть один и тот же путь, на котором мы будем встречаться и расставаться, но верность сердца будет жить до конца.
Ваш Левушка – лови ворон».
Я запечатал письмо, завернул книгу Иллофиллиона в платок, а потом в очаровательную, мягкую, гофрированную и блестящую как шелк константинопольскую бумагу; обвязал ленточкой, заткнул за нее самые лучшие, белую и красную, из роз капитана и отнес сверток нему в комнату, положив его на ночной столик.
Спать мне не хотелось. Я вышел на балкон и стал думать о сэре Уоми. Как и где он теперь едет? Как едут с ним и доедут ли фрезии капитана? Посадит ли он их в своем саду?
Через несколько минут ко мне вышел Иллофиллион и предложил пройтись. Мы вышли в тихий сад; на небе сверкали зарницы и вдали уже слышались раскаты грома. Мы все же успели подышать освеженным воздухом, поговорили о завтрашнем плане, условились о часе посещения княгини и Жанны и вернулись в дом с первыми каплями дождя, столь редкого в это время года в Константинополе.
Утро следующего дня началось для меня неожиданно поздно. Почему-то я проспал непривычно долго. Никто меня не разбудил, и сейчас в обеих соседних комнатах стояла полная тишина.
Я как-то не сразу дал себе отчет, что сегодня последний день стоянки корабля капитана, что завтра к вечеру еще один дорогой мне образ друга исчезнет из моих глаз, плотно поселившись в моем сердце и заняв там свое, только ему принадлежащее, место.
«Не сердце, а просто резиновый мешок, – подумал я. – Как странно устроен человек! Так недавно в моем сердце царил единственный человек – мой брат. Потом – точно не образ брата сжался, а сердце расширилось – рядом с ним засиял Флорентиец. После этого там поселился, властно заняв не менее царское место, сэр Уоми. Теперь же там живут уже и Иллофиллион, и оба Али, и капитан, Ананда и Анна, Жанна и ее дети, князь и даже княгиня. А если внимательно присмотреться, я встречу там и Строгановых, и обоих турков, и… Господи, только этого недоставало, – самого Браццано».
Уйдя в какие-то далекие мысли, я не заметил, как вошел Иллофиллион, но услышал его веселый смех.
Опомнившись, я хотел спросить его, почему он смеется, но тут обнаружил, что сижу на диване, держа в руках рубашку, в одной туфле, завернутый в махровую простыню.
– Ты, Левушка, через двадцать минут должен быть со мною у Жанны, мы ведь с тобой вчера об этом договорились. А ты еще не оделся после душа, и ждать тебя, кажется, бесполезно.
Страшно сконфуженный, я сказал, что мы будем у Жанны вовремя. Я молниеносно оделся и у парадных дверей столкнулся с верзилой, несшим мне записку от капитана.
Капитан писал, что дела его складываются на редкость удачно и что он ждет меня обедать у себя на пароходе в семь часов, с тем чтобы к девяти часам быть вместе у Анны.
Я очень обрадовался. Иллофиллион одобрил предложение капитана, а верзила сказал, что ему велено в половине седьмого зайти за мной и доставить меня в шлюпке на пароход.
Мы помчались к Жанне. Я так был голоден, что, не разбирая жары и тени, бежал без труда и ворчания.
– Я вижу, голод лучшее средство для устранения твоей непереносимости жары, – подтрунивал надо мною Иллофиллион, уверяя, что Жанна меня как следует не накормит, поскольку в праздник ей тоже хочется расслабиться и отдохнуть.
Но Жанна была свежа и прелестна, немедленно усадила нас за стол, и приготовленный ею французский завтрак был мною, и даже Иллофиллионом, оценен по достоинству.
Когда мы перешли в ее комнату, где весь угол с кроватью был задернут ее новым, необыкновенным пологом, Жанна показала нам бумагу из банка, полученную ею рано утром, содержания которой, написанного по-турецки и английски, она не понимала.
Иллофиллион перевел ей на французский язык смысл бумаги. Жанна, с расширенными глазами, в полном изумлении, молча смотрела на Иллофиллиона. Томительно долго просидев в этой напряженной позе, она наконец сказала, потирая лоб обеими руками:
– Я не хочу, я не могу этого принять. Поищите, пожалуйста, кто это мне прислал.
– Здесь никаких указаний нет, даже не сказано, из какого города это прислано вам. Говорится только, что «Банк имеет честь известить госпожу Жанну Моранье о поступлении на ее имя вклада, полной владелицей которого она состоит со вчерашнего дня», – прочел ей еще раз выдержку из банковской бумаги Иллофиллион.
– Это опять князь. Нет, нет, невозможно. От денег для детей я не имела права отказаться, но для себя… Я должна работать. Вы дали мне в долг так много, доктор Иллофиллион, что не все ваши деньги ушли на оборудование магазина. И мы с Анной уже заработали много больше, чем рассчитывали. Я должна вернуть это князю.
– Чтобы вернуть князю эти деньги, надо быть уверенной, что их дал вам именно он. В какое положение вы поставите себя и его, если ему и в голову не приходило посылать их вам! Успокойтесь, пожалуйста. Вы вообще в последнее время слишком много волнуетесь, и только поэтому так неустойчиво ваше здоровье. Час назад вы походили на свежий цветок, а сейчас вы словно больная старушка, – говорил ей Иллофиллион. – Все, в чем я могу вас уверить – что ни князь, ни я, ни Левушка – никто из нас не посылал вам этой суммы. Примите ее смиренно и спокойно. Если удастся, сохраните ее целиком для детей. Быть может, вы встретите какую-нибудь мать в таком же трудном положении, в каком были вы сами на пароходе, – и будете счастливы, что ваша рука может передать ей помощь чьего-то доброго сердца и, возможно, спасти несчастных от голода и нищеты.
– Да! Это действительно может заставить меня принять деньги неизвестного мне благодетеля, который не хочет, чтобы я знала его имя, – снова потирая свой лоб, как бы желая стереть с него какое-то воспоминание, сказала Жанна.
– Что с вами, Жанна? Почему вы снова чуть не плачете? Зачем вы все трете лоб? – спросил я, будучи не в силах переносить ее страдания и вспоминая слова капитана о ней.
– Ах, Левушка, я в себя не могу прийти от одного ужасного сна. Я боюсь его кому-нибудь рассказать, потому что надо мной будут смеяться или сочтут за сумасшедшую. А я так ужасаюсь этим сном, что и вправду боюсь сойти с ума.
– Какой же сон вы видели? Расскажите нам все, вам будет легче, а может быть, мы и поможем вам, – сказал ласково Иллофиллион.
– Видите ли, доктор Иллофиллион, мне снилось, что страшные глаза Браццано смотрят на меня, а кто-то, как будто Леонид, – но в этом я не уверена, – дает мне браслет – ну точь-в-точь как Анна носит, – и нож. И Браццано велит мне бежать к князю в дом, найти там Левушку и передать ему браслет. А если меня не будут пускать, то я должна хоть убить препятствующего, но Левушку найти. И я бегу. Бегу по каким-то улицам, нахожу дом, вбегаю в комнату и уже знаю, где найти Левушку, но кто-то мне заслоняет дорогу. Я борюсь, умоляю, наконец слышу голос Браццано: «Бей или я тебя убью», – и хватаю нож… и все исчезает, только ваше лицо стоит передо мной, доктор Иллофиллион. Такое суровое, грозное лицо… И я просыпаюсь. Не могу понять, ни где я, ни что со мной… Засыпаю и снова тот же сон. Это, право, до такой степени ужасно, что я рыдаю часами, не в силах преодолеть ужаса, в страхе, что снова увижу этот ужасный сон.
– Бедняжка Жанна, – взяв обе ее крохотные ручки в свои, сказал Иллофиллион. – Ну где же этим ручкам совершить убийство? Успокойтесь. Забудьте навсегда этот сон, тем более что Браццано, совершенно больного, увезли из Константинополя. Он живет сейчас где-то в окрестностях. Ваш страх совершенно неоснователен. Перестаньте думать обо всем этом. И мое лицо вспоминайте и знайте ласковым, а не суровым. Почему вы отказались сегодня идти к Анне слушать музыку? – все держа ее ручки в своих, спросил Иллофиллион.
– Анне я сказала, что побуду с детьми. И правда, я их так забросила в последнее время. Если бы не Анна, плохо бы им пришлось. Но на самом деле я не могу без содрогания видеть ни Строганову, ни Леонида. Почему я их стала так бояться, сама не знаю. Но в их присутствии я дрожу с головы до ног от каких-то предчувствий.
– Страх – плохой советчик, Жанна. Вы – мать. Какая огромная ответственность лежит на вас за детей. Чтобы воспитать своих малюток, вы прежде всего сами должны воспитывать себя. У вас совсем нет выдержки в общении с детьми, и вы в последнее время внушаете им постоянный страх, в любую минуту они ждут от вас окрика или шлепка.
Мужайтесь, Жанна. Разные чувства жили в вас по отношению к Анне. Только теперь, когда вы увидели, что Анна – вторая мать вашим детям и настоящая воспитательница, вы смирились, и лишь изредка в вашем сердце шевелится ревность.
Ваша девочка умна не по годам. Это организм очень тонкий, богато одаренный. Думайте о том, что ей придется жить в условиях более сложных, чем прожили вы свою молодость. Остерегайтесь постоянного раздражения и повышенного тона с детьми. Незаметно между вами и ими может вырасти пропасть. Они перестанут видеть в вас первого друга и, как бы вы ни любили их, не поверят вашей любви, если вы постоянно говорите с ними раздраженным тоном.
– Я все это понимаю, но ничего не могу сделать. Раньше я думала, что характер легко поправить. Но теперь вижу, что не могу и часу находиться в спокойствии, – ответила Жанна.
– И все же – как это ни вызывало в вас протеста – думайте о детях прежде всего, а потом уже о себе, – сказал Иллофиллион, подымаясь и пожимая руки Жанне.
Я заметил, что лицо ее снова просветлело, выражение уныния и тревоги с него исчезло, и на губах мелькнула улыбка.
Прощаясь с нами, она спрашивала, скоро ли мы уезжаем, едем ли снова на пароходе с капитаном, на что Иллофиллион отвечал ей, что уедем скоро, а каким путем – еще не решили.
– Как это будет для меня ужасно! Остаться здесь без вас, – я даже еще не представляю себе этого и гоню эти мысли. Я так привязана к вам, доктор Иллофиллион, и в особенности к Левушке. Я вижу в вас моих единственных благодетелей.
– Жанна, Жанна, – сказал я с упреком. – Разве только мы помогли вам на пароходе? А капитан? Его заботы о вас вы уже забыли? А то, что здесь, рядом с вами, живет и трудится Анна? Анна, ни разу не давшая вам почувствовать своего превосходства… А вы в вашей благодарной памяти сохраняете только нас? Тогда как обо мне вообще не может быть и речи, что я не раз уже пытался вам объяснить.
– Да, Левушка, это все я понимаю. И князя я ценю, и всех-всех. Но ничего не могу поделать: все же доктор Иллофиллион останется для меня недосягаемым божеством, капитан – знатным сэром, в доме которого меня, шляпницу, дальше передней или туалетной и не пустили бы, а вы для меня – все равно что родное сердце. Я всем очень благодарна, знаю, что всем должна отслужить за их доброту, а вам, уверена, могу ничем никогда не отслуживать. И если у вас будет дом, то я в нем всегда найду приют, даже если буду старая и безобразная. Не умею, не знаю, как это сказать – я такая глупая, – тихо прибавила Жанна.
У нее текли слезы по щекам, и я не мог видеть бедняжку так много плачущей.
– Жанна, – обнимая ее, сказал я. – Это потому вы чувствуете такую уверенность во мне, что я ровно такой же ребенок, неопытный и неумелый в жизни, как и вы. И правда, я принял вас и ваших детей до конца в мое сердце. Но и другие – еще больше, чем я, – поступают относительно вас так же. Но вы почему-то можете видеть и понимать только мое сердце и не можете ни видеть, ни понимать сердца людей, выше вас стоящих. Потому и думаете так только обо мне одном.
Я поцеловал обе ее руки. Иллофиллион сказал ей, что Хава вернется только после музыкального вечера, но чтобы она ни о чем не волновалась и ложилась спать, приняв данное им лекарство.
Мы пошли домой, но на сердце у меня стало тяжело. Мне было жалко Жанну. Я сознавал, что она не сможет создать ни себе, ни детям спокойной, радостной жизни. Как-то особенно ясно представлялась мне ее будущая жизнь в целом ряде лет. И я почувствовал, что, даже окруженная вниманием и заботами и князя, и Анны, она не будет ни откровенна, ни дружна с ними, так как уровень ее сознания не даст ей увидеть их внутренней силы, к которой можно примкнуть, а доброту их она будет принимать за снисхождение к себе.
– Что, Левушка, сложности жизни допекают тебя?
– Допекают, Лоллион, – ответил я, уже не поражаясь больше его умению проникать в мои мысли. – И не то мне досадно, что сила в людях так понапрасну растрачивается на вечные мысли об одних себе. Но то, что человек закрепощает себя в этих постоянных мыслях о бытовом комфорте и примитивном общении. Он поверяет другому свои тайны и секреты, недалеко уходящие от кухни и спальни, воображает, что это-то и есть дружба, и лишает свою мысль силы проникать интуитивно в смысл жизни; тратя так попусту свой день, человек не ищет не только высших знаний, но даже простой образованности. И в такой жизни нет места ни для священного порыва любви к родине или другому человеку, ни для великой идеи Бога, ни для радостей творчества. Неужели быт – это жизнь?
– Для многих миллионов – это единственно приемлемая жизнь. А для всего человечества – это неминуемая стадия развития. Чтобы понять очарование и радость раскрепощения, надо сначала осознать рабство от окружающих вещей и страстей. Чтобы понять мощь свободного духа, творящего в независимости, надо хотя бы на мгновение познать в себе эту независимость, ощутить в себе полную свободу, чтобы желать расти все дальше и выше; все чище и проще сбрасывает с себя ярмо личных привязанностей тот, кто осознал жизнь как вечность.
Обыватель считает свою жизнь убогой, если в ней не бушуют порывы, и он не имеет возможности блистать во внешней жизни. Отсюда – от жажды славы, богатства и власти – люди доходят до той ступени падения, которую ты видел в Браццано. Но есть и худшие. И только избранник по своей внутренней сердечной доброте и запросам, а внешне – ничем не выделяющийся человек – может увлекаться идеями и мыслями, о которых ты сейчас говорил. Великие встречи, переворачивающие всю жизнь человека, редки, Левушка. Но зато имевший однажды такую встречу, внезапно перерождается и уже не возвращается больше на прежнюю дорогу быта в маленькое, обывательское счастье. Он уже знает, что такое Свет на Пути.
Подходя к дому, мы столкнулись с Анандой и князем, возвращавшимися в экипаже домой. Ананда приветливо поздоровался со мной, пытливо на меня посмотрел и, улыбаясь, спросил:
– Как, Левушка? Сердце пощипывает! А почему не плачешь?
– Приберегаю к вечеру. Боюсь, вдруг сегодня не заплачу от вашей человеческой виолончели и ваших песен.
– Почему же моя виолончель человеческая? А какая еще бывает? – смеялся Ананда, наполняя металлом все вокруг.
– Ваша виолончель поет человеческим голосом, поэтому я ее так и назвал. Какая еще бывает виолончель – не знаю. Но что ваш смех, конечно, «звон мечей», – это я знаю теперь уже наверняка! – воскликнул я.
– Дерзкий мальчишка! Вот заставлю же тебя плакать вечером.
– Ни, ни, и не думайте! На завтра для капитана надо сберечь слезинку на прощание. А то вы ведь ненасытный! Вам – все до конца. Ан и ему надо!
Не только Ананда, но и Иллофиллион с князем смеялись, я же залился смехом и убежал к себе.
Через некоторое время оба мои друга вошли в мою комнату.
– Ну, убегающий от звона мечей с поля сражения трусишка, признавайся, какую еще каверзу придумал ты мне? – шутил Ананда.
– Вам я каверзы придумать не в силах. Вы вмиг все рассеете, только взглянете своими звездами.
– Как? – прервал меня Ананда. – Так я не только звон мечей, но еще и звезды?
– Ну, тут уж я не виноват, что вам Матерь-Жизнь дала глаза-звезды. Это вы с нее спросите. А вот что сказать капитану от вас? Я еду к нему на пароход обедать. Что мне ему от вас отвезти? – спросил я, представляя себе радость капитана, если бы Ананда послал ему привет.
– Это очень хорошо, что ты так верен другу и думаешь о нем. Пойдем со мною, я, может быть, что-нибудь для него найду.
Мы спустились по винтовой лестнице прямо к Ананде, в его очаровательную комнату.
Как здесь было хорошо! Какая-то особенно легкая атмосфера была в этой комнате. Я сел в кресло и забыл все на свете. Так и не ушел бы отсюда вовек. Я наслаждался гармонией, окружавшей меня.
Не знаю, минуту я просидел или час, но отдохнул я – точно неделю спал.
– Отдай это капитану. Пусть он передаст эту вещь своей жене, когда вернется домой после свадьбы, – подавая мне небольшой футляр странной формы из фиолетовой кожи, сказал Ананда.
– А я и не знал, что капитан так скоро женится, – беря футляр, сказал я.
– Он женится, быть может, и не так скоро, но, во всяком случае, в следующее ваше свидание он будет уже женат.
– Ах, как бы я хотел услышать игру Лизы! Лучше ли, чем Анна? И так ли завораживает ее игра, что дыхание перехватывает? До чего же я глуп! А в вагоне я все примерялся к Лизе и раздумывал, может ли она меня полюбить, – залившись смехом, вспоминал я свои вагонные размышления.
– Когда будешь обедать с капитаном, не говори ему ничего о Лизе. Даже не спрашивай, поедет ли он в Гурзуф, хотя бы он сам когда-то говорил тебе об этом.
– Это ваше приказание, Ананда, я должен хорошенько запомнить, так как хотел непременно поговорить с ним о Лизе. Теперь, конечно, воздержусь.
– И мой запрет не вызывает в тебе ни протеста, ни возмущения?
– Как же могу я протестовать против ваших запретов, раз я верю и по собственному опыту знаю, как вы угадываете мысли людей и как правильно определяете каждого человека. Я боюсь только стать «лови ворон» и в рассеянности что-нибудь брякнуть, – ответил я Ананде.