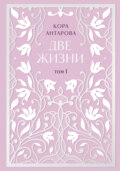Конкордия Антарова
Две жизни. Роман в четырех частях
Глава 16
В Константинополе
Поздний вечер в Константинополе произвел на меня ошеломляющее впечатление. Необычный говор, суета, мелькание фесок и гортанные выкрики, пристающие со всех сторон представители отелей, шум невиданных мною чудных фиакров[5] – от всего этого я просто одурел и, наверное, потерялся бы, если бы мое внимание не привлекла Жанна с детьми в сопровождении доктора и двух итальянок, которых встречали их сановитые родственники, – и все они ждали нас на берегу.
Жанна поспешила мне навстречу, ласково прося Иллофиллиона разрешить ей ухаживать за мной, пока я болен, и хотя бы этой ничтожной услугой отплатить нам за все наше внимание к ней.
Я рассмеялся, ответив ей, что я совершенно здоров и только из любви и уважения к Иллофиллиону подчиняюсь его распоряжениям, разыгрывая из себя больного.
Тут итальянки познакомили нас со своими родственниками, и важный посол предложил Иллофиллиону поместить меня в его тихом доме. Но Иллофиллион категорически отказался, уверив всех, что мне даже полезен шум, только не следует двигаться.
Высказав сожаление, что я не поеду с ними, итальянки простились с нами, обещая завтра навестить нас в отеле, и уехали.
Мы пошли к отелю все вместе, с Жанной и детьми; шли пешком, очень медленно и недолго. Турки уже поджидали нас у подъезда отеля, где заказали нам и Жанне комнаты на одном этаже.
Только когда мы поднялись на свой этаж, я заметил, как осунулась и изменилась Жанна. На мой вопрос, что ее печалит, она прошептала:
– Я пережила такой страх, такой страх, когда вы были больны, что теперь не могу еще опомниться и часто целыми часами плачу и дрожу.
– Вот видите, как пагубно действует страх, – сказал ей Иллофиллион. – Я ведь несколько раз говорил вам, что Левушка выздоровеет. Теперь он здоров, а вас придется сначала полечить, прежде чем найти вам работу.
– Нет, уверяю вас, нет! Я могу завтра же начать работать. Только бы мне знать, что Левушка здоров и весел, – ответила Жанна.
Мы разошлись по своим комнатам. Я сердечно поблагодарил матроса-верзилу за его заботы. Иллофиллион хотел щедро наградить его, но благородный парень не взял никаких денег. Он успел привязаться к нам за время нашего плавания и просил разрешения навещать нас, пока пароход будет ремонтироваться.
Как я ни хотел считать себя вполне здоровым, но разделся я с трудом, и снова все плыло перед моими глазами.
Долго ли спал – не знаю, но проснулся я от голосов в соседней комнате. Взглянув на часы, я убедился, что уже проспал раннее утро, было без малого десять часов. Стараясь бесшумно одеться, я неловко задел стул, и на раздавшийся стук Иллофиллион открыл свою дверь, спрашивая, не упал ли я.
Убедившись, что со мной все в порядке, он предложил мне выпить кофе на балконе моей комнаты в компании капитана, который уже пришел, а затем позавтракать в обществе Жанны, молодого турка и капитана, пока он, Иллофиллион, будет со старшим турком обсуждать дела Жанны.
Я понял, что Иллофиллион не хочет говорить в присутствии капитана о наших делах, ради которых мы, собственно, и приехали сюда. Но что он пошел узнавать о моем брате, я не сомневался.
Оставшись вдвоем с капитаном, я еще больше имел возможность убедиться в разносторонности и образованности этого человека. Мало того, что он повидел весь мир, совершив кругосветное плавание несколько раз, – он еще и знал характерные стороны жизни каждого народа и говорил почти на всех языках. Необыкновенная наблюдательность, а также бдительность и внимательность настоящего моряка, привыкшего ожидать сюрпризы вероломного моря, приучили его к почти безошибочному пониманию людей. Я был поражен тем, как метко и тонко он охарактеризовал Иллофиллиона и как угадал некоторые черты моего характера. О Жанне он сказал, что, по его мнению, она была сейчас на грани психического заболевания от перенесенного потрясения.
– Женщина, – сказал он мне, – в минуты величайшего горя редко может оставаться одна. Она, сама того не сознавая, тянется к человеку, оказавшему ей внимание, чтобы хотя бы немного приглушить боль горя от потери любимого. И мужчине, честному джентльмену, надо быть очень осторожным и внимательным в своих словах и поступках, чтобы не создать себе и ей ложного положения. Не раз в жизни я видел, как утешавший в горе женщину мужчина попадал в безвыходное положение. Женщина обрушивалась на него всей тяжестью своего страдания и привязывалась к нему так сильно, что ему приходилось или жениться, или бежать, причинив ей новое страдание.
Эти слова причинили мне боль. То же или почти то же самое говорил мне Иллофиллион. Я невольно примолк и задумался, как трудно мне еще разбираться в глубинах человеческих чувств, где мне все кажется простым, а на самом деле таит в себе шипы и занозы.
Речь перешла на Жанну, которая должна была завтракать с нами. Капитан вызвал метрдотеля, заказав ему в моей комнате изысканный французский завтрак на три персоны, более похожий на обед, и велев украсить стол розами, а я просил принести только красных и белых.
К часу дня стол был сервирован, я написал Жанне записку, прося пожаловать ко мне завтракать. Через несколько минут раздался стук в дверь, и тонкая фигурка Жанны в белом платье обрисовалась на фоне темного коридора.
Я встретил мою гостью у самого порога и, поцеловав ей руку, пригласил ее к столу. Я еще не видел Жанну такой сияющей, свежей и веселой. Она сразу забросала меня вопросами и о моем здоровье, и об Иллофиллионе, и о том, как долго мы будем в Константинополе – я не знал, на какой из вопросов отвечать.
– Я так рада, так рада, что проведу с вами сейчас время. Мне надо о тысяче дел вам рассказать и еще о тысяче у вас спросить. И никак не находилось возможности это сделать.
– Позвольте вас познакомить с моим другом, которого вы знаете как капитана, но не знаете как удивительного собеседника и очаровательного кавалера, – сказал я ей, воспользовавшись паузой в ее речи.
Жанна так безотрывно смотрела на меня, что не заметила капитана, стоявшего в стороне, у стола. Капитан, улыбаясь, подошел к ней и подал ей белую и красную розы. Наклоняясь к ее руке, он приветствовал ее, как герцогиню и, предложив руку, провел к столу.
Когда мы сели за стол, я не узнал Жанны. Лицо ее было сухо, сурово; я даже не знал, что оно может быть таким.
Я растерянно посмотрел на капитана, чувствуя себя совсем расстроенным. Но на лице капитана я не прочел ровно ничего. Это было тоже новое для меня лицо воспитанного, вежливого человека, выполняющего все светские обязанности за столом. Лицо капитана улыбалось, его желто-золотые кошачьи глаза смотрели добродушно, но я чувствовал, что Жанна скована броней его светскости и не может выйти из рамок, заданных им.
Все ее надежды повидаться со мной наедине и сердечно поделиться мыслями о новой жизни разлетелись от присутствия чужого человека, да еще такого важного, в ореоле мощи и власти, которым окружен всякий капитан в море.
Недостаток воспитания Жанны, ее односложные ответы и нахмуренный вид превратили бы всякий завтрак в похоронный обед. Но выдержка капитана и его умение вести беседу заставили меня смеяться до слез. Жанна туго поддавалась силе юмора, но все же к концу завтрака она стала проще и веселее. Капитан, извиняясь перед нами, вышел заказать какой-то особенный кофе, который мы должны были пить на балконе в специальных чашках.
Воспользовавшись минутой, Жанна сказала мне, что вечером у нее состоится свидание с другом турка, который предоставит ей магазин с приличной квартирой на одной из главных улиц, чтобы открыть шляпное дело. Она снова и снова говорила, что приходит в ужас от одиночества и страха за свою и детей судьбу.
Я успел только сказать ей, что Иллофиллион никогда ее не оставит, что я и он – ее друзья всегда, где бы мы ни были. Но я мало преуспел в том, чтобы ее утешить, поскольку боялся сказать какое-либо неловкое слово.
Вернувшийся капитан принес нам чудесных апельсинов, вскоре принесли и знаменитый кофе. Но Жанна сидела как в воду опущенная и, уходя, отказалась от фруктов. Я упросил ее отнести детям по апельсину, а предложенные ей капитаном цветы она оставила на столе. Капитан с поклоном проводил ее до дверей.
Возвратясь ко мне на балкон, он взял подаренные им Жанне розы, вдохнул их аромат и, рассмеявшись, сказал:
– Нечасто в жизни мне приходилось терпеть поражение на дамском фронте. Но сегодня даже мои цветы, не только я, потерпели фиаско.
– Я совсем расстроен, – ответил я ему. – Даже голова у меня разболелась. Почему-то я думаю, что бедняжка теперь плачет. И право, мне очень жаль, что я так бессилен ей помочь.
– Здесь дело не в твоем бессилии что-либо сделать, а в отсутствии у нее образования и воспитания, которые могли бы ей помочь в тяжкий час жизненных испытаний. Ей надо стать женщиной-героиней, а она сейчас только женщина-жена, мать-обывательница. Это не значит, что она не сможет когда-либо подняться до иного уровня. Но ее борьба за свое счастье, за личную жизнь будет ужасна. Пока она не откажется от борьбы за любовь для себя и начнет жить для детей, – она пройдет ад страданий. Вот этому страданию я и поклонился так низко сегодня, – задумчиво сказал капитан.
– Неужели, любив однажды до самозабвения и потеряв рай сердца, можно снова начать искать его? Мне думается, если бы полюбил однажды всем существом, то я не мог бы больше приблизиться ни к одной женщине, – отвечал я.
– Не мне судить. Я прожил уже половину жизни, быть может, большую. И в ней еще не было такой минуты, когда мне хотелось бы произнести: «Остановись, мгновенье!» Я видел лишь неисчислимое количество страданий повсюду, где люди были одержимы страстями и не могли управлять своим разумом и сердцем.
Речь капитана была прервана стуком в дверь, и на приглашение войти в комнате появилась высокая фигура князя.
Пользуясь правом больного, я лежал на кушетке под спущенным темным пологом балкона; капитан встретил князя, радушно ему улыбаясь и пожав руку, и усадил его подле меня.
Князь объяснил, что искал капитана, чтобы поблагодарить его за помощь, оказанную его больной жене, а также за отличный дом, нанятый по его указанию. К нам князь также пришел поблагодарить за помощь и попросить навестить его больную жену.
Князь был элегантно одет, но выглядел неважно. Его лицо имело желтоватый оттенок, глаза были воспалены, и весь его вид говорил о большом физическом и нервном истощении.
Капитан, улыбаясь, сказал, что очень сожалеет, что он не доктор, а то, наверное, предписал бы постельный режим не жене, а мужу. Я уверил князя, что Иллофиллион непременно зайдет к нему. Но вряд ли это может случиться сегодня, так как он ушел рано утром и обещал быть к вечеру, но и вечером у него сегодня дела.
Посидев с нами около часа, князь просил разрешения зайти завтра утром, чтобы узнать, в какое время Иллофиллион мог бы навестить его жену.
Не успели мы обменяться впечатлениями о Константинополе, как снова раздался стук в дверь, и две синьоры Гальдони с букетами роз вошли к нам. Обе сияли радостью. Они пригласили меня, Иллофиллиона и капитана навестить их в их посольском особняке. Капитан сказал, что состоит сиделкой при мне, заменяя матроса-верзилу, а Иллофиллион уверяет, что мне в течение еще двух-трех дней надо соблюдать постельный режим, но что по истечении этого срока он обещает доставить меня к ним.
От итальянок повеяло хорошим тоном, хорошим обществом. А прелестные, бездонные и добрые глаза молодой синьоры Гальдони будили в сердце лучшие чувства, проникая в самую его глубину очарованием женственности.
– Вот чего не хватает бедной милой Жанне, – сказал я. – Она лучше многих, но только не умеет владеть собой – так же, как и я. Именно потому, что я так плохо воспитан, что я почти постоянно чем-нибудь раздражен, я лучше других понимаю Жанну.
– Нет, друг. Ничего общего нет в твоей и ее невоспитанности. Ты просто неопытен и еще не умеешь владеть ни своим темпераментом, ни своими мыслями. Но твой круг идей, мир высоких стремлений, в котором ты живешь, – все вводит тебя в число тех счастливых единиц, которые достигают на земле умения принести наибольшую пользу своим собратьям. Рано или поздно ты найдешь свой индивидуальный, неповторимый путь и внесешь в жизнь что-то новое – и я уверен, – большое и значительное, призванное служить общему благу. Что же касается Жанны, то дай бог, чтобы ее беспредельное личное страдание раскрепостило в ней хотя бы ее материнскую любовь и помогло бы стать матерью-помощницей и защитницей своих детей, а не матерью-тираном. Есть много случаев, когда горе, перенесенное матерью, обращается в тиранию и деспотизм по отношению к детям! Причем она сама убеждена, что ее любовь к ним – высочайший подвиг.
Я смотрел во все глаза на капитана. Лицо его было прекрасно. На нем лежала печать такой глубокой сосредоточенности, которую я видел только на лицах Иллофиллиона, Флорентийца, Али.
Мое молчание заставило его повернуться ко мне.
– Что ты так смотришь на меня, мой мальчик, мой «брудершафт»? Что нового увидел ты во мне? – сказал он, мягко и нежно касаясь моего плеча.
– Я не только увидел в вас нечто новое, но понял, что вам обязательно надо познакомиться с моим другом Флорентийцем. Это самый великий человек, которого я до сих пор видел. Даже Иллофиллион, которого вы выделяете среди всех, не может быть сравним с ним. Хотя Иллофиллион – я признаю всем сердцем – для меня недосягаемый идеал высоты и доброты. Вы, не зная моего друга Флорентийца, уже дважды произнесли те же слова, которые я слышал от него. О, если бы была возможна для меня такая минута счастья, когда я мог бы привести вас к нему.
Незаметно для нас на балкон вошел Иллофиллион.
– Ну, кажется, вы не скучаете в обществе друг друга. Но почему я не вижу здесь Жанны? Я условился с ней, что она подождет меня у тебя, Левушка, и я расскажу ей, где и как состоится ее свидание по шляпному делу. Неужели два таких элегантных кавалера не смогли рассеять тоску одной дамы? – спросил он с улыбкой, пожимая нам руки.
– Нет, – ответил капитан. – Дама заставила меня поучиться смирению. Даже цветы мои были оставлены. А хитро обдуманное меню и вовсе не имело успеха. Думаю, что как раз мое присутствие и лишило даму аппетита и хорошего настроения. Если бы не ваше распоряжение не покидать Левушку, я бы, пожалуй, сбежал с поля брани.
– Жанна очень огорчила меня. Я снова не сумел быть тактичным, Иллофиллион, и снова внес в ее жизнь расстройство, а так хотел принести мир. Должно быть, только черным женщинам может улыбаться перспектива радостных и простых отношений с таким ротозеем, как я, – иронически сказал я Иллофиллиону.
– Это еще что за черные женщины? – воскликнул капитан.
– Это первая, очень памятная встреча Левушки с чернокожей женщиной в Б., – сказал Иллофиллион. – Он впервые увидел элегантную и образованную черную женщину не на картинке, а в семье одного моего друга, и был потрясен этим, – ответил ему Иллофиллион. – Ты что-то бледен, Левушка. Я очень хотел бы, чтобы ты осторожно сошел с капитаном в сад подышать в тени. Как мне ни жаль тебя, но при моем разговоре с Жанной – до прихода того купца, который предоставляет ей магазин, – тебе надо присутствовать. Я бы и вас очень просил побыть с нами, капитан, так как я предвижу, что Жанне будет очень тяжело перестраиваться на новую жизнь одинокой трудящейся женщины. К сожалению, о ее дяде я пока ничего не узнал. Есть сведения, что он заболел и уехал к родственникам в провинцию. Но дальнейших следов нет никаких.
Капитан очень охотно согласился проводить меня в сад и вернуться со мной обратно. Иллофиллион спросил нас, не будем ли мы против того, чтобы пропустить обед и поужинать поздним вечером. Мы согласились и, спускаясь в сад, встретили обоих турок. Молодого мы захватили с собой, а старший прошел к Иллофиллиону.
Ибрагим ходил еще плохо, опираясь на палку, но сильной боли в ноге и спине уже не испытывал. Он нам составил целый план осмотра достопримечательностей Константинополя. Я пришел в восторг от ряда исторических мест, которые он называл в самом городе и окрестностях, но подумал, что и половины из них, вероятно, осмотреть не успею.
Мне очень хотелось услышать от Иллофиллиона о брате и нашей дальнейшей судьбе, но… не в первый раз за эти дни я учился уроку терпения и самообладания.
Приближался вечер, когда слуга от имени Иллофиллиона пришел позвать нас на чай. Чай был сервирован с не меньшей тщательностью, чем завтрак, заказанный капитаном. В большой комнате Иллофиллиона стол сиял серебром и всевозможными восточными сладостями.
Как только мы вошли, Иллофиллион отправился сам звать Жанну. Он не возвращался довольно долго, я начал уже беспокоиться и раздражаться, как наконец они вошли, продолжая начатый разговор, очевидно, не очень радостный для Жанны.
Она теперь была в скромном синем платье, особенно подчеркивавшем ее бледность. Кивнув мне и капитану головой, она поздоровалась с обоими турками и села на указанное ей Иллофиллионом место. Сам Иллофиллион сел рядом с нею, мы с капитаном напротив них, турки по краям стола, а место с левой стороны Жанны было пусто.
Не успели мы занять свои места, как в комнату вошел, слегка постучав, высокий старик, совершенно седой, худой, красивый, с довольно резкими чертами лица.
Иллофиллион встал ему навстречу, познакомил его со всеми и предложил ему место рядом с Жанной. Он представил его нам как Бориса Федоровича Строганова.
Приглядываясь к Строганову, я никак не назвал бы его русским. Типичное лицо турка с горбатым носом, большими черными глазами и бровями, бритое, похожее скорее на лицо актера, чем купца.
Завязался общий разговор, в котором Жанна не принимала никакого участия. На ее лице я заметил следы слез. Всем сердцем я сострадал бедной женщине и печалился тому, как трудно передать энергию от одного сердца другому. Все сидевшие за столом, я был уверен, собрались только для того, чтобы помочь ей. И все же общая воля не смогла помочь ей обрести равновесие.
Я так пристально впивался взглядом в Строганова, что он, смеясь, сказал мне:
– Бьюсь об заклад, что вы, молодой человек, писатель.
Все рассмеялись, а я с удивлением спросил:
– Почему вдруг вы сделали такой вывод?
– Да потому, что за мою долгую жизнь я много перевидел людей. И только у одних одаренных писателей мне приходилось видеть этакие глаза-шила, от которых на душе делается неспокойно. Не могу и не хочу сказать, что оказываемое вами внимание мне неприятно. Хочу только вас уверить, что я отнюдь не таинственная личность, и преступлений, тайно укрытых от наказания, за мной не числится. А потому я мало могу быть интересен вам, – сказал он, улыбаясь и протягивая мне портсигар.
– Благодарю вас, я еще не научился курить, – ответил я ему. – Что же касается пристальности моего взгляда, то приношу вам все мои извинения за свою невоспитанность. Я необычайно рассеян, и с детства ношу кличку «Левушка – лови ворон». Надеюсь, вы меня простите и не отнесетесь строго к моему грубому любопытству, – ответил я ему, огорченный, что так нелепо обратил на себя внимание нового гостя.
Он привстал на своем стуле, слегка поклонившись мне, и вежливо ответил, что его замечание не носило характера вызова, а было неумелым комплиментом мне и что теперь мы квиты.
Иллофиллион спросил его, давно ли он живет в Константинополе.
– Очень давно. Я здесь родился, – сказал Строганов. – Мой отец был капитаном торгового судна и часто бывал в Константинополе. Во время одной из стоянок он познакомился с полурусской, полутурецкой семьей и женился на одной из их дочерей. Я очень похож на мать – вот почему моя внешность противоречит моей фамилии. Все остальные члены моей семьи блондины и плотного сложения. Тот дом, где у меня сейчас есть свободный магазин, был местом моего рождения. В те времена улица, на которой он находится, еще не была одной из главных, как теперь. Вы для кого хотели снять помещение?
– Для вашей соседки, под шляпное дело, – ответил Иллофиллион.
Видя, что сосед повернулся к Жанне, Иллофиллион сказал ему, что Жанна француженка и говорит только на своем языке.
Строганов перешел на французский язык. Говорил он свободно, несколько с акцентом, но совершенно правильно.
У меня забилось сердце. Я так боялся, что нелюбезное поведение Жанны заставит Строганова передумать. Но Строганов, точно ничего не замечая, очень деловито и любезно объяснил ей все удобства расположения улицы, магазина и квартиры. Это, по его словам, был небольшой особняк; внизу был магазин и передняя, а наверху квартира из двух комнат и кухни, выходящих во двор с хорошим садом.
Видя, что Жанна молчит, он предложил ей заехать завтра за нею утром и показать ей помещение. Если ей понадобится ремонт, то его сделать недолго.
Иллофиллион очень сердечно поблагодарил Бориса Федоровича, объяснив ему, что Жанна – племянница того человека, о котором он наводил справки утром в его присутствии, и что ей предстоит остаться в Константинополе одной с двумя маленькими детьми, так как все мы едем дальше, кроме наших турецких друзей.
Строганов повернулся снова к Жанне, по лицу которой побежали слезы.
– Не горюйте, мадам, – сказал он ей. – В жизни всем приходится бороться, и почти все начинают с очень малого, чтобы заработать себе кусок хлеба. К вашему счастью, вы встретили людей, которые оказались истинно людьми и заботятся сейчас о вас. Это редкостное счастье. Быть может, вы чем-то заслужили особое расположение судьбы, так как и я буду рад помочь вам. Дело в том, что у меня есть дочь, которой сейчас 27 лет; в семнадцать лет она потеряла жениха и не пожелала более выйти замуж. Я очень хотел бы пристроить ее к какому-нибудь самостоятельному делу. Если вы можете сначала обучить ее вашему мастерству, а потом взять ее в компаньонки, то и магазин, и аренда всего дома будет вам стоить вдвое меньше.
Лицо Жанны посветлело. Прелестные губы сложились в улыбку, и она протянула, по-детски доверчиво, обе руки старику.
– Я буду счастлива иметь компаньонку в работе и делах. Я очень хорошо знаю свое дело, и за моими шляпами дамы обычно гоняются. Но в бухгалтерии, в счетах я ничего не понимаю, меня пугает эта сторона. Я была бы счастливее, если бы вы наняли меня к себе служить, а все дело было бы вашим, – быстро сказала она.
– Это, я думаю, совсем не входит в планы ваших друзей, – ответил ей Строганов. – Как я понял со слов вашего друга, вам надо иметь возможность жить независимо и растить детей. Будьте только смелы; в счетах и финансовых делах моя дочь ничего не понимает. Но она хорошо образованна, трудолюбива. А я буду первое время руководить вами обеими в ваших финансовых делах. Все доступно человеку, если он не боится, не плачет, а начинает свое дело легко и смело. Я не раз замечал, что побеждают не те, кто имеет много денег, а те, кто легко приступает к своему труду.
Дело было решено. Назавтра Жанна, Иллофиллион и Строганов должны были встретиться в одиннадцать часов утра в будущей квартире Жанны.
Я с мольбой посмотрел на Иллофиллиона, не решаясь просить разрешения идти вместе с ними. Но он, предупреждая мою просьбу, сказал Строганову, что я был серьезно болен, поэтому идти пешком или трястись в коляске мне нельзя, и спросил, нет ли возможности сделать часть пути по воде. Строганов сказал, что можно доплыть в шлюпке до старой сторожевой башни, а там лишь пересечь два квартала и выйти прямо к дому; путь по воде займет не менее получаса.
– Так мы и сделаем, – сказал капитан, глядя на Жанну, – если вся компания нас приглашает.
Жанна рассмеялась и сказала, что она-то будет счастлива, но захочет ли сам Левушка? Всем было смешно, так как моя очевидная жажда видеть все самому ясно отражалась на моем лице.
Строганов допил чай и простился с нами, доброжелательно улыбаясь. Проводить его вызвался старший турок, которого тоже ждали дома дела.
После их ухода Иллофиллион передал Жанне две толстые пачки денег, сказав ей, что они даны его друзьями для ее детей. И, если она сейчас истратит часть их на устройство магазина, то потом, когда дело станет приносить прибыль, ей следует пополнить этот капитал, так как он должен пойти на их образование.
– Может быть, мне надо было бы только поблагодарить вас и ваших друзей, господин старший доктор. Но я никак не могу понять, неужели для меня в жизни остались только дети? Неужто я сама вообще ничего не стою, если за все время путешествия никто не сказал лично мне ласкового слова, а все заботы были о детях? – сказала Жанна Иллофиллиону. – Я очень предана моим детям, хочу и буду работать для них. Но неужели лично для меня все кончено только потому, что я потеряла мужа? Меня возмущает такая тираническая установка.
Голос ее зазвучал почти истерически, и я сразу вспомнил слова капитана о том, что Жанна на грани психического заболевания.
– Когда-нибудь, – ответил ей Иллофиллион, – вы, вероятно, сами поймете, как ужасно то, что вы говорите сейчас. Вы очень больны, очень несчастны и не можете оценить всей трагичности вашего настроения. Все, что все мы могли для вас сделать, мы сделали. Но никто не может поселить в вашем сердце мир и душевное равновесие. А это первое условие, при котором труд ваш будет удачным. Вы видите в нас счастливых и уравновешенных людей. И вам кажется, что мы именно таковы, какими вы представляете нас. А на самом деле вы и представить себе не можете, дорогая Жанна, сколько трагедий пережито или переживается и сейчас еще некоторыми из нас. Я ни о чем не прошу вас сейчас; только не предавайтесь горю окончательно и не считайте, что, если Левушка и я уедем, для вас больше не будет в жизни утешения. Вы найдете утешение в успешном труде. Но не думайте сейчас о новой любви как о единственной возможности восстановить свое равновесие. Поверьте моему опыту, что жизнь без труда – самая несчастная жизнь. А когда есть любимое дело, всякая жизнь уже больше, чем на половину – счастливая жизнь.
Жанна не сказала ни слова в ответ, но я понимал, что в ее психологии первое место занимала любовь к мужчине, потом – дети, а труд для нее был лишь необходимым приложением.
Молодой турок обещал Жанне привести к ней няню-турчанку, старушку, прожившую в их доме много лет.
Таким образом, Жанне, как из мешка доброй феи, сыпались дары по устройству ее жизни.
Иллофиллион положил конец нашему не особенно веселому чаепитию, предложив всем разойтись, поскольку я стал бледным от усталости. Жанна, прощаясь со мной, сказала, что решится на аренду дома только в том случае, если я ей это посоветую. Я успел лишь ответить ей, что сам во всем следую советам Иллофиллиона, и ей следует внимательно прислушиваться к его, а не к моим словам.
Капитан с Ибрагимом ушли в ресторан, мы с Иллофиллионом отказались от ужина и наконец остались одни.
Мы вышли на балкон. Была уже темная ночь, показавшаяся мне феерией; такого дивного неба с огромными звездами я еще не видел. Освещенный огнями, чудесный и необычный город казался мне не действительностью, а сказкой.
– Я сегодня не узнал ничего нового к тем известиям, о которых уже сообщал тебе, – что наши преследователи погибли в море. Но я получил письмо от Али, в котором он просил нас остаться в Константинополе до тех пор, пока сюда не приедет Ананда. И тогда все вместе мы двинемся в Индию, в имение Али. От Флорентийца я получил телеграмму о приезде твоего брата и Наль в Лондон. Но думаю, что им все-таки придется уехать в Нью-Йорк, куда их проводит сам Флорентиец, – сказал Иллофиллион.
– Неужели я поеду с вами в Индию, а брат мой – в Америку, даже не повидавшись перед разлукой? – печально спросил я.
– Если бы ты, Левушка, увидел сейчас брата, ты смог бы после первой радости свидания задать ему все те вопросы, которые выросли и живут в твоей душе и на которые ты хотел бы получить исчерпывающие ответы? Ведь ты прожил много времени рядом с братом, а только сейчас понял, что его и твой духовные миры вращаются вокруг разных осей. Не в физическом свидании дело, а в том, чтобы ты мог понимать его без вопросов и слов. Чтобы понять книги брата, тебе надо много учиться. У Али-старшего ты найдешь прекрасную библиотеку, а в Али-молодом найдешь друга и помощника, а также сотрудника. Сейчас ты можешь выбирать. Если ты желаешь ехать к брату, Флорентиец возьмет тебя с собой, и потом Ананда отвезет тебя к нему. Но ты уже по опыту знаешь, как трудно жить с людьми, превосходящими тебя по знаниям, к которым ты сам не можешь найти ключа. И если ты пожелаешь остаться со мной и Али, – ты можешь стать ценным помощником и Флорентийцу, и твоему брату, которому не однажды еще понадобится твоя помощь. Ты свободен выбрать себе путь сам. Но почему-то мне кажется, что твои интуиция и талант уже сами говорят тебе о том, что нельзя оставить начатое дело. Пока мы живем здесь и повсюду записываемся под твоим именем, преследователи твоего брата непременно приедут сюда, как только им дадут знать, что мы здесь. И пока мы будем их мишенью, брат твой успеет увезти Наль в Америку.
Не скрою от тебя своего беспокойства. Бешеный удар турка если и не уложил тебя на месте, то причинил тебе такое сотрясение, что весь твой организм разбалансирован. Тебе надо усилием воли все время приводить себя в равновесие. Каждый раз, когда ты начинаешь горячиться и раздражаться, думай о Флорентийце, вспоминай его полное самообладание, благодаря которому ты не раз был спасен в дороге. Подумай еще и о Жанне, изъяны поведения которой для тебя очевидны. И чем больше и глубже ты осознаешь свои обстоятельства, тем быстрее поймешь, при каких условиях ты будешь более полезен брату и Флорентийцу. Сейчас все тебе кажется загадочным, но когда ты овладеешь знанием, ты поймешь, что в природе нет тайн, а есть только та или иная ступень знания.
Мы разошлись по своим комнатам, но заснуть я не мог. Я так понимал теперь Жанну в ее порывах к личному счастью.
Все мое счастье заключалось сейчас в свидании с братом и Флорентийцем. Мне казалось, что я ничего не хочу, кроме этого. Если бы я ни на что другое не был годен, я согласился бы быть им слугой, чистить их обувь и одежду, только бы видеть их дорогие лица, слышать их голоса и не слышать стонов собственного сердца из-за разлуки с ними. Я готов был уже горько заплакать, как вдруг мне вспомнились слова Строганова: «Я часто видел, как побеждали те, кто начинал свой путь легко».
Меня даже в жар бросило. Опять я провел параллель между собой и Жанной и вновь увидел, что целая группа людей помогает мне, как и ей, а я так же слепо уперся в жажду личного счастья, как и она.
Я постарался забыть о себе, устремился всеми помыслами к Флорентийцу, и вдруг снова знакомый облик возник подле меня, и я услышал дорогой мне голос: «Мужайся. Не всегда человеку дается так много, как дано тебе сейчас. Не упусти возможности учиться; зов к знанию бывает человеку однажды в жизни и не повторяется. Умей любить людей по-настоящему. А любовь настоящая не знает ни разлуки, ни времени. Храни мир и охраняй в бесстрашии, правдивости и радостности свое место подле Иллофиллиона. И помни всегда: радость – сила непобедимая».