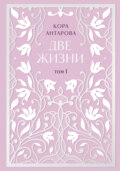Конкордия Антарова
Две жизни. Роман в четырех частях
– Князь, – шепнул я ему, – к обеду надо непременно достать дыню. Восточного мудреца встречать без дыни невозможно, – повторил я ему слова кондитера, вдруг уверовав в них, как в несомненную истину.
– Ах ты, господи, я совершенно об этом забыл! Сейчас побегу распорядиться, – засуетился князь. – Но, Левушка, это поправить легко. А вот вещи эти проклятые лежат в комнате до сих пор. Я ношу ключ в кармане, чтобы никто туда не вошел. Ананда трогать их не велел, и я боюсь ослушаться его и убрать их.
Мы стояли перед крыльцом, ведущим в комнаты Ананды и, должно быть, имели вид заговорщиков, потому что услышали его веселый смех и слова:
– О чем вы так таинственно шепчетесь, друзья?
– О вещах, что лежат на полу, – ответил я.
Лицо Ананды стало серьезным, он быстро сказал нам: «Подождите!» – и вернулся к сэру Уоми.
Прошло, вероятно, минут десять. Князь успел распорядиться насчет дыни и вернуться обратно раньше, чем на крыльце показались оба наших друга.
– Не волнуйтесь, князь. Все это очень неприятно, конечно, но ничего страшного для вас и вашего дома нет. Вот, я вижу, у стены стоит лопата. Возьмите ее с собой, она нам пригодится, – сказал сэр Уоми князю.
Князь очень удивился, но не сказал ничего и взял стоявшую у стены лопату.
Через несколько минут мы были в комнате и остановились возле сверкавшего розового браслета и узкого ножа. Сэр Уоми, взяв у князя лопату, подобрал на нее обе вещи, достал из кармана коробочку вроде табакерки и высыпал из нее какой-то желтый порошок, густо покрывший браслет и нож.
– Отойдите, Левушка, станьте за моей спиной, – сказал мне сэр Уоми. – А вы, князь, встаньте за Анандой.
Когда мы исполнили его приказание, он поднес спичку к лопате и отодвинулся от нее.
Порошок ярко вспыхнул, вскоре послышались шипение и треск, а потом, точно разбитое стекло, с каким-то стоном разлетелся вдребезги нож. Дым и смрад разошлись по всей комнате, и Ананда во всю ширь распахнул дверь на балкон.
– Вот и все. Теперь ни для кого больше эти вещи не представляют опасности. Бедный Браццано решил, что он колдун и владеет магическими тайнами Средневековья, несущими в себе несокрушимую силу. И как всегда, при встрече с истинным знанием все злые тайны, не представляющие из себя ничего, кроме той или иной силы гипноза, разлетаются в прах, – задумчиво обводя нас своими фиолетовыми глазами, говорил сэр Уоми.
– Теперь, Левушка, вы можете взять браслет, он абсолютно безвреден, а по красоте это вещь изумительная. – Сэр Уоми засмеялся и с неподражаемым юмором продолжал: – Можете хоть Анне надеть его на ее прекрасную руку. Надо только его протереть, он закоптился. Возьмите вот этот флакон и протрите камни.
Он подал мне небольшой флакон, я смочил носовой платок и протер браслет. Вещи, подобной ему, я уже больше никогда не видел. Вероятно, Браццано ограбил какую-нибудь гробницу египетских фараонов. Думаю, в коронах европейских королей не было подобных камней и оправы.
Я собрал жалкие остатки искривленной, ставшей совсем черной стали на лопату и выбросил с балкона в сад, а браслет подал сэру Уоми.
– Нет, дружок, эта вещь предназначалась для передачи через вас. Отнесите ее в вашу комнату, вымойте руки, и не будем задерживать нашего милого хозяина с обедом, – ласково сказал мне сэр Уоми. – А какова будет судьба браслета – увидим дальше, – усмехаясь, прибавил он.
Я быстро прошел к себе, убрал, не без отвращения, браслет, доставивший стольким людям страдания и проблемы, умылся и присоединился ко всему обществу, вышедшему на балкон.
Я застал уже конец разговора. Сэр Уоми говорил:
– Все эти так называемые темные силы – не что иное, как невежественность. Люди, стремящиеся подсмотреть силы природы – при известной концентрации одной воли, – отыскивают их. Обычно это люди, одаренные психическими силами, развитыми более, чем у всех остальных. Но так как их цель знание, служащее только их собственному эгоизму, их страстям и обогащению в ущерб общему благу, они отгораживаются в отдельные группы, называя себя различными умными именами. Они подбирают себе компаньонов непременно с большой силой воли, обладающих способностью к гипнозу.
Это очень длинная история, о ней в двух словах не расскажешь. Тянется она к нам из древнейших времен, и таких служителей лжи и лицемерия, известных под названиями колдунов, алхимиков, провидцев и так далее, очень много.
Возьмем, к примеру, данный случай. Почему скрючился и развалился нож? Потому что так называемый наговор на нем был сделан на смерть упорством воли. То есть, если бы человек, которому этот нож был дан в руки, встретил препятствие к выполнению внушенного ему приказания, он убил бы любого, мешавшего ему. Браслет же нес в себе другой наговор, целью которого было привлечь любовь его владелицы к тому, кто ей подарил его.
Подлинной силой обладает такое Знание, в котором побеждают не упорством воли, а любовью. Мне известна лишь скромная часть его, но и она помогла мне в одно мгновение победить и уничтожить все труды злой воли невежды, потратившего на свои заклятия годы своей жизни и считавшего черную магию вершиной знания.
Слуга пришел звать нас обедать. Весь обед сэра Уоми состоял из молока, хлеба с медом и фруктов. Я нетерпеливо ждал, будет ли он есть дыню, боясь осрамиться перед князем. Он съел кусок дыни, лукаво взглянув на меня своими большими глазами, выражающими беспредельную доброту и ласку. Я обмер; мне показалось, что он раскрыл мою черепную коробку, прочитал там все мои мысли и видел, как я боялся, что он не будет есть дыню.
– Кстати, Ананда, вы с Иллофиллионом похитили у меня Хаву и пристроили ее по своему усмотрению. Я остался без секретаря, хотя мог бы быть спрошен, желаю ли я этого, – весело смеялся сэр Уоми. И смех его напомнил мне звон серебряных, гармонично подобранных колокольчиков. – Теперь я хочу – без спроса у вас – похитить себе во временные секретари вашего юного литератора.
– О, как бы я был счастлив, если бы мог удостоиться такой чести! – в полном восторге воскликнул я.
– Сэр Уоми, я виноват перед вами. Но ведь это только на одну сегодняшнюю ночь, – сказал Ананда. – И если вам сейчас нужен секретарь, я готов служить вам.
Сэр Уоми покачал головой и тихо сказал:
– Хаве придется прожить там намного дольше. Вы же с Иллофиллионом будете очень заняты. А мальчик пусть будет при мне. Сегодня мне никто не нужен. А завтра, Левушка, если тебе не кажется страшным сделаться секретарем такого сердитого хозяина, приходи в девять часов ко мне и будешь работать часов до трех-четырех.
Сэр Уоми встал, поблагодарил князя и сказал, что в пять часов он с Иллофиллионом и Анандой зайдет осмотреть его больную жену. С самим же князем он побеседует завтра вечером у себя.
Я был на десятом небе. Все пело у меня внутри. Мы проводили сэра Уоми в его комнату и вернулись к себе. Ананда устроился в комнате капитана. Я не смог удержаться, бросился ему на шею и попросил:
– Ананда, миленький, хороший Ананда, помогите мне не осрамиться завтра у сэра Уоми. В чем заключаются обязанности его секретаря?
Ананда обнял меня за плечи, рассмеялся своим звонким смехом и, поддразнивая, сказал:
– Вот если бы ты не боялся Хавы, ты мог бы у нее об этом спросить.
– Ну, что вы, я уже давно с ней подружился! Это уже история моих детских лет.
Ананда снова весело засмеялся.
– Постойте, – сказал я, вслушиваясь в его смех. – Как странно. Вы сейчас два раза засмеялись, и оба раза я почувствовал, что мысли ваши не здесь, а где-то еще, в чем-то далеком, печальном и даже воинственном. Сэр Уоми смеялся – и я точно серебряные колокольчики слышал. Хотя тогда я тоже знал, что мысли его далеко. Но – как бы это выразить? – помедлил я, подыскивая способ выражения своей мысли. – Понимаете ли, мысль сэра Уоми была какая-то всеобъемлющая. Она жила и где-то там, и одновременно здесь. А ваша мысль жила где-то далеко, а здесь только скользила.
– Да ты, Левушка, действительно любишь загадывать загадки, – улыбаясь и пристально глядя мне в глаза, сказал Ананда. – Ты привел меня в полное отрезвление, мальчик. Я действительно был раздвоен в мыслях. Но то, что ты подметил и что составляло разницу в мыслях сэра Уоми и моих, не было проявлением моей рассеянности. Это было тяжелым порывом личного горя, причиненного мне одной душой, в твердости и верности которой я, увы, ошибся. Конечно, я сам виноват, потому что видел то, что мне хотелось, а не то, что носил сам человек в сердце. И я дважды виноват, что воспринял это в личной печали. А сэр Уоми ничего не может воспринимать как личное. Его любовь проникает в человека, всегда поднимая его и облегчая ему жизнь во всех ситуациях.
Ты отрезвил меня, и ты же меня порадовал – и вчера с Генри, и сегодня с Жанной. Ты много выстрадал, но зато как далеко шагнул! И сколько бы ни двигался вперед человек, какие бы тяжкие страдания ни приходилось бы ему преодолевать на пути к знанию – если он честен и верен до конца, если компромисс не соблазнит его, то он достигнет счастья жить легко и радостно. Живи легко и дай себе слово никогда не плакать! – Ананда обнял меня, и мы разошлись по своим комнатам.
Впервые после отъезда из Москвы я сегодня расстался с Иллофиллионом. Это послужило мне поводом, чтобы в одиночестве подумать еще раз обо всем, чем я обязан этому человеку. Я был полон благодарности и нежной любви к нему. Мне так не хватало сейчас моего снисходительного друга и наставника, и было очень горько, что я ничем не могу быть ему полезен и не увижу его, проснувшись завтра утром. Решив, что после занятий с сэром Уоми я попрошу у него разрешения сбегать к Иллофиллиону, я лег спать счастливый и радостный. Как ни тяжел был этот день, я жил сейчас поистине «легко».
Ровно в девять часов следующего утра я постучал в дверь сэра Уоми.
– Ты точен, друг, – встретил меня он сам, отворяя мне дверь.
Меня удивило, что в комнате ничего не изменилось, точно здесь продолжал жить Ананда, у которого всегда царил образцовый порядок. И сейчас нигде не было ни следов завтрака, ни пылинки, – только на письменном столе лежало несколько писем, какая-то тетрадь и еще не обсохшее от чернил перо. Видно было, что сэр Уоми уже давно работал.
Я провел параллель между своей и его комнатами и со стыдом вспомнил, как я сейчас спешил, какой кавардак я оставил у себя в комнате и как бежал бегом, проглатывая последний кусок у самой двери.
Я дал себе слово и в этом отношении быть достойным своего хозяина. В первый же раз, как только Иллофиллиона не оказалось со мной, я оставил комнату в таком хаосе! Мне стало очень, до тошноты, неприятно.
Должно быть, мое лицо отразило мое состояние, потому что сэр Уоми, лукаво улыбаясь, спросил, не страшна ли мне перспектива работать с ним.
– Как могли вы это подумать, сэр Уоми? – даже привстал я с кресла, в которое он меня усадил. – Я просто – едва вошел – осознал еще одну свою черту, которая, вкупе с другими, делают меня недостойным счастья служить вам секретарем. Но бояться вас? От вас так и льются потоки любви. Я еще мог бы бояться Али и его прожигающих глаз. Но в свете ваших глаз можно только тонуть в блаженстве.
Сэр Уоми рассмеялся, и мне снова почудились звенящие колокольчики.
– Зима, тройки… малиновый звон… – невольно вырвалось у меня.
– Что ты там бормочешь, друг? Тут растаять можно от жары и пыли, а ты бредишь зимой?
– Видите ли, сэр Уоми, я совсем ошалел от всех тех встреч и переживаний, которые на меня свалились в последнее время. Я никогда не подозревал, что на свете могут жить такие люди, как Али, Флорентиец, вы, наконец, Иллофиллион и Ананда. Да, впрочем, я также не думал, что могут быть живые Анны или Наль.
Я слышал слова этих замечательных людей и часто их не понимал. Вернее, моя мысль не поспевала их осознавать, а они падали куда-то в глубину моей души и оставались там лежать до времени.
Я знаю, что я очень неясно выражаюсь. Но я веду к тому, что яснее всего мне говорят о человеке тон его голоса и смех. Они, точно камертон, ведут меня прямо к пониманию – минуя всякую умственную логическую связь, – чего-то очень сокровенного в человеке.
Ананда говорит и смеется голосом самым чарующим. Вряд ли можно найти второй голос не только такой же красоты и оригинальности, но хотя бы звучащий таким металлом. Раз его услышав – забыть невозможно. Но в сердце моем – в том месте, где происходит понимание сути всех вещей помимо логической мысли, – я знаю, что в любую минуту его голос может загреметь гневом, как небесный страшный гром, от которого все вокруг может развалиться.
И глаза его – звезды небесные. А засмеется он – я слышу в его смехе звенящие мечи. А когда вы говорите – мне чудится, что журчат весенние ручьи. Так радостно становится, жить хочется! А как вы засмеетесь – дух захватит, точно на тройке катишь под звон волшебных колокольчиков.
– Ну и секретарь! Если бы я не знал твоего брата, я бы сказал, что твой воспитатель научил тебя хорошо говорить комплименты! Но вот погоди, – вдруг серьезно, после только что звучавшего смеха, сказал сэр Уоми, – в тот день, когда мы будем сражаться с Браццано – а это будет не так просто, как справиться с его кинжалом и браслетом, – ты увидишь меня, по всей вероятности, иным. Тогда и решишь и о моих ручьях и колокольчиках.
– Думаю, что если бы мне было суждено увидеть вас грозным и услышать ваш голос в гневе, то это все же были бы раскаты звенящих колоколов, зовущих к тому, чтобы грешные опомнились, – представляя себе видоизмененным сэра Уоми, сказал я с огорчением.
Снова сэр Уоми рассмеялся:
– Ну хорошо, это еще не скоро будет, и тосковать тебе о благовесте моих колоколов еще рано. Напусти-ка лучше в нашу атмосферу своей зимы, и начнем работать.
И он начал диктовать мне по-английски письмо, которое я должен был писать по-французски. Этот язык я знал хорошо, и затруднений это мне не доставило.
Так же хорошо я справился с итальянским и русским, но когда дело дошло до немецкого – я спотыкался ежеминутно, и меня даже в пот ударило.
Сэр Уоми засмеялся:
– Что, Левушка, зима уступила место константинопольскому лету? Ничего, через несколько дней практики все наладится.
Он ласково помог мне в нескольких местах. Но я твердо решил упросить Иллофиллиона говорить со мной только по-немецки и помочь мне одолеть этот язык.
Я и не заметил, как пролетело время, раздался легкий стук, и в комнату вошел Ананда.
– А, здравствуй, «звон мечей»! – смеясь, встретил его сэр Уоми, вставая и протягивая ему обе руки.
Ананда с удивлением взглянул на него, вздохнул и поднес обе руки сэра Уоми к своим губам одну за другой.
– Не смущайся, Ананда, – обнимая его и ласково ему улыбаясь, сказал сэр Уоми. – Этот мальчик старался мне объяснить, что в твоем смехе ему слышится звон мечей. Ну а мой смех, по его ощущению, – это весна с ароматами и зима вместе с тем. Он только относительно Хавы мне не признался. Но уж я сам решил выпытать у него, что ему чудится в смехе Хавы и Иллофиллиона.
Голос сэра Уоми был добрым и ласковым.
Я весь покраснел, как-то сразу почувствовал себя уставшим и ответил, что смеха Хавы не помню, Иллофиллион почти никогда не смеется иначе, чем шаловливые дети, а вот если чей-нибудь смех и кажется мне загадочным, то это смех Анны. Все это я говорил быстро и бестолково и закончил неожиданно для всех:
– Сэр Уоми, у меня к вам огромная просьба. Разрешите мне, пожалуйста, хоть на час сбегать к Иллофиллиону. Помимо того, что я соскучился по нему, я тревожусь, не надо ли ему чего-нибудь. Он ведь там уже так долго, – молил я сэра Уоми, всей душой желая поскорей увидеть Иллофиллиона.
– Нет, дружок. Один туда не ходи. Мы все поедем в магазин Жанны в экипаже князя. Но предварительно позавтракаем с князем и Анандой. Беги умывайся, переодевайся так, чтобы сразу после завтрака выехать из дома, и приходи в столовую, где мы с тобой уж наверняка будем оспаривать друг у друга право на дыню.
Я вышел, засмеялся и подпрыгнул от удовольствия, унося в душе неподражаемо юмористическое выражение глаз сэра Уоми. Мне показалось странным, что я столько времени жил здесь и не знал, что у князя есть свой экипаж для выезда.
После завтрака, где я то и дело превращался в «Левушку – лови ворон», сэр Уоми встал и велел мне взять браслет с собой.
– Заверни его вот в это, – и он подал мне шелковый платок темно-синего цвета, по краям которого были мелкие белые цветочки, очень красивые, похожие на маргаритки, а посередине был вышит шелком белый павлин с чудесным распущенным хвостом, в окружении крупных голубых колокольчиков.
Я выполнил его приказание, положил завернутый браслет в карман и сел рядом с сэром Уоми в коляску, под белый балдахин. Ананда отправился по какому-то делу, собираясь через час прийти прямо в магазин.
По случаю праздника в магазине была полная тишина. Нам открыла дверь Хава, сказав, что Жанна со вчерашнего вечера не может встать из-за сильнейшей боли в голове и Иллофиллион провел возле нее тревожную ночь.
Сэр Уоми молча кивнул головой, велел мне оставаться внизу с Хавой, а сам прошел наверх к больной.
Хава теперь уже не пугала меня своей чернотой, хотя из-за платья светлого персикового цвета ее кожа казалась еще чернее.
– Вы очень изменились, Левушка. У вас такой вид, точно вы повзрослели и окончили по крайней мере два университета, – улыбнулась она мне, усаживая меня в стоявшее в углу кресло и показывая в улыбке свои дивные мелкие зубы.
– Ах, Хава! Как бы я хотел совсем не кончать многих из тех университетов, через которые сейчас прохожу. Я живу такой дивной жизнью. Я так очарован теми, кто сейчас со мной. С одной стороны, я живу надеждой снова встретить Флорентийца, а с другой – готов плакать при мысли, что придет пора и мне надо будет расстаться со всеми теми, кто теперь так милосердно переносит мое присутствие. И никто из них ни разу не показал мне ни утомления, ни раздражения, хотя я ежесекундно сознаю, как высоко превосходят они меня.
– Все, Левушка, проходят свой путь, начиная с самых низших ступеней. В своей каждодневной жизни человек сам создает причины всех тех осложнений, которые потом ему мешают. И каждый при этом думает, что его жизненные проблемы приходят к нему извне, – тихо сказала Хава.
Вам горько, что когда-то с кем-то придется расстаться. Но ведь каждому неизбежно суждено родиться и так же неизбежно умереть. И не в этом драма людей, а в том, что они никак не могут приготовить себя к разлуке с любимыми. Если бы мать сразу понимала, что ее дети – это только данные ей на временное хранение сокровища, – она бы, видя в них божий дар, который она должна вернуть усовершенствованным, отшлифованным, искала бы в них не себя, а ту силу высшей, единой любви, которая творит все во всей Вселенной.
И, объединяясь с ними в этой любви, она поняла бы, что жизнь не только не кончается со смертью, но что уходящее ее дитя больше не нуждается в земной форме и уходит в иную, более совершенную жизнь.
Так и вы. Если вы поставили себе задачей помочь брату и эта конечная цель сияет вам, не все ли равно, в каких формах и на какой земле будет проходить ваша жизнь до тех пор, пока вы не обретете полного самообладания и пока ваше сознание не расширится так, чтобы вы могли без слов понимать мысли людей, успокаивать их эмоциональные порывы и одухотворять их творческие силы. И только достигнув такого состояния, вы сможете встать на одну ступень с братом и стать ему подлинным помощником.
– Я многое сейчас понял из того, что раньше мне казалось бредом моей души, Хава. Но есть еще так много такого, чего я не понимаю и очень боюсь спросить.
– Всего лучше, Левушка, не спрашивайте ни о чем. Люди, окружающие вас, так высоки, что обо всем, что вам необходимо знать, скажут сами. И ни одному испытанию, которого вы не имели бы сил выполнить, они вас не подвергнут.
– Не знаю, Хава, может быть, и так. Но… Генри, бедный Генри не смог выдержать.
– Нет, не Генри виновен. Генри сам выпросил у Ананды, вымолил, чтобы он его взял сюда, а сэр Уоми говорил Ананде, что надо отказать ему в этой просьбе. Ананда же не последовал мудрости сэра Уоми, а уступил по своей божественной доброте мольбе и клятвам юноши – и теперь принял на себя удар и ответ за измену Генри.
– О, Хава, благодарю вас тысячу раз за эти слова. Я никогда не буду просить моих друзей ни о чем. Да, впрочем, если бы вы только знали, как я невежествен. Неудивительно, что я осознаю свое место и не стремлюсь куда-то вылезать.
– Чем выше и скромнее человек, тем он больше понимает величие другого и тем скорее может найти свой путь сам. Но вот к нам идут наши друзья, – вставая навстречу сэру Уоми и Иллофиллиону, сказала Хава.
Я был поражен тем, насколько усталым выглядел Иллофиллион.
– О, Лоллион, я готов целый год караулить ваш сон, только пойдемте скорее домой отдыхать, – бросился я к моему другу, расстроенный его утомленным видом. Иллофиллион, всегда свежий, юный, – сейчас точно прожил двадцать лет за одну ночь.
– Не тревожься, Левушка. Сейчас нам Хава подаст кофе, и я снова буду свеж и энергичен. Я просто долго сидел в одном положении, меняя компрессы, и немного устал.
Высказав ему огорчение по поводу того, что меня не было с ним, чтобы помочь ему, я усадил его на свое удобное место, сам подал ему кофе и шепотом сказал:
– Ведь вы умеете спать сидя, с открытыми глазами. Я вас прикрою; никто не увидит; ну, хоть часочек поспите. Я с места не сдвинусь.
Иллофиллион засмеялся так заразительно, что сэр Уоми поинтересовался, не хочет ли он отнять у него привилегию колокольного смеха, и тут же пересказал ему наш разговор с ним на эту тему.
В это время вошел Ананда, ведя с собой Анну.
Когда она сняла свой неизменный плащ, я снова восхитился ее поразительной красотой. Каждый раз, когда я ее видел, она казалась мне все прекраснее. Вся в белом, какая-то трепетная, обновленная, точно очищенная – даже дух захватывало от этой красоты, от этих бездонных глаз, от этой гармонии всех форм и линий.
«Поистине, она арфа Бога», – подумал я, вспомнив ее игру. Но мысли мои были прерваны поступком Анны, таким странным, таким несовместимым с этой царственной красотой.
Анна опустилась сразу же на колени перед сэром Уоми, прильнула к его рукам и горько зарыдала, что-то говоря ему среди рыданий и опускаясь все ниже к его ногам.
Сердце мое разрывалось. Я был так поражен, что не мог двинуться с места. Я ожидал ее радости, счастливого смеха, думал, что и она будет спокойна и счастлива вблизи этого полного любви человека, который всех делал счастливыми и мирными вокруг себя.
– Встань, Анна, – услышал я голос сэра Уоми. – Теперь уже нет выбора. Надо идти до конца. Я тебя предупреждал повторно год назад. Я дал тебе определенную задачу. Ты медлила, тянула. О чем же теперь плакать? О том, что ты заставила всех все бросить и приехать сюда спасать твою увязшую во тьме семью? А могла бы без напряжения все сделать сама, если бы послушалась и исполнила то, что говорили тебе Ананда и я.
Голос сэра Уоми звучал необычно. Я узнал в нем твердость стали, звеневшую всегда в голосе Ананды. Я невольно посмотрел на Ананду. Он стоял рядом с Иллофиллионом, и оба они меня поразили. Их лица были тихи, светлы, ласковы, а на лице сэра Уоми, бледном, твердом точно мрамор, глаза сверкали лучами, как огромные аметисты.
За минуту до этого я думал, что прекраснее Анны никого быть не может. Теперь я увидел такую красоту, которая уже не принадлежала земле. Это был сошедший с другой планеты Бог, а не тот сэр Уоми, с которым я работал утром.
– Иди теперь без слез и раскаяния. Ими ты только ослабляешь силу того моста любви, который протянули тебе из своего сердца Ананда и его дядя. Радостью, одной радостью, ты можешь начать снова строить ту половину моста, которую разрушила сама своим непослушанием и медлительностью. Дважды зов милосердия не повторяется. И об отъезде твоем в Индию сейчас и речи быть не может. Но от тебя одной зависит: годы или мгновение приблизят тебя к давнишней мечте.
Напрасно ты ждала особых испытаний. Шли обычные дни твоей жизни, а ты в них-то и не разглядела главных дел любви и самого первого ее признака: жить легко свой текущий день. Жить в самых обычных делах, неся в них наивысшую честь, мир и бескорыстие. Не в мечтах и обетах, не в идеалах и фантазиях проявляется любовь человека к человеку. Но в простых делах каждого дня идущий путем любви должен быть звеном духовного единения со всем окружающим. Оставь свои мечты о высшей жизни. Трудись здесь в простых буднях и… всегда помни о своем нарушенном обете добровольного послушания.
С этими словами он поднял Анну и поманил меня к себе рукой. Я мгновенно понял – как я многое стал угадывать в последнее время без всяких слов – и подал ему синий платок с браслетом.
Как только сэр Уоми взял руку Анны, которой она закрывала лицо, и надел ей браслет Браццано, она вскрикнула, точно раненая.
– Не бойся, дитя, – услышал я снова голос сэра Уоми. – Теперь этот браслет уже не служит символом обручения. В нем нет ничего, кроме прекрасного произведения искусства. И он не заговорит и не затянет тебя в любовные сети злодея. Это ты сама – своею медлительностью, сомнениями, колебаниями и нерешительностью – соткала связь со злодеем. Он должен теперь или преобразиться, или погибнуть, так как из-за страсти к тебе погрузился в такую глубину грязи и ужаса, где больше не может жить ни одно существо. Века могут пройти, пока ты снова встретишься с ним в таких условиях, чтобы своей стойкой верностью, любовью без сомнений и радостью помочь ему и быть в силах развязать мрачный узел, который так неосторожно соткала сейчас.
Иди домой, Ананда отведет тебя. И думай не о себе и своих скорбях, но о скорби Ананды, ручавшегося за тебя, о страданиях твоей семьи, погрязшей во зле. Будь мирна и благословенна. Жди меня, когда – под видом приятного вечера – мы придем к вам в дом для очень тяжкого дела борьбы со злом. Становись сильнее с каждым днем. А для этого научись действовать, а не ждать, творить, а не собираться с духом. Кто думает о друге и брате, тот забывает о себе, – он отер ей глаза прекрасным синим платком с вышитым павлином и отдал его ей.
Голос сэра Уоми был снова мягок и проникал в сердце. А от лица его и от всей его фигуры точно свет шел.
Анна низко ему поклонилась; он обнял ее, прижал к себе, и я видел, как она вся содрогнулась в его руках. Когда она повернулась к нам, она точно уносила на себе отраженную часть его сияния.
– Не забудь, в пять часов у княгини, – шепнул Иллофиллион выходящему Ананде.
Вскоре сэр Уоми и Иллофиллион уехали, оставив больную на нас с Хавой.
– Будь все время с больной: если к Хаве придут неожиданные посетители – она сама справится с ними. Ты же, что бы ты ни услышал внизу, оберегай больную, не покидай ее и не пропускай к ней никого. Если же Хаве понадобится помощь, мы ее пришлем, – сказал мне сэр Уоми. – Могу я надеяться на тебя? – глядя мне в глаза так, словно он заглянул в мою душу, спросил меня сэр Уоми.
– А если Хаву будут убивать? Мне тоже сидеть тут, не пытаясь ей помочь? – в ужасе спросил я, вспоминая Жанну, чуть не ранившую князя.
Все трое расхохотались, и так весело, что я понял, какой глупый вид был у меня.
– Можешь быть спокоен. Не так легко убить человека. Но вот тебе флакон. Если здесь будут очень шуметь, брось его прямо вниз, он разобьется и напугает непрошеных гостей.
Сэр Уоми положил мне на голову руку, от чего по мне пробежала волна счастья и силы. Он подал мне небольшой флакон и покинул нас, сев снова в коляску вместе с Иллофиллионом.
Я держал флакон в руке. Я все-таки не мог взять в толк сразу все, а понял только, что и Анна, как и Генри, не исполнила чего-то и огорчила Ананду. Анна, казавшаяся мне совершенством! Анна, которую я едва мог признать земной женщиной!
«Боже, – подумал я. – Неужели и Наль?.. Наль, ради которой брат пожертвовал всем, отдал жизнь, – неужели и Наль может ему изменить, нарушить свой обет и причинить ему скорбь?»
– О чем вы так стонете, Левушка? – услышал я ласковый голос Хавы.
– Разве я стонал? Это мне померещилось что-то. Я ведь «Левушка – лови ворон». Вот и сейчас вороню, а мне надо быть возле Жанны. Проводите меня, пожалуйста, к ней. Я должен думать только о ней. А вас защищать только этим флаконом. Там, наверное, какое-нибудь едко пахнущее лекарство.
Хава рассмеялась, сказала, что я, вероятно, буду иметь случай в этом убедиться, и мы поднялись к Жанне.
Войдя в привычную комнату Жанны, я не сразу увидел больную. Положительно все тут было переставлено; и кровать Жанны, задернутая красивым белым пологом, стояла совсем в другом месте за перегородкой в самом конце комнаты.
– Это вы, Хава, так неузнаваемо переставили все? – спросил я.
– Признаться, очень хотелось бы сказать, что я. Но на самом деле все здесь, вплоть до этого прекрасного белого полога, было сделано руками самого Иллофиллиона. Мы с няней были только парой негритосов на посылках. Я долго рассматривала этот полог, но так и не могу понять, из чего он сделан. Тонкий, как бумага, мягкий, как шелк, и матовый, как замша, – вот и разберись. Очень хотела спросить Иллофиллиона, где он нашел такую вещь, но не посмела.
Я подошел к пологу и тотчас же узнал такую же материю, из которой был сделан халат, присланный Али моему брату перед пиром.
– Это ему, несомненно, прислал Али, – важно ответил я, гордясь своим знанием.
– Али?! – воскликнула Хава с удивлением. – Неужели Али? Почему вы так думаете? Правда, перед нашим отъездом сюда к сэру Уоми приезжал человек с посылкой от Али. Но не думаю, чтобы эта вещь была прислана оттуда. Рано утром, почти на рассвете, Иллофиллион куда-то выходил, а потом я увидела этот полог. Но я слышу стук колес, – прервала разговор Хава. – А вот и экипаж остановился подле магазина, – продолжала она. – Колокольчик зазвенел! Боже, вот так стук! Этак, пожалуй, все мертвые проснутся, – весело говорила негритянка, спускаясь вниз и велев мне запереть дверь спальни Жанны.
Оставшись один, я стал присматриваться к Жанне. Прелестное личико, точь-в-точь такое, какое было у нее, когда мы увидели ее в первый раз на пароходе в углу палубы четвертого класса, между ящиками. У нее, очевидно, был жар, и спала она тяжелым, глубоким сном.
Внизу сначала все было тихо; разговор был слышен, но слова не долетали.
– Вы хоть понимаете, о чем вам толкуют? – вдруг услышал я гнусавый, пронзительный голос и мгновенно узнал любимого младшего сына Строгановой.
– Не вы нам нужны, а ваша хозяйка. Мало ли какая фантазия придет кому-нибудь в голову? Хозяйка ваша могла нанять вас, считая, что на такую приманку кому-нибудь наверняка захочется посмотреть и лишняя шляпа будет продана. Но у нас дело не шляпное, а такое, которое вашей башке не понять. Позовите сию же минуту сюда хозяйку! – кричал наглый мальчишка.