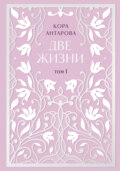Конкордия Антарова
Две жизни. Роман в четырех частях
Глава 3
Лорд Бенедикт и поездка на дачу Али
Я ясно помнил, что красавец-гигант обещал навестить меня днем. Когда я подходил к дому, то увидел денщика, разговаривающего с каким-то разносчиком дынь у калитки сада.
Мне все казалось теперь подозрительным. Я мельком взглянул на дыни и торговца и молча прошел в сад.
Денщик захлопнул калитку и подбежал с двумя дынями к столу под деревом, где мы с братом обычно пили чай. Положив дыни, он принес самовар, хлеб, масло, сыр и выжидательно остановился у стола. По всему его поведению было видно, что он хочет что-то мне сказать.
– Налей-ка чаю, – сказал я ему, – дыни ты, кажется, купил хорошие.
– Так точно, – ответил он. – Изволили слыхать? У нашего соседа скандал приключился. Ночью стекла побили… драка была и стрельба.
– Да разве ты слышал? Я не так крепко сплю, как ты, да и то ничего не слыхал, – возразил я ему.
– Так точно, я не слыхал сам. Вот торговец мне сказал, да все спрашивал, где мой барин, был ли ночью дома? Я сказал, на охоту уехавши еще с вечера. И он все допытывал, когда, мол, уехал, да куда. Я сказал, часов в пять уехал, как всегда к Ибрагиму.
В эту минуту послышался довольно сильный стук в парадную дверь. Денщик не пошел в дом, а открыл калитку сада, рядом с дверью. Я двинулся вслед за ним, подумав, что надо бы взять на всякий случай револьвер. Калитка открылась, и в ней обрисовалась громадная фигура, в которой я сразу узнал своего вчерашнего покровителя.
– Простите, я постучал довольно сильно и, вероятно, встревожил этим вас. Но на два звонка мне никто не открыл. Я и решился прибегнуть к стуку, – сказал он на довольно чистом русском языке.
При ярком свете утра красота моего гостя еще больше поразила меня. Правильные черты лица, безукоризненные зубы, маленькие уши и большие миндалевидные, совершенно изумрудно-зеленые глаза, – все, при сияющем солнце, было обворожительно. Мой взгляд, полный восхищения, был прикован к нему, к этой обаятельной, такой мужественной и вместе с тем молодой мягкой красоте. Я пригласил моего гостя разделить со мной утренний чай. Он улыбнулся и ответил:
– Мое утро давно уже миновало. Мы, восточные люди, привыкли вставать рано. Я уже и забыл, когда завтракал; но если позволите, с удовольствием разделю вашу трапезу, съем кусочек дыни. Обычай моей родной страны учит, что только в доме врага не едят, а я ваш преданный друг.
– Вот как, – воскликнул я. – До сих пор я думал, что это обычай старой Италии. Теперь буду знать, что это и восточное поверье.
– Я и есть итальянец, и родина моя – Флоренция. Вы не думайте, что все итальянцы – смуглые брюнеты. В Венеции женщины даже полагали неприличным иметь черные волосы и красили их в золотистый цвет, что заставляло их немало трудиться, – говорил он смеясь. – Но мои волосы не поддельные, мне не приходится волноваться.
– Да, – сказал я. – Вы так дивно сложены, что рост ваш поражает только тогда, когда видишь рядом с вами обычного человека, который сразу кажется малышом, – сказал я, подавая ему тарелку, нож и вилку для дыни. – Вы простите меня, что я так невежлив и не свожу с вас глаз. В глаза Али Мохаммеда я не в силах смотреть; они меня точно прожигают. Вы же не подавляете, но привлекаете к себе словно магнит. Я хотел бы век быть подле вас и трудиться с вами в каком-то общем деле, – вырвалось у меня восторженно, по-детски.
Он весело засмеялся, стал есть дыню своими прекрасными руками, попросив разрешения обойтись без ножа и вилки.
Только сейчас я увидел, вернее, сообразил, что мой гость одет не по-восточному, как ночью, а в обычный европейский костюм песочного цвета из материи вроде чесучи. Должно быть, моя физиономия отразила мое изумление, так как он мне весело подмигнул и сказал тихо:
– И вида никому не показывайте, что вы меня видели в иной одежде. Ведь и вы сами были в чалме со змеей, хромы, глухи и немы. Разве я не мог, так же как и вы, переодеться для пира?
Я расхохотался. Хотя можно было совершенно спокойно принять моего гостя за англичанина, но… увидев его однажды в чалме и одежде Востока, я не мог уже расстаться с убеждением, что он не европеец.
Точно угадывая мои мысли, он снова сказал:
– Уверяю вас, что я флорентиец. Хотя и очень, очень долго жил на Востоке.
Я снова расхохотался. Желание гостя подурачить меня было так явно! Эта цветущая красота, – ему не могло быть больше двадцати шести-семи лет.
– Скольких же лет вы уехали из Флоренции, если так давно, давно живете на Востоке? – сказал я. – Ведь вы не многим старше меня. Хотя весь ваш облик и внушает какую-то почтительность, невзирая на вашу молодость. Вчера вы мне показались гораздо старше, а европейский костюм и прическа выдали вас с головой.
– Да, – многозначительно ответил он, глядя на меня с юмором. – Ваш европейский костюм и прическа тоже окончательно выдали вашу молодость.
Я закатился таким смехом, что даже пес залаял. А гость мой, кончив есть дыню, обмыл руки в струе фонтана и, не переставая улыбаться, предложил мне пройти в комнаты для небольшого, но несколько интимного разговора. Я допил свой чай, и мы прошли к брату.
Мой гость быстро оглядел комнату и, указав мне на пепел в камине, сказал:
– Это нехорошо, отчего же ваш слуга так плохо убирает? В камине какие-то обрывки исписанной бумаги.
Я взял со стола старую газету, подсунул ее под оставшиеся в камине клочки бумаги и снова поджег.
– Я вижу, вы все тщательно убрали, – продолжал он, осматриваясь по сторонам. – Кстати, откололи ли вы броши с чалмы своей и брата?
– Нет, – сказал я. – В письме брата ничего не было сказано об этом. Я их вместе с чалмами и запер в шкафу. Вернее, похоронил, так как теперь уже не сумею поднять стену, – улыбнулся я.
– Этому делу помочь просто, – возразил мой гость.
Тут вошел денщик и спросил разрешения пойти на базар. Я дал ему денег и велел купить самых лучших фруктов. Когда он ушел, закрыв за собой дверь черного хода, мы прошли с гостем в гардеробную брата.
– Вы и дверь не закрыли на ключ? – сказал он мне. – А если бы ваш денщик полюбопытствовал заглянуть в гардеробную?
Он покачал головой, а я еще раз понял, насколько же я рассеянный.
Я зажег свет, гость мой наклонился и указал на стенке в том же ряду, где я отсчитывал девятый цветок снизу, на четвертом цветке такую же, еле заметную кнопочку. Нажав ее, он выпрямился и остановился в спокойном ожидании.
Как и в тот раз, лишь через несколько минут послышался легкий шорох, между полом и стенкой образовалась щель. Движение стенки все ускорялось, и наконец она вся ушла в потолок.
Я отпер дверцы шкафа и достал чалмы, непочтительно валявшиеся на дне его. Мой гость ловко отстегнул обе булавки, мгновенно сам нашел футляры, уложил в них броши и спрятал футляры в свой карман. Потом вынул флакон с жидкостью, который я поставил сюда вчера, и тоже положил его в карман.
– А в туалетном столе вашего брата вы не разбирали вещи? – спросил он меня.
– Нет, – отвечал я. – Я туда не заглядывал, в письме об этом ничего не сказано.
– Давайте-ка посмотрим, нет ли и там чего-либо ценного, что могло бы пригодиться вашему брату или вам впоследствии.
Разговаривая, мы вернулись в комнату. Мысли вихрем носились в моей голове, – почему надо искать ценности? Почему может что-то пригодиться «впоследствии»? Разве брат мой не вернется сюда? И что же будет со мною, если он не вернется? Все эти вопросы точно пылали в моем мозгу, но ни на один из них я не мог себе ответить.
Мне было чудно́, что человек, вместе со мной роющийся в ящиках, мне совершенно чужой; а все же полная уверенность в его чести и доброжелательности, сознание, что он делает именно то, что нужно, и так, как нужно, не нарушались во мне ни на минуту.
Из ящиков гость вынул несколько флаконов, и мы разместили их по своим карманам. Среди всяких коробочек он нашел плоский серебряный футляр с эмалевым павлином. Распущенный хвост павлина сверкал драгоценными камнями. Это было чудо художественной ювелирной работы. Тут же висел крошечный золотой ключик на тонкой золотой цепочке.
– Ваш брат второпях забыл эту чудесную вещь, которую он получил в подарок и которой очень дорожит. Возьмите ее, и если жизнь будет милостива ко всем нам, – когда-нибудь вы передадите ее брату, – проговорил мой чудесный гость, подавая мне футляр с ключиком.
При этом он нежно, ласково коснулся обеими руками моих рук. И такая любовь светилась в его прекрасных глазах, что в мое взбудораженное воображение и взволнованное сердце пришло спокойствие. Я почувствовал уверенность, что все будет хорошо, что я не один, у меня есть друг.
Мог ли я тогда предполагать, сколько страданий мне придется пережить? Сколько несчастий свалится на мою бедную голову! И каким созревшим и закаленным человеком стану я через три года, пока не увижу брата и пока в жизни его и моей действительно все наладится.
Я спрятал в боковой карман заветный футляр, но потом, рассмотрев его ближе, понял, что это записная книжка, запиравшаяся на ключ.
Захватив еще кое-что, что казалось необходимым моему гостю, мы заперли ящики, отнесли все в гардеробную, плотно задвинули створки шкафа; и тогда я снова нажал кнопку девятого цветка. Вскоре стенка опустилась, мы закрыли дверь гардеробной на ключ и вышли снова в сад.
Здесь гость мой сказал, чтобы я рекомендовал его всем, кто бы нас ни встретил, как своего петербургского друга и то же сообщил о нем денщику. Затем он передал мне приглашение Али провести сегодня день в его загородном доме, куда он уехал с племянником рано утром. Он ни словом не обмолвился о происшествиях минувшей ночи, а я не мог побороть какой-то застенчивости и потому не спрашивал его ни о чем.
Я так был рад не разлучаться с моим новым другом, что охотно согласился поехать к Али. Мы ждали в саду денщика, и обаяние моего гостя все сильнее привязывало меня к нему. Тоска в сердце и мучительные мысли о брате как-то становились тише рядом с ним. Спустя часа полтора вернулся денщик. Я сказал ему, что поеду за город с моим петербургским товарищем. А сам товарищ прибавил, что, быть может, мы не вернемся раньше завтрашнего утра, пусть он не тревожится о нас. Денщик плутовато усмехнулся и ответил свое всегдашнее: «Так точно».
Мы вышли через калитку внутри сада, прошли немного по тихой, тонувшей в зелени и пыли улице и свернули в тупичок, кончавшийся большим тенистым садом. Я шел за моим новым другом, и вдруг мне показалось странным, что я знаком с этим человеком чуть ли не целые сутки, так много пережил личного с ним и подле него – и даже не знаю, как его зовут.
– Послушайте, друг, – сказал я. – Вы велели рекомендовать вас всем как моего близкого петербургского друга. А я не знаю даже, как мне самому вас звать, а не то что представлять кому-то.
Он улыбнулся, взял меня под руку, – хотя я подумал, что ему было бы удобнее положить мне руку на плечо, таким невысоким я был по сравнению с ним, – и тихо сказал мне по-английски:
– Это ничего не значит. Ваши знакомые будут думать, что я и в самом деле английский лорд. А так как лордов они никогда не видели, то мне будет легко играть эту роль. Кстати, у меня есть и монокль, которым я отлично манипулирую.
Он вставил в левый глаз монокль, поджал как-то смешно губы, разделил свою небольшую золотую бороду надвое, – и я прыснул со смеху, до того он был высокомерен, напыщен, а его прекрасное, умное лицо вдруг поглупело.
– Ну, вот видите, как весело, – процедил он сквозь зубы, – я могу изображать высокомерного тупицу не хуже, чем вы – хромого старичка. Представляйте меня лордом Бенедиктом, а сами зовите меня Флорентийцем, как зовут меня свои.
Мы вошли в сад и встретились там с двумя молодыми офицерами, товарищами брата. Они шли к нам и были очень разочарованы, что брат уехал на охоту; я познакомил их с моим петербургским другом, англичанином, лордом Бенедиктом. Лорд высокомерно оглядывал бедных мешковатых поручиков с высоты своего громадного роста. На обращенные к нему вопросы он мямлил сквозь зубы по-английски: «Не понимаю», несколько раз ловко сбросил и поймал бровью свой монокль, чем окончательно сразил таращивших на него глаза армейцев, никогда не видавших живого лорда с моноклем и, наконец, быстро проговорил, что лошади нас ждут и я должен сказать им, что еду в гости за город к его дяде, тоже англичанину.
Мы простились, я еще сдерживал душивший меня смех, но когда услышал пущенное возмущенным тоном вдогонку: «Ну и барская харя!» – я уже не смог сдержаться, залился вовсю, и мне вторили два раскатистых баса. Но лорд Бенедикт, как истый англичанин, и бровью не повел – отчего мне было еще смешнее.
У ворот сада стояла отличная коляска в английской упряжке. Две поджарые, истинно английские лошади нервничали, и их с трудом сдерживал старый кучер во фраке, гетрах и башмаках светло-коричневого цвета, с английским кнутом в руке, точь-в-точь как на картинках модных журналов.
Я поглядел удивленно на моего лорда, он отвесил мне легкий элегантный поклон и предложил первому занять место в коляске. Я пожал плечами, сел, лорд быстро уселся рядом, сказал что-то кучеру, чего я не понял, и мы помчались.
Довольно скоро мы оказались за городом. Я еще не видел окрестностей. По обе стороны дороги тянулись виноградники, фруктовые сады, огромные баштаны[1] дынь и арбузов. Нам навстречу непрерывно ехали на ослах люди всех возрастов в чалмах. Нередко на одном осле устраивались сразу двое. Встречались и женщины, укутанные в черные паранджи с сетками, тоже иногда сидевшие вдвоем на одном осле. Все тонуло в пыли и было залито солнцем и зноем; казалось, конца не будет этому обильному плодородию, мимо которого мы катили.
Так ехали мы около часа. Наконец мы свернули с дороги налево и, проехав еще немного, очутились в степи. Картина сразу резко изменилась, точно мы попали в другое царство. Все буйство природы, вся зелень осталась позади, а впереди, – насколько мог охватить глаз, – тянулась пустынная степь с выжженной травой. Меня укачали ритмичный бег лошадей, мягкое покачивание эластичных рессор и мельканье нагретого воздуха, и я незаметно для себя задремал.
– Мы скоро приедем, – сказал мне мой спутник по-русски.
Я встрепенулся, посмотрел на него и… обмер. Передо мной сидел в чалме и белой одежде мой ночной покровитель.
– Когда же вы успели переодеться? – почти в раздражении воскликнул я.
Он весело рассмеялся, приподнял обитую бархатом скамеечку, и я увидел ящик, в котором лежали халат и тюрбан, в виде уже намотанной чалмы.
– Я оделся, как требует долг восточной вежливости, – сказал мой спутник. – Ведь если мы приедем в европейском платье – Али должен будет подарить нам по халату. Я думаю, вам не очень хотелось бы сейчас принимать подарок от кого-либо, а это халат вашего брата.
– Мне не только был бы несносен восточный подарок, но и вообще я потерял, и думаю, навсегда, вкус к восточному костюму после маскарада и чудес прошлой ночи, – не совсем мягко и вежливо ответил я.
– Бедный мальчик, – сказал Флорентиец и ласково погладил меня по плечу. – Но, видишь ли, друг Левушка, иногда человеку суждено созреть сразу. Мужайся. Вглядись в свое сердце, чей образ живет там? Будь верен брату-отцу, как он был верен всю жизнь тебе, брату-сыну.
Слова его задели самую глубокую из моих ран, привязанностей и скорбей. Острую тоску разлуки с братом я снова пережил так сильно, что не смог удержать слез, я точно захлебнулся своим горем.
«Я ведь решился быть помощником брату, – подумал я, – зачем же я думаю о себе. Пойду до конца. Начал маскарад – значит, надо продолжать. Ведь это брат хотел, чтобы я нарядился восточным человеком. Будь по его желанию».
Я проглотил слезы, вынул тюрбан, надел его на голову и облачился в пестрый халат поверх своего студенческого кителя. Вдали уже были видны дом, сад, и по обе стороны дороги начинался виноградник. Гроздья винограда зрели и наливались соком, краснея и желтея на солнце.
– Теперь недолго страдать и мучиться в догадках, – сказал Флорентиец. – Али все расскажет тебе, друг, и ты поймешь всю серьезность и опасность создавшегося положения.
Я молча кивнул головой, мне казалось, я достаточно уже все понимал. На сердце у меня было так тяжело, как будто, выехав за город, я перевернул какую-то легкую и радостную страницу своей жизни и ступил в новую полосу гроз и бед.
Мы въехали в ворота, к дому вела длинная аллея гигантских тополей. Как только экипаж остановился и мы оказались в довольно большой передней, к нам быстрой, легкой походкой вышел Али Мохаммед. В белой чалме, в тонкой льняной одежде, застегнутой у горла и падавшей широкими складками до пола, он показался мне не таким худым и гораздо моложавее. Смуглое лицо улыбалось, жгучие глаза смотрели с отеческой добротой. Он шел, издали протянув мне обе руки. Поддавшись первому впечатлению, измученный беспокойством, я бросился к нему, как будто бы мне было не 20, а 10 лет. Я прильнул к нему с детским доверием, забыв, что надо мужаться перед малознакомым человеком, скрывать свои чувства. Все условные границы были стерты между нами. Мое сердце прильнуло к его сердцу, и я всем своим существом почувствовал, что нахожусь в доме друга, что отныне у меня есть еще один друг и родной дом.
Али обнял меня, прижал к себе и ласково сказал:
– Пусть мой дом принесет тебе мир и помощь. Войди в него не как гость, а как сын, брат и друг.
С этими словами он поцеловал меня в лоб, еще раз обнял и повернул меня к Али-молодому, стоявшему сзади.
Я помнил, как страдал этот человек, когда Наль отдала моему брату цветок и кольцо. Мог ли я ждать чего-либо, кроме ненависти, от него, ревновавшего свою двоюродную сестру к европейцу?
Но Али-молодой, так же как и его дядя, приветливо протянул мне обе руки. Глаза его смотрели прямо и честно мне в глаза; и ничего, кроме доброжелательства, я в них не прочел.
– Пойдем, брат, я проведу тебя в твою комнату. Там ты сможешь принять ванну, надеть свежее белье и одежду. Если пожелаешь, переоденься, но прости, европейской одежды у нас здесь нет. Я приготовил тебе наше легкое индусское одеяние. Если ты пожелаешь остаться в своем, слуга тебе его вычистит, пока ты будешь купаться.
С этими словами он провел меня по довольно большому дому и ввел в прелестную комнату, с выходящими в сад окнами, под которыми росло много цветов.
– Через двадцать минут ударит гонг к обеду, и я зайду за тобой. А за этой дверью ванная комната, – прибавил он.
Он ушел, а я с наслаждением сбросил свой студенческий китель, которым так гордился, открыл дверь в ванную и, увидев, что ванна полна теплой воды, с восторгом стал в ней плескаться. Наконец, набросив мягкий купальный халат, вернулся в комнату. Не успел я еще вытереться хорошенько, как постучали в дверь. Это был слуга, принесший мне какой-то прохладительный напиток. Я выпил его залпом и почувствовал себя верблюдом в пустыне, так была велика моя жажда, которой я не замечал, пока не начал пить.
Я пробовал говорить со слугой на всех языках, но он не понимал меня, отрицательно качая головой, печально разводя руками. Вдруг он заулыбался во весь рот, что-то бормоча, закивал утвердительно головой и побежал к шкафу, вытащил оттуда белье и белую одежду. Очевидно, он подумал, что я спрашиваю его именно об этом. Я хотел остаться в своем кителе, но у слуги был такой радостный вид, он был так счастлив, думая, что понял, чего мне было надо, что мне не захотелось его огорчать. Я весело рассмеялся, похлопал его по плечу и сказал:
– Да, да, ты угадал.
Он ответил на мой смех еще более радостными кивками и повторил, как бы желая запомнить:

ВСЯ ЖИЗНЬ – РЯД ЧЕРНЫХ И РОЗОВЫХ ЖЕМЧУЖИН. И ПЛОХ ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЕТ НОСИТЬ В СПОКОЙСТВИИ, МУЖЕСТВЕ И ВЕРНОСТИ СВОЕГО ОЖЕРЕЛЬЯ ЖИЗНИ. НЕТ ЛЮДЕЙ, ЧЬЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ЖИЗНИ БЫЛО БЫ СОТКАНО ИЗ ОДНИХ ТОЛЬКО РОЗОВЫХ ЖЕМЧУЖИН

– Да, да, ты угадал.
Речь его была так смешна, что я по-мальчишески залился смехом и вдруг услышал звук гонга.
– Батюшки, – закричал я, как будто мой слуга мог меня понимать, – да ведь я опоздаю.
Но мой слуга понял все отлично. Он быстро подал мне трусы и брюки из белого шелка, длинную рубашку, белый шелковый нижний халат и еще одну белую одежду, легкую льняную, вроде той, в которую был одет Али Мохаммед. Не успел я залезть во все это, как раздался стук в дверь и на мой ответ «войдите» появился Али-молодой.
– Ты уже готов, брат, – сказал он. – А я принес тебе чалму; подумал, что твоя остриженная голова может сгореть под солнцем без нее.
– Да я не сумею ее надеть, – ответил я.
– Ну, это один момент. Присядь, я тебе сверну тюрбан.
И действительно, гораздо ловчее, чем это делал брат, он обернул мне голову чалмой. Мне было удобно и легко. На голые ноги я надел белые полотняные туфли без каблука, и мы двинулись с Али Махмудом обедать.
Мы вышли в сад, и в тени необычайно громадного каштана я увидел круглый стол, за которым уже сидели старший Али и Флорентиец. Я извинился за свое опоздание, но хозяин, указав мне место рядом с собой, приветливо улыбнулся и ласково сказал:
– Мы не придерживаемся строгого этикета, когда живем за городом. Если тебе вздумается вообще не выйти к какой-нибудь трапезе, чувствуй себя совершенно свободным и поступай только так, как тебе легче, проще и удобнее. Я буду очень рад, если ты погостишь здесь, отдохнешь и наберешься сил для дальнейших трудов. Но если жизнь рассудит иначе, – прими в моем доме всю любовь и помощь и помни обо мне, как о преданном тебе навеки друге.
Я поблагодарил, занял указанное мне место и посмотрел на Флорентийца. Он тоже переоделся в белое индусское платье. Снова я поразился этой юной цветущей красоте, в которой, казалось, не было ни одной складки страдания или беспокойства, но было разлито полное счастье жизни. Он тоже поглядел на меня, улыбнулся, вдруг поджал губы, сделал движение левой бровью и веком, и я увидел глупое лицо лорда Бенедикта. Я залился своим мальчишеским смехом, рассмеялись и оба Али.
Стол был сервирован прекрасно, но без всякого шика. Меню было европейское, но ни мяса, ни рыбы, ни вина не было. Я был голоден и ел с удовольствием и суп, и зелень, как-то особенно приготовленную, с превкусными гренками; отдал дань и чудесным фруктам. Я так был занят едой, так отдыхал от всего пережитого, что даже мало наблюдал моих сотрапезников. Подали в чашах прохладительное питье; но оно нисколько не было похоже на содержимое той чаши, что мне подал на пиру Флорентиец. Обед кончился, как и начался, без особых разговоров. Старшие говорили тихо на незнакомом мне языке, Али же молодой рассказывал мне о названиях и свойствах цветов, стоявших в овальной фарфоровой китайской вазе посреди стола. Многих цветов я совсем не знал, некоторые видел только на рисунках, но восхищался всеми. Али обещал мне после обеда показать в оранжерее дяди редкостные экземпляры экзотических цветов, обладавших будто бы замечательными свойствами.
Хотя я ел с хорошим аппетитом, я все же заметил, что Али-молодой ел мало и, казалось, только из вежливости, чтобы я не выделялся среди всех своим аппетитом, но все же отведал все подававшиеся блюда. Но сколько я ни смотрел на Али-старшего, я ничего, кроме фруктов, меда и чего-то похожего на молоко, в его руках не видел. Незаметно обед кончился. С самого начала меня несказанно удивила перемена, произошедшая в молодом индусе. Сейчас она казалась мне еще более разительной. Выражения нетронутой безмятежной юности, ранее бывшего на его лице, как не бывало. Он, должно быть, пережил такое глубокое страдание, что его психика словно сделала скачок в другой мир. И я невольно сравнил наши судьбы и подумал, что ведь и я перешел черту безмятежного детства и занавес над ним опустился. Начиналась другая жизнь…
Все время, с того самого момента, как Али Мохаммед обнял меня, я хотел спросить его о брате, – и все вопрос застывал на моих устах, я не мог решиться задать его. Теперь снова острая тоска по брату резанула меня по сердцу, и я с мольбой взглянул на моего хозяина. Точно поняв мой безмолвный вопрос, Али встал, встали и мы все и поблагодарили его за обед. Он пожал всем руки и, задержав мою в своей руке, сказал:
– Не хочешь ли, друг, пройтись со мной к озеру. Оно недалеко, в конце парка.
Я обрадовался возможности поговорить наконец с Али Мохаммедом, и все мы двинулись в глубь сада. Мы с Али-старшим шли впереди. Сначала я слышал за собой шаги Флорентийца и молодого Али. Но вот мы свернули в густую платановую аллею, и нас окружила никем, кроме птиц и цикад, не нарушаемая тишина. В этой части парка уже не было цветов, но деревья попадались не только необычайно развесистые и с колоссально толстыми стволами, но и с необыкновенной окраской листьев и цветов. Особенно привлекли мое внимание клены с черными листьями и розовые магнолии. Дивные большие цветы, бледно-розового цвета, покрывали магнолии так густо, что они казались гигантскими розовыми яйцами. Аромат был силен, но нежен. Я невольно остановился, вдохнул всеми легкими душистый воздух и, забыв все раздирающие меня мысли, воскликнул:
– О, как прекрасна, как дивно прекрасна жизнь!
– Да, мой мальчик, – тихо сказал Али. – Обрати внимание на эти рядом живущие группы деревьев. Черные клены и розовые магнолии, – и все вместе, будучи таким ярким контрастом, живет в полной гармонии, не нарушая стройной симфонии Вселенной. Вся жизнь – ряд черных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чье ожерелье жизни было бы соткано из одних только розовых жемчужин. Ты уже не мальчик. Настала и для тебя минута выявить твои честь, мужество, верность.
Мы двинулись дальше; вдали сверкнуло озеро; мы еще раз свернули в аллею мощных кедров и подошли к беседке, устроенной из плакучего вяза. В ней было тенисто, с озера веяло прохладой. Безмятежность жизни, казалось, ничем не нарушалась здесь. Но слова Али подняли во мне бурю. Мысли мои кипели; я чувствовал, что услышу сейчас что-то роковое, но никак не мог привести себя в равновесие.
– Вчера ночью я спас две жизни, хотя тебе может казаться, что я обрек их на муки и угрозу смерти. Я давно тружусь, чтобы пробудить самосознание в этом народе, разбить стену фанатизма, пробить тропинку хотя бы к самой начальной культуре и цивилизации. Я открыл здесь несколько школ, отдельно для мальчиков и мужчин и для девочек и женщин, где бы они могли учиться грамоте на своем и русском языках и самым элементарным основам физики, математики, истории. Все мои начинания встречались и встречаются в штыки; и не только муллами, но и царским правительством. С обеих сторон я слыву революционером, неблагонадежным человеком. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понял, в какое положение попал, и отдал себе точный отчет в своих дальнейших действиях и поступках. Я заранее тебя предупреждаю: на тебе не висят никакие обязательства, ты совершенно свободен в своем выборе и поведении. И что бы ты ни услышал от меня, – ты сам, добровольно, выберешь свой путь. Сам нанижешь в ожерелье матери-жизни ту жемчужину, цвет и величину которой создашь своим трудом и самоотверженной любовью. Если ты захочешь устраниться от борьбы за брата и Наль, – твой «лорд Бенедикт», – чуть улыбнулся Али, – отвезет тебя в Петербург, где ты будешь в совершенной безопасности. Если же верность твоя последует за верностью твоего брата, – ты сам определишь те помощь и роль, которые пожелаешь осуществить.
Наль воспитана мною. Только внешняя форма воспитания – на восточный манер – соблюдалась в ее жизни, и то весьма не строго. Наль хорошо образованна, и ее блестящие способности помогли ей узнать гораздо больше, чем знает любой окончивший европейский университет человек. Пять лет назад я уговорил твоего брата начать заниматься с Наль математикой, химией, физикой и языками, так как частые отлучки из города не позволяли мне самому регулярно заниматься с нею. Отсюда и происхождение тех восточных халатов и накладных бород и усов, которые вы спрятали сегодня с Флорентийцем в гардеробе твоего брата. Тупая матрона, старая мать Али Махмуда, когда-то спасенная мною от разорения и гибели, оказалась злой и неблагодарной. Она всячески препятствовала общению Наль с другими людьми. Только переодеваясь в другие халаты, мог твой брат проникать как учитель в разных гримах в рабочую комнату Наль. И старая, подслеповатая женщина была уверена, что впускает все разных учителей. Охраняя Наль во время уроков, она спала и так смешно храпела, что заставляла Наль иногда громко смеяться, но это не будило глухую матрону.
Я представил себе два прекрасных молодых существа, которые учатся под охраной полуслепого, полуглухого стража, вспомнил почему-то, как сам я разыгрывал роль: «Вы хромы, глухи и немы», – и закатился своим мальчишеским смехом.
Али погладил меня по плечу и продолжал:
– Время шло. Я понял давно, какое чувство возникло между Наль и твоим братом. Было бы бесполезно взывать к чести и мудрости твоего брата, он и без того был на высоте их. Я не мешал этому чувству, так как все равно не видел для Наль иного выхода, нежели побег из этого гнетущего места, и готовился к нему заранее. Старая дурища, тетка Наль, испортила весь мой план. Она завела за моей спиной интриги с муллой и дервишами. Довела дело до сговора о браке несчастной Наль с самым оголтелым и злым из всех религиозных фанатиков, каких я здесь знаю. И теперь готовится объявление религиозного похода против меня, ведь я не давал согласия на этот брак и покровительствовал христианам. Не буду утруждать тебя подробностями, – ты сам видел, что избежать сговора не удалось.
В тот миг, когда Флорентиец тебя вывел из сада, на женской половине тоже шел пир. Там все было подготовлено к законному похищению невесты. Роль невесты играл Али, мой племянник, пробравшийся в темноте в одежде Наль на женскую половину и успевший сесть на место невесты, пока продолжался беспорядок с освещением. Темнота немного дольше длилась на женской половине. Все совершилось честь честью. Невеста была выведена старухами в сад и там, переданная из рук в руки, «похищена» женихом. С выстрелами, шумом и гамом, как полагается по обряду для знатного купеческого дома, было совершено похищение. По дороге приключилась какая-то заминка с одной из лошадей. И пока все участники этого действа с факелами и ножами вместе с женихом поправляли упряжь, Али сбросил с себя халат, роскошные покрывала и оставил в повозке захваченные с собой туфельки Наль, сам же выпрыгнул бесшумно из телеги, – на что он большой мастер, – и, скрывшись во тьме, благополучно добрался до моего уже уснувшего дома, где мы его поджидали у калитки вместе с Флорентийцем.