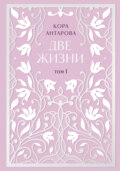Конкордия Антарова
Две жизни. Роман в четырех частях
Глава 22
Неожиданный приезд сэра Уоми и первая встреча его с Анной
Утром не успел я встать, как Иллофиллион уже позвал меня идти к Ананде.
Мы спустились вниз, было еще не жарко, и я с восторгом вдыхал аромат цветов, множество которых князь развел в саду.
Гул города слышался вдали. Мне казалось, что это там, за оградой нашего дома, мечутся люди и бушуют страсти, свиваясь в клубки страданий и легко ускользающего счастья. А здесь, возле Иллофиллиона и Ананды, царит атмосфера устойчивого мира.
Но тотчас же в моей памяти мелькнуло измученное лицо Генри, его отчаянный голос и бешеный натиск на мою дверь. Я вздохнул и еще раз осознал правоту слов Иллофиллиона, что нельзя поднять человека в иную атмосферу, если он сам не способен носить ее в себе.
Первое, что я увидел у Ананды, был Генри, уныло сидевший перед столом.
– Здравствуй, Левушка, – сказал мне Ананда. – Скажи, пожалуйста, почему ты не открыл дверь Генри ночью, хотя он заклинал тебя, уверяя, что двум людям грозит смерть?
– Только потому, что дал себе слово не нарушить своей верности вам. Ведь я дал вам слово ни с кем не видеться три дня. Только поэтому я и письмо у него не взял. И если бы даже Генри говорил мне, что он сам сгорит в огне, если я не открою, – я все равно верил бы вам, а не ему; верил бы, что того, что знаете и можете вы, не знает и не может Генри. Хотя – в то же время – я совершенно уверен, что Генри знает и может гораздо больше, чем знаю и могу я сам. У меня не было и нет никаких сомнений. И если я поступил, по вашему мнению, не так, я прошу прощения. И все-таки, если бы вы, или Иллофиллион, или Флорентиец дали мне какое-либо поручение или наложили на что-то запрет, я ни за что не нарушил бы данного мне приказания.
Зная свою невежественность, я не осмелился бы судить о целесообразности ваших распоряжений. Будучи же спасенным вами от смерти, зная, как самоотверженно вы пришли на зов Флорентийца, чтобы помочь моему брату, я из одного чувства благодарности и преданности решился бы скорее разделить вашу печальную судьбу, если бы это могло случиться, чем нарушить верность данного вам слова.
– Что ты скажешь мне, Генри? – спросил Ананда.
Его голос меня потряс. Ни один отец не мог бы так ласково, с таким состраданием обратиться к своему провинившемуся сыну. Я внутренне устыдился. Я был горд, что выполнил свой урок, что не споткнулся об условность, понимая суть дела. Я доказал, что действительно люблю моих высоких друзей, что я был им предан и благодарен. Ну а любил ли я Генри? Тон голоса Ананды, где не было ни капли упрека, а только одно бесконечное сострадание, показал мне, как должна звучать истинная любовь.
Генри, за минуту мрачный, поднял голову, посмотрел Ананде в глаза и хрипловатым голосом произнес:
– Я сам не понимаю, как мог я дойти до такого состояния.
– Я ведь тебе говорил, чтобы ты не брал писем у Жанны. Я тебя предупреждал, чтобы ты не знакомился с Браццано. Я объяснил тебе, что тебе – кармически с ним связанному – придется помочь ему, но тогда, когда ты поймешь его злодеяния. Я запретил тебе видеться с ним сейчас без меня или Иллофиллиона, а ты пошел к нему, да еще повел с собой Жанну.
– Нет, Жанна не переступала его порога.
– Только потому, что вас встретил Строганов и ты не посмел увести ее в рабочее время из магазина, – продолжал Ананда. – Но дело теперь не в этом. Ты, Генри, потерял возможность закончить свои вековые счеты с этим человеком. Ты мог, с нашей помощью, заплатить добром и любовью за все зло, которое сделал когда-то этот человек твоей матери и тебе. Но ты не выдержал самого легкого из испытаний, чтобы двинуться дальше.
Тебе надо расстаться сейчас со мной – не потому, что я сержусь или недоволен тобой. Но просто потому, что в атмосфере тех вибраций, в которых живу и легко дышу я – ты теперь, с бунтом в душе, жить не сможешь.
Выбрось письма – они подавляют тебя. Рука, их писавшая, была во власти зла, под гипнозом сильного, темного и лживого существа. Брось брелок, который тебе привесил Браццано. Посмотри, во что превратилась голубая жемчужина, которой ты так любовался.
Генри, весь до волос залитый краской стыда, вынул часы и с трудом, дрожащими руками, отцепил круг из черного агата. Когда он хотел положить его на стол, Иллофиллион удержал его руку, говоря:
– Не надо пачкать стол этой отвратительной вещью. Где же здесь голубая жемчужина?
Генри положил брелок на ладонь и воскликнул:
– Да ведь еще вчера я видел, как она переливалась голубым и алым цветом! А теперь здесь смола, липкая и красная, как капля крови.
– Брось ее вместе с письмами в камин, и ты, может быть, кое в чем убедишься, – подавая Генри зажженную свечу медленно, как бы что-то преодолевая, сказал Ананда.
Генри колебался. Но две пары глаз, направленных на него, излучали такую силу воли, что он положил в камин письма, на них брелок и поджег.
Как только бумага вспыхнула, раздался треск, как от выстрела, и все то, что было за мгновение до того брелоком, разлетелось в мельчайшие куски, а потом в порошок. Комнату наполнил смрадный дым. Я закашлялся и даже с трудом дышал. Генри же, не отрывая глаз, смотрел в камин. На лице его выступили капли пота, он точно видел что-то в огне. А огонь – для двух писем – был несоразмерно велик.
Вдруг он вскрикнул, упал перед Анандой на колени и прошептал:
– Какой ужас! О, боже мой, что я наделал? Что теперь ждет меня?
– Ты вернешься в Венгрию. Там ты поедешь к одному моему другу, если желаешь снова начать искать путь к самообладанию и к встрече со мною когда-либо. Не задумывайся о том, что будет в отдаленном будущем. Ищи только сегодня, сейчас силы и любви, чтобы преодолеть свою проблему. Если же ты не хочешь этого, если встреча со мной снова тебе не интересна, то иди своим путем как знаешь и как хочешь. Ты свободен, как и был свободен все время жизни со мною. Но, если ты решишься ехать к моему другу, ты должен уехать через три часа с отходящим пароходом.
– Жить без вас? Жизни нет для меня там, где нет вас. Но я понял, как я виноват, и раздумывать мне не о чем. Я еду. Я не стану давать никаких обещаний. Не потому, что я не верю в свои силы, а потому, что я знаю верность вашей любви, знаю, что вы меня позовете, если я буду готов и достоин. Я вымолил у вас, чтобы вы взяли меня с собой, и вы против своей воли это сделали. Я не буду больше просить. Не буду попусту ждать. Я буду действовать и жить, как если бы я жил рядом с вами.
– Иди, собери вещи, ни с кем ни о чем не разговаривай и вернись сюда. Я сам объяснюсь с князем, дам тебе письмо и провожу тебя, – погладив его по голове, сказал Ананда.
С большим трудом Генри овладел собой, поклонился нам и вышел. Ах, как в эту минуту я любил Генри! Как хотел бы я обнять его, попросить у него прощения за самолюбивые мысли и сказать ему, что всем сердцем понимаю, как тяжела для него эта разлука. Но я не смел прервать молчания моих друзей.
Через некоторое время Ананда встал и позвал нас в свою тайную комнату. Здесь он сел за стол, посадив Иллофиллиона рядом с собой, а я сел под новым деревцем сирени, которым чьи-то любящие руки заменили прежнее, отцветшее.
– Много еще скорби в жизни ты увидишь, Левушка, и немало испытаешь ее сам. И каждый раз, где бы и с какими страданиями ты ни встретился, ты будешь понимать, что причины их – это страх, сомнения, ревность и зависть, а также жажда денег и славы. На этих корнях растут и все другие страсти, в которых гибнут люди. Вторая же половина горестей происходит от слепоты людей, от их убеждения, что вся жизнь заключается в маленьком периоде от рождения до смерти и что она отрезана от всего остального мира. И этот главный предрассудок мешает видеть ясно всю Вселенную и понять свое место в ней.
Не считай нас существами высшими, как ты склонен это делать иногда. Когда-то и я, и Иллофиллион – мы шли по жизни так же, как ты идешь сейчас. В страдании и слезах раскрывалось наше сердце, в тревогах и муке расширялось сознание.
Твой талант и твои прежние искания высшей духовной жизни, о которых ты сейчас не помнишь, дали тебе возможность продолжать свой путь самосовершенствования и в этой жизни. Они привели тебя к встрече с Али, Флорентийцем и с нами, и сведут еще со многими другими в будущем. Я счастлив, что честь твоя и стойкая верность не поколебались и приблизили тебя еще больше к нам.
Видишь ли, одним из дел, из-за которого я сюда приехал, были Генри, Анна и Строгановы, запутанные в подлую сеть Браццано в прошлом и сейчас. Что касается Генри – ты видел и слышал. Он должен был развязать кармические узлы своей матери и свои – и не сумел выдержать первого же легкого испытания. А между тем он многое уже победил и несколько раз бывал на высоте возложенных на него задач.
У тебя путь иной. Ты одарен сверхсознательными силами, в которых пока еще не умеешь разбираться. И тебе интуитивно видны смысл и радость жизни, до которых люди-скептики, экспериментаторы, привыкшие все ощупывать руками и считать реальным только то, что могут потрогать, доходят веками. Им приобрести цельность верности так же трудно, как тебе – поколебаться в ней. Для них реальность – земля, все остальное – величины абстрактные.
Иллофиллион расскажет тебе все, что произошло за время твоей болезни в доме Строгановых. Ты же восстановишь свое здоровье в течение десяти дней, а затем будешь вместе с нами сражаться за жизнь и свободу Анны, ее отца и матери, а также младшего брата, уже гибнущего под гнетом Браццано.
Я прошу тебя еще два дня не видеться с Жанной, которая изводит князя, прося о свидании с тобой, но он держится не хуже тебя, хотя и очень страдает, так как – при его доброте – ему слишком тяжело отказывать ей.
Ты не удивляйся, что еще так долго придется ждать дня зловещего сражения. Если бы Генри нам не изменил – он сумел бы очень помочь нам. Теперь же его роль должен отчасти взять на себя ты. А другую часть его работы выполнит капитан. Я получил от него сегодня письмо. Он благополучно окончил свой рейс и через восемь-девять дней будет здесь. Вот его-то мы и подождем.
Ну, будь и дальше так же успешен в своем духовном пути, мой друг. Добивайся полного бесстрашия. И не забудь, что бесстрашие – это не только отсутствие трусости. Это еще и полная работоспособность всего твоего существа, и полное спокойствие в атмосфере опасности. Тебе надо так уметь жить, чтобы ты, ощущая руку Флорентийца в твоей руке, не знал не только страха, но даже дрожания в нервной системе своего физического проводника.
Ананда проводил нас с Иллофиллионом, и его глаза-звезды еще долго стояли передо мной.
Мы вышли в город и, медленно идя по тени, добрели до кондитера с волшебным «Багдадом». Сказав ему, что мы еще ничего не ели, мы попросили нас накормить по его усмотрению. Он провел нас на маленький, укрытый в тени балкон и попросил подождать минут пятнадцать-двадцать, пообещав, что зато потом мы будем вознаграждены за терпение. Иллофиллион напомнил ему, что мы вегетарианцы, и сказал, что мы согласны ждать до получаса.
Оставшись вдвоем со мной, Иллофиллион стал рассказывать мне о том, что произошло за период моей болезни.
Одним из первых новых для меня фактов был визит Строгановой к Жанне, куда она – втайне от мужа и дочери – привезла Браццано.
– Как несложно было для Браццано сделать Жанну своим оружием, так же несложно оказалось ей обворожить Генри и ввести его в общение с самим Браццано. Генри поверил, что Строганов ревнует дочь и не позволяет ей выйти замуж, что Анна – жертва деспотизма отца и Ананды и что наибольшие страдальцы – сама Строганова и ее младший сынок.

«СВЯЗИ ЛЮДЕЙ, ИХ ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ – ВСЁ ЭТО ПЛОДЫ НЕ ОДНОЙ ДАННОЙ ЖИЗНИ. И ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА, И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ – ВСЁ СЛЕДСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО ЛИЧНЫХ ТРУДОВ И ДОСТИЖЕНИЙ В ВЕКАХ. НЕТ ПУТИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЛЯ КОГО-ТО ОДНОГО, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ МИЛЛИОНОВ ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЖИЗНЕЙ. ТОЛЬКО НАУЧИВШИСЬ ЕДИНЕНИЮ С ЛЮДЬМИ В КРАСОТЕ И СЛИЯНИЮ С НИМИ ЛЮБВИ, МОЖНО ДОСТИЧЬ ТЕХ ДУХОВНЫХ ВЫСОТ, ГДЕ ЖИВУТ ЛЮДИ, ПРЕВОСХОДЯЩИЕ НАС. ТОГДА ОТКРЫВАЕТСЯ СОБСТВЕННОЕ СЕРДЦЕ, И В НЕМ ОЖИВАЕТ НОВАЯ ЛЮБОВЬ. И ЧЕЛОВЕК ПОНИМАЕТ, ЧТО ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ СВЯЗАНА, ДЫШИТ И ВЕЧНО ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД ЭТОЙ ЖИВОЙ ЛЮБОВЬЮ»

Когда Генри разговаривал с Браццано, тот внушил ему заманить к нему и меня, какими бы способами Генри этого ни достиг. В настоящее время Браццано, имея полную власть над женой Строганова и ее сыном, подготавливает все для похищения Анны. Браццано боится только Ананды, так как со мной одним он предполагает справиться при помощи своей клики, хотя бы отправив меня на тот свет, – улыбнулся Иллофиллион. – Но он не знает, что сэр Уоми уже едет к нам. И тебе предстоит приятная встреча с Хавой. Браццано уже забыл, – помолчав, продолжал Иллофиллион, – как ему пришлось уронить свой наговоренный браслет, который он, кстати сказать, украл. А я жалею, что дал ему возможность прийти в себя раньше времени. Я не учел, что он так скоро это забудет, и не понял сразу, как сильна эта гадина.
Дальше он мне рассказал, как Строганова своими безобразными домашними сценами довела мужа до безумного страха и наконец, до приступа, едва не стоившего ему жизни.
– Но Анна? – перебил я Иллофиллиона, не будучи в силах выдержать более. – Неужели Анна могла сомневаться, выходить ли ей за Браццано?
– Нет, не в этом крылись те сомнения, которые едва не унесли и ее тоже. Она, видя кажущуюся инертность Ананды, решила, что он не понимает, как ее преследует турок, и просила ей помочь освободиться от него. Ананда ей ответил, что причина ее страданий в ней самой, что ей надо проверить себя, насколько она уверена теперь в том пути целомудрия, который сама – добровольно и вопреки совету Ананды – избрала. Что ей надо в душе ясно решить, идет ли она путем радостной любви, желая найти путь освобождения. Или она идет путем целомудрия только потому, что любимый ею не может быть ей мужем? Если она идет путем отречения и отказа, ограничения и отрицания вместо утверждения такой жизни, где любя побеждают и творят в радости, – она не дойдет до тех путей, где сможет слиться в труде и творчестве со своим возлюбленным.
Анна, не углубляясь в смысл слов Ананды, решила, что любимый по-настоящему ее не любит. Впала в сомнения, так ли вообще она повела свою жизнь: бунтовала, требовала, ревновала, усомнилась в том, кого любила. И ты видел сам финал драмы этой души за роялем, – закончил он.
Нам принесли завтрак, подали кофе. Вновь оставшись одни, мы возобновили разговор.
– Ты видел внешнюю сторону драмы у рояля. Я тебе расскажу то, чего ты не мог видеть. Своими сомнениями, слезами, ревностью и горечью Анна разрушила вокруг себя устойчивую атмосферу чистоты и гармонии, в которой был бессилен да-Браццано.
Чтобы его злая воля и грязные мысли могли претвориться в действия, было необходимо, чтобы в душе и мыслях Анны появились темные щели, в которые могло бы вцепиться его зло. Ее душевный разлад предоставил Браццано эту возможность. Владея силой привлекать к себе такие же отрицательные токи других людей, он вызвал вокруг нее целую тучу злых сил и мыслей, внушавших Анне, что тот, кто был любим ею – шарлатан, что никакой иной радости, кроме земных страстей, в реальной жизни не существует, что не для абстрактных идей живут люди, а для своих близких, плотью связанных с ними. И пока Анна играла первую часть сонаты, ее горе доходило до отрицания Бога и духовно возвышенных людей с их недоступной честью. Она готова была все, чем жила годы, признать фикцией. Здесь-то пришлось Ананде, всем сосредоточенным вниманием и волей, вызвать образ его дяди – вельможи и доктора, – о котором я тебе говорил.
Ты по личному опыту знаешь, что можешь услышать и увидеть Флорентийца, если сосредоточишь на нем свое внимание и всю чистую любовь. Но передать другому человеку свое видение, если он не обладает этой высшей психической силой – задача очень тяжелая для физического организма человека. Ананда сделал это для Анны и спас ее, вернул ей силы жить и вновь обрести полное духовное равновесие.
Потом я расскажу тебе о сыне и жене Строганова…
Вошел хозяин, мы сердечно поблагодарили его и пошли домой.
– Теперь, я думаю, для тебя настало время прочесть письмо капитана. А я пойду к Ананде. Я бы очень хотел, чтобы ты не выходил из наших комнат, пока я не вернусь, – сказал мне Иллофиллион, когда мы возвращались домой.
Я обещал, решив, что никуда не пойду. Достав письмо и сверток капитана, я запер все двери и сел на диван. И вдруг поймал себя на мысли, что почему-то жду прихода Жанны. Даже не то что жду, но – как и тогда ночью, когда я был уверен, что придет Генри, – я был и теперь уверен, что Жанна придет.
Я стал читать письмо моего дорогого капитана. Подлинную глубину своей любви к нему я понял только сейчас, когда стал разбирать его крупный, как будто и четкий, но на самом деле не очень разборчивый почерк.
«Левушка, храбрец-весельчак, до чего я огорчен, что должен уехать, оставляя Вас не то живым, не то мертвым.
Некоторую долю спокойствия я, конечно, увожу в сердце, потому что оба Ваши друга сказали мне, что Вы будете живы. Но все эти дни мне так не хватало Вас, Вашего заливистого смеха и мальчишеских каверз.
В Константинополе я пережил три этапа жизни. Сначала я все похоронил. Потом я ожил и увидел, что многое уже ушло, но жизнь еще не потеряна.
Теперь во мне точно звенит какая-то радость. Как будто я обрел новое спокойствие: не один мозг воспринимает день и ему сопутствующие страсти и желания. А на каждое мозговое восприятие отвечает сердце; пробуждается доброжелательство ко всякому человеку, а страсти и желания молчат, не имея прежнего самодовлеющего значения. Это для меня так же ново, как нова и непонятна моя, всегда холодного и равнодушного человека, привязанность к Вам. Я думаю, что Вы меня поразили в самое слабое мое место Вашей дикой храбростью. (Простите, но иного названия я ей не нахожу.)
Я с детства носился с идеей неустрашимой храбрости. Бесстрашие было моим стимулом жить. И вдруг я встретил мальчишку, который меня так просто переплюнул, как будто съел соленый огурец!
По логике вещей я бы должен был завидовать Вам и Вас ненавидеть. А вместо этого я прошу Вас принять от меня маленький привет, в знак моей всегдашней памяти и любви, преданной дружбы и желания жить рядом с Вами.
Ваш капитан».
Я был тронут письмом и его – незаслуженными мною – лаской и приветом. Раскрыв изящно и замысловато сложенный пакет, я вынул кожаный футляр, открыл его и вскочил от неожиданности.
Точная копия кольца, которое я передал Ананде от капитана, только с буквой «Л» и с камнями зеленого цвета, лежала на белом атласе футляра.
Я вынул кольцо. По бокам и сзади – вместо фиалок, как на кольце Ананды, – на нем из изумрудов и бриллиантов были выложены очаровательные лилии. На дне футляра лежала записка.
«Анна сказала мне, что ваши камни – изумруд и бриллиант, а цветок ваш – лилия. Так я и поступил. Угодил ли?» – прочел я размашистый почерк капитана.
Я был и очень рад, и очень смущен. Я вспомнил, как я сказал ему: «Вот такого – никто мне не подарит», – когда мы сидели на диване в комнате Ананды и вместе любовались его кольцом.
Я все еще сидел над кольцом, весь ушел в размышления о том, где теперь капитан, что он делает и кто возле него, и как я буду рад его видеть снова, как вдруг услышал какую-то возню в комнате рядом, точно ссору, и голос князя, который я с трудом узнал. Обычно он говорил тихо, и я даже не представлял себе, что он мог когда-либо говорить так возмущенно, громким, высоким голосом.
– Я вам две недели подряд говорю, что он болен, что его нельзя беспокоить, потому что это может вызвать еще один рецидив болезни, – и тогда уже ему нет спасения! – кричал князь, будто с кем-то борясь. – А вы, каждый раз повторяя, что обожаете его, лезете с какими-то письмами, с какими-то поручениями, от которых меня издали тошнит. Что вы из себя изображаете, попадая в игрушки к этому негодяю? – услышал я его французскую речь, произнесенную задыхающимся голосом.
– Вы бессердечный! Это вы зловещий человек! Вы уморили свою жену, как мне рассказала мадам Строганова. Теперь вы участвуете в заговоре, чтобы уморить Левушку! – кричала вне себя Жанна, голос которой был визглив и груб.
– Если бы я не видел вас раньше, до знакомства с этим злодеем, если бы о вас мне не сказали люди, которым я обязан не только жизнью моей бедной жены, но и своею жизнью, я бы не задумываясь выгнал вас сейчас вон, чтобы никогда больше не видеть вашего бессмысленного лица в моем доме. Но я думаю, что вы сошли с ума и одержимы злой волей, – и только потому я говорю вам: извольте уйти отсюда сами! Вы не увидите Левушку, если только не прячете под пелериной нож и не решитесь им меня зарезать!
Несколько минут прошло в молчании.
– Боже мой, боже мой! Что они со мной сделают, – услыхал я снова голос Жанны, молящий, плачущий. – Ну поймите, поймите, я должна отдать Левушке этот браслет и это письмо. Это для Анны. Он должен сам надеть ей браслет на руку, потому что я не могу, не имею сил подойти к ней. Ну поймите – не могу, и все! Как только я беру этот браслет и подхожу к Анне, что-то меня не пускает. Нет препятствий, а подойти не могу! А Левушка может. Поймите, если я не передам ему поручения – лучше мне и домой не возвращаться. Ну, вот я на коленях перед вами, пожалейте меня, моих детей! – рыдала Жанна за дверью.
Мое сердце разрывалось. Но я понимал, что должен в полном самообладании звать Флорентийца. Я сосредоточил на нем все свои силы, и – точно молния – мне в уши ударил ответ: «Зови сейчас же, сию минуту Ананду».
Я еще раз сосредоточил все свое внимание, почти изнемогая от напряжения, и услышал как бы издали голос Ананды: «Иду». Я мгновенно успокоился, как-то внутри утих. И тут же совершенно ясно понял степень безумия Жанны. Я вдруг понял, что у нее есть нож, что она ранит князя, и бросился к двери, но уже другая сильная рука держала руку несчастной Жанны, в которой сверкало лезвие тонкого и узкого, длинного ножа…
Ананда встряхнул руку Жанны, нож выпал из ее руки на пол.
– Не прикасайтесь! – крикнул Ананда князю, собравшемуся поднять нож. – Левушка, закрой дверь этой комнаты на ключ, чтобы сюда никто не вошел из комнаты князя, – обратился он ко мне. – Ну а вы, бедняжка, – по-французски сказал он Жанне, – положите рядом с ножом ваш дрянной браслет.
Жанна, как сомнамбула, ни на кого не глядя, положила футляр рядом с ножом на пол.
– Протрите руки, шею, лицо вот этим, – снова сказал он ей, подавая ей ватные тампоны, смоченные жидкостью из флакона, который он вынул из кармана.
По виду этот флакон напомнил мне тот пузырек, где была жидкость, которой смазал меня перед пиром у Али мой брат, из-за чего я стал черным. Я перепугался, что вдобавок ко всему бедная Жанна превратится в Хаву.
К счастью, этого не случилось, и я с облегчением вздохнул, видя, что Жанна усердно терла лицо, шею, руки, но при этом кожа ее не чернела. Исполнив приказание, Жанна постояла с минуту в раздумье. Она осмотрела всех нас с удивлением и сказала слабым голосом, точно никого не узнавая:
– Где я? Почему я здесь? Неужели это пароход? О, капитан, капитан, не выбрасывайте меня, – вдруг сказала она Ананде.
Она снова помолчала, потерла лоб обеими руками.
– Нет, нет, вы не капитан, и это не пароход. Но тогда где же я? Ох, голова моя, голова! Сейчас треснет, – в каком-то бреду тихо говорила Жанна.
Ананда взял ее руку, князь пододвинул кресло и, покачав головой, усадил в него Жанну.
– Я так и думал, что она сошла с ума, – сказал он. – Признаться, она и меня едва не увлекла за собой. Я еле выдерживал ее истерики последних дней.
Из-за суеты в комнате я не услышал стука в дверь.
– Левушка, впусти Иллофиллиона, он у двери, – сказал мне Ананда. Подбежав к двери, я впустил Иллофиллиона.
Ананда отошел от кресла, указал Иллофиллиону на Жанну, и тот, подойдя к ней, положил ей руку на голову.
– Узнаете ли вы меня, Жанна? – спросил он.
– Господин старший доктор, как же я могу не узнать вас? – ответила тихо и совершенно спокойно Жанна.
– Зачем вы сюда пришли, Жанна?
– Я сюда пришла? Вы ошибаетесь, я сюда не приходила, я даже не знаю, где нахожусь, – снова тихо отвечала Жанна. – И я очень хочу домой.
Иллофиллион отнял свою руку.
– Ах, нет, нет, я не хочу домой, там меня ждет что-то ужасное… Хотя ведь там мои дети. Боже мой, что это все значит? Больно, больно в сердце! – вдруг громко закричала она.
Ананда быстро подошел к ней и взял обе ее руки.
– Посмотрите на меня, Жанна. Знакома ли вам вот эта вещь? – Он подал ей шитый бисером обычный восточный кошелек.
– Да, это дала мне вчера мадам Строганова. Она сказала, что Браццано подарил его ее младшему сыну, но там выпало несколько бисеринок, от чего расстроился рисунок. И что такие бисерины есть только у Анны, что нужно взять их в ее рабочей шкатулке и поправить рисунок. А я не могу их взять, не знаю почему, а не могу, – ее голос перешел почти в шепот.
Иллофиллион подвел меня к Жанне, которая или не видела, или не узнавала меня до сих пор.
– Левушка, Левушка, ах, как вы мне нужны! Я вас, кажется, уже год ищу. Но я хотела вам что-то очень важное сказать, а сейчас все забыла. Где вы были все это время? Вот здесь… – она стала искать у себя в кармане пелерины, – нет, я больна, Левушка, – ничего не найдя в кармане и опустив руку, сказала Жанна.
Иллофиллион поднял безжизненно упавшую руку Жанны и с помощью князя перевел несчастную женщину в свою комнату. Здесь он еще раз отер ей лицо и руки и подал стакан с водой, куда чего-то накапал. Жанна жадно выпила; на ее безжизненном и бессмысленном до сих пор лице появился румянец. Через минуту перед нами сидела прежняя Жанна, какой она была в лучшие моменты нашего общения.
– Теперь вам надо вспомнить всю вашу жизнь этих последних дней, Жанна, и рассказать нам, что с вами было. Мы хотим вам помочь, но для этого надо, чтобы вы сами все вспомнили, – обратился к ней Иллофиллион.
– О, наконец я дышу спокойно, я вижу вас и Левушку живыми. Что со мной было? Я могу сказать вам только одно: я была как мертвая, а сейчас я воскресла. Меня давила какая-то одна мысль, как будто я должна была сделать что-то, похожее на преступление… Да, да, вспомнила, Браццано велел мне добиться через Левушку, чтобы Анна носила на руке его браслет; он говорил, что лишь в том случае может быть уверен, что она выйдет за него замуж, если ей наденут на руку его браслет. Теперь я вспомнила все. Он привел меня сюда, велел идти к Левушке и хоть убить кого-нибудь, а пройти к нему и передать ему этот ужасный браслет. Знаете, он точно жжет руки, когда его держишь, этот браслет.
Она замолчала, потерла лоб, обвела нас всех взглядом и спросила:
– Я не сделала ничего ужасного?
– Нет, все хорошо. Забудьте теперь обо всем этом и ничего не бойтесь. Мы сейчас проводим вас домой, – сказал ей Ананда.
– Как страшно! Там будет ждать Браццано. Он меня убьет, – прошептала Жанна, вся сжимаясь.
– Не бойтесь ничего. Мы сейчас пойдем встречать одного нашего друга. С ним приедет его секретарь, женщина. Она негритянка. Для нашего друга у нас есть помещение, но женщину нам поселить некуда. Не дадите ли вы ей приют на эту ночь? В отеле она будет слишком привлекать к себе внимание, чего бы нам не хотелось, – сказал Ананда Жанне.
– Ах, как я буду рада! Я так боюсь быть одна теперь.
– Если разрешите, я проведу ночь в вашем магазине внизу, и тогда вам уже совсем не будет страшно, – подавая Жанне накидку, сказал Иллофиллион.
– Надо спешить. Князь, мы вас эксплуатируем. Но я сам узнал только час тому назад, что именно сегодня должен встретить нашего друга из Б., о котором вам рассказывал, – пожимая князю руку, сказал Ананда. – Разрешите мне занять комнату капитана, а другу я уступлю свои комнаты.
– Зачем же? Хватит комнат в доме, – запротестовал было князь, но Ананда настоял на своем.
Мы простились с нашим милым хозяином и поспешили к пароходу.
Жанна шла между Иллофиллионом и Анандой, а Иллофиллион держал меня под руку. Я так одурел от всех происшествий дня, что опять стал «Левушкой – лови ворон».
Когда мы завернули за угол пустынной улицы, то увидели, что навстречу нам шел Браццано, нагло глядя на нас. Его адская физиономия выражала крайнее раздражение.
Но не сделав и трех шагов по направлению к нам, он вдруг согнулся чуть не пополам, свернул на мостовую и стал переходить улицу.
– Идите, – сказал нам Ананда. – Я сейчас вас догоню.
В один миг он оказался возле турка, и каждое слово его металлического голоса долетало до нас:
– Еще есть время одуматься! Доползи сгорбленным до дома и три дня не имей сил разогнуться. Обдумай, во что ввязываешься. Подумай, кого вызываешь на бой! Еще есть время, ты еще можешь все искупить. Сиди без языка и движений и думай. Опомнись или пеняй на себя за все дальнейшее! В последний раз милосердие дает тебе зов и возможность к исправлению!
Ананда догнал нас, оставил Иллофиллиона вести Жанну, ласково обнял меня и сказал:
– Мужайся, мой дорогой. Так много испытаний упало на тебя сразу. Боишься ли ты? – спросил он меня.
– Месяц назад я перепугался Хавы. Но турка я не испугался и в вашем присутствии вообще ничего не боюсь. Я только молю Флорентийца помочь мне в страшные минуты, если они будут, привести мой организм в полное спокойствие и работоспособность.
– Браво, друг, – рассмеялся Ананда. – Ты мне напомнил о рассказе капитана, пораженного твоим веселым смехом в самый ужасный момент бури. Теперь и мне стало весело от твоей храбрости.
Я не успел ничего ответить. Через несколько минут мы уже стояли перед сэром Уоми и Хавой, шедшими нам навстречу с пристани.
После первых радостных приветствий мы усадили Хаву, Жанну и Иллофиллиона в экипаж. Слуга сэра Уоми, несший за ним два больших чемодана, положил один из них в экипаж, и тот скоро скрылся из виду.
Сэр Уоми показался мне сейчас несколько иным, чем в Б. В легком сером костюме, в белой шляпе на темных вьющихся волосах, с тростью какой-то особенной формы, он легкой походкой шел рядом с державшим меня под руку Анандой. Сэр Уоми отказался от экипажа, сказав, что с большим удовольствием пройдет с нами пешком. Но перед этим он обернулся к своему слуге и спросил, не тяжело ли ему будет идти пешком с вещами. Слуга улыбнулся и, как игрушку, вскинув чемодан на плечо, ответил, что с таким багажом и десять верст пройти пешком – не проблема.
Дома нас вышел встретить князь. Против обыкновения, лицо его было расстроено, хотя он приветствовал сэра Уоми с большой радостью, даже с восторгом, так ему свойственным.
Мы пропустили сэра Уоми и Ананду вперед. Не сговариваясь с князем, мы оба поняли, что хотим что-то сказать друг другу.