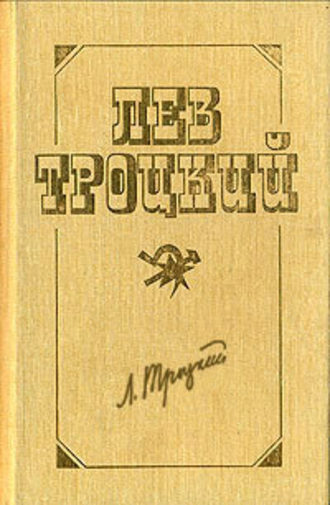
Лев Троцкий
Проблемы культуры. Культура переходного периода
Л. Троцкий. ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
(Речь на пятилетнем юбилее Коммунистического Университета имени Я. М. Свердлова 18 июня 1923 г.)
I. «Новый человек» и революционер
Товарищи! У нас сейчас во всем Советском Союзе, – а мы должны твердо помнить, что наше государство есть Союз, – полоса пятилетних юбилеев. Должен за себя признаться, что когда изрядно перевалишь за свой собственный сорокалетний юбилей, то несколько теряешь вкус к юбилеям вообще. Но если какой-либо из наших пятилетних юбилеев заслуживает внимания и способен вызвать действительно радостный душевный подъем, то это – юбилей Коммунистического Университета, в просторечии Свердловии, поставщицы партийного молодняка…
Товарищи, иной раз говорят, что задачей коммунистического просвещения является воспитание нового человека. Это немножко слишком обще, чересчур патетично. Правда, на юбилеях патетические выражения не только допускаются, но и поощряются. Однако, нам и на юбилеях не нужно допускать бесформенно-гуманитарного истолкования понятия «нового человека» и задач коммунистического воспитания. Нет никакого сомнения в том, что человек будущего, гражданин коммуны, будет очень интересным и привлекательным существом, но он будет иметь психологию… извиняюсь перед товарищами-футуристами: я думаю, что у человека будущего все-таки психология окажется (смех)… будет иметь, говорю, психологию, глубоко отличную от нашей. Но сегодняшней задачей нашей еще не является – к сожалению, если хотите – воспитание этого человека будущего. Утопическая, гуманитарно-психологическая точка зрения считает, что надо раньше воспитать нового человека, а он уже затем создаст новые условия. Мы этому не верим: мы знаем, что человек есть продукт общественных условий и выскочить из них он не может. Но мы знаем и кое-что другое, а именно, что существует сложное, активно-действенное взаимоотношение между условиями и человеком: сам человек есть орудие исторического действия, и не последнее по счету. Так вот в этом сложном историческом переплете среды и активно действующего человека мы-то сейчас и создаем, в том числе и через Свердловию, не отвлеченного гармонического и совершенного гражданина коммуны – о, нет, мы формируем конкретного человека нашей эпохи, который должен еще только бороться за создание условий, из которых вырастет гармонический гражданин коммуны. А это не одно и то же… уже по одному тому, что, если сказать откровенно, то ведь наш правнук, гражданин коммуны, будет не революционер. На первый взгляд это кажется неверным, почти обидным, но это так. В понятие «революционер» мы с вами вкладываем нашу мысль и нашу волю, всю сумму наших лучших страстей, и поэтому слово «революционер» насыщено для нас высшим идейным и моральным содержанием, какое дано нам всем предшествующим развитием культуры. Отсюда как бы невольное чувство обиды за потомков, лишаемых революционного звания. Но не забудем, что революционер есть продукт определенных исторических условий, продукт классового общества. Революционер – не психологическая абстракция. Сама революция – не отвлеченный принцип, а материальный исторический факт, вырастающий из классовых антагонизмов, из насильственного преодоления класса классом. В соответствии с этим революционер есть конкретный исторический, следовательно, временный тип. Мы с вами по справедливости гордимся принадлежностью к этому типу, но нашей работой мы подготовляем условия для такого общества, где не будет классового антагонизма, не будет революций, а, стало быть, не будет и революционеров. Конечно, можно самое слово «революционер» расширить до таких пределов, что оно охватит всякое сознательное человеческое творчество, направленное на порабощение природы, на умножение технических и культурных завоеваний, на то, чтобы перебросить ныне для нас еще неведомые и неслыханные мосты к другим космическим мирам. Но мы-то, товарищи, на такое абстрагирование, на такое безбрежное расширение слова «революционер» не имеем никакого права, ибо еще далеко не завершили нашей конкретной, исторической, политической, революционной задачи, которая состоит в том, чтобы ниспровергнуть классовое общество. Следовательно – и это, я думаю, нелишне подчеркнуть, да покрепче, на празднике Свердловии – воспитательная задача наша отнюдь еще не состоит в том, чтобы лабораторным путем в архи-негармоническом переходном обществе, – а наше общество сделало большой скачок от капиталистического рабства, но еще и порога коммунистической гармонии не видать! – чтобы, говорю, в этих условиях лабораторным путем создавать гармонического гражданина коммуны. Такая задача была бы жалкой ребяческой утопией. Мы хотим создавать борцов, революционеров, которые явились бы восприемниками и продолжателями еще исторически незавершенной революционной традиции.
II. Нэп, империалистическое окружение, Интернационал
И когда мы подходим к вопросу в такой правильной, конкретной, исторической постановке, тогда сами собой отпадают некоторые опасения, которые приходится слышать даже от иных товарищей-коммунистов, слишком – как бы это сказать? – гуманитарно настроенных. Дело идет об опасностях нэпа. Мыслимо ли – говорят нам – воспитание нового человека в условиях нэпа? Но позвольте: да мы-то в каких условиях воспитывались? Наше поколение, уже отпраздновавшее свой 40-летний юбилей, и вся наша партия вообще воспитывались в капиталистических условиях. И она не могла бы воспитаться как революционная партия, с тем единственным в мире революционным закалом, который ее отличает, если бы она не развивалась в условиях буржуазного режима, помноженного на режим царизма. И если сейчас у нас есть нэп, т.-е. рыночные отношения, а следовательно, и возможность, – да, теоретическая историческая возможность! – реставрации капитализма (если мы, как партия, исторически сдрейфим, сплошаем), если существует эта опасность, то где же тут ставить себе задачей воспитание гармонического гражданина коммуны? Но если дело идет о воспитании борца за коммунизм, то позвольте спросить, в каком таком смысле рыночная обстановка, навязанная нам ходом борьбы, может воспрепятствовать развитию в молодом поколении психологии непримиримой борьбы? Когда-то у спартанцев показывали молодежи пьяных илотов, рабов, чтобы воспитать отвращение к пьянству. Я не думаю, что свердловцам нужны были по этой части столь наглядные методы воспитания (смех), но вот по части социальной, чтобы мы не заснули в самодовольстве, чтобы мы не вообразили, будто и впрямь уже переступили вполне и окончательно через порог социализма, нам иногда трезвого, а иногда и пьяного нэпмана, рыночного илота, история показывает. Сегодня это полупризрак, – говорит нам она, – а завтра он может развернуться в факт реставрации капитализма, если наша партия капитулирует перед трудностями исторического развития. В каком же смысле, спрашиваю, нэп может препятствовать развитию революционных борцов? Нет, он конкретизирует наши исторические задачи и является сейчас важнейшим методом от обратного в деле воспитания революционной рабочей и крестьянской молодежи.
Нэп, однако, не единственный момент, напоминающий нам о том, что мы еще не вошли в спокойное и счастливое царство коммуны. Есть для нашего поучения очень высокопоставленные илоты за пределами нашей страны, история опьяняет их время от времени, и они посылают нам ноты, чтобы напомнить, что буржуазия, что частная собственность, что капитал представляют собою еще могущественные факты и могущественные факторы. По поводу этих высокопоставленных илотов, которых я, по вполне понятным причинам международной вежливости, не буду называть по именам, есть в сегодняшнем номере «Юношеской Правды» передовая статья с очень выразительным заглавием, которого я тоже не смею повторить (кто любопытен – приглашается заглянуть в свежий номер газеты[119]). Так вот эти неудобоназываемые джентльмены напоминают нам своими действиями о том, что классовая борьба приняла у нас форму дипломатическую и военную, потому что мы есть пролетариат, организованный, по выражению Энгельса, в государство, и мы окружены со всех сторон организованной в ряд государств буржуазией, и наши отношения с другими государствами есть не что иное, как классовая борьба, которая принимает в известные моменты открыто-революционную, т.-е. военную, а в другие моменты – реформистскую, т.-е. дипломатическую форму. Это не есть только метафора, образное выражение, но живой и несомненный исторический факт! Мы ведем непрерывную классовую борьбу и методами дипломатии, и методами внешней торговли, и методами военной обороны, – классовую борьбу, которая развертывается по всем нашим границам, т.-е. на фронте примерно в 50 тыс. верст, значительно превышающем длину земного экватора. Это тоже немаловажный фактор, который, с одной стороны, исключает возможность гуманитарной абстракции нового человека, а, с другой стороны, весьма жестко обязует к конкретности революционного борца.
Когда мы боролись на внутренних фронтах гражданской войны, мы имели за каждым фронтом друзей, рабочих и крестьян. И сейчас, в международном масштабе, за этим фронтом в 50 тыс. верст нашей сухопутной и морской границы, мы имеем друзей, бьющих в тыл врага – мировое рабочее движение. Связь с ним для нашей революционной молодежи является основным условием действительно коммунистического воспитания. Разумеется – Маркс, разумеется – Энгельс, разумеется – Ленин – основа, фундамент, гранит теории. Но при помощи одной только книги – можно воспитать только книжника! Революционный же борец может воспитаться лишь при том условии, если он, опираясь на гранит теории, тесно, неразрывно связывает себя с практикой революционной классовой борьбы во всем мире. Внимательнейшее наблюдение за нею, проникновение в ее логику, уяснение ее внутренней закономерности есть первейшее условие воспитания молодого революционера в нашу эпоху, когда вся политика, вся культура, даже в своих дьявольских кровавых противоречиях, все больше становится интернациональной.
III. Революционер и мистицизм
Свердловский Университет должен воспитывать революционеров. Но что такое революционер? Каковы его основные черты? Я уже сказал, что мы не имеем права отрывать революционера, хотя бы и мысленно, от той классовой почвы, на которой он сложился и без которой он – ничто. Но опять-таки революционер, который в нашу эпоху может быть связан только с рабочим классом, имеет свои особые психологические черты, качества ума и воли. Революционер, когда нужно и можно, сламывает исторические препятствия насилием, когда нельзя – обходит, когда нельзя обойти – упорно и терпеливо подтачивает и дробит. Он – революционер потому, что не боится взрывать, применять беспощадное насилие, знает ему историческую цену. Он всегда стремится свою разрушительную и творческую работу развернуть в полном объеме, т.-е. из каждой данной исторической обстановки извлечь максимум того, что она может дать для движения вперед революционного класса. В своих действиях революционер ограничен только внешними препятствиями, но не внутренними. Это значит, что он должен воспитывать в себе способность оценивать обстановку, арену своего действия во всей ее материальности, конкретности, в ее плюсах и минусах, и подводить ей правильный политический баланс. Если же в нем есть субъективные помехи для действия, недостаток понимания или недостаток воли, если он парализован внутренними трениями, предрассудками, религиозными, национальными, узко-групповыми, цеховыми, то он уже в лучшем случае полу-революционер. В объективной обстановке, товарищи, и без того слишком много препон, чтобы подлинный революционер мог позволить себе роскошь помножать объективные препятствия и трения на препятствия и трения субъективные. Поэтому воспитание революционера есть, прежде всего, освобождение его от всех наследий темноты и суеверий, которые сохраняются сплошь да рядом и в очень «утонченных» сознаниях. И поэтому мы с величайшей непримиримостью относимся к каждому, кто осмеливается заикнуться, будто мистицизм, религиозные чувства и настроения совместимы с коммунизмом. Вы знаете, что не так давно один видный шведский товарищ[120] писал о совместимости религиозности не только с принадлежностью к коммунистической партии, но даже с марксистским миросозерцанием. Мы же считаем необходимым условием теоретического воспитания революционера атеизм, как неотъемлемый элемент материализма. Кто верит в иные миры, тот не способен всю свою страсть отдать на переустройство этого мира.
IV. Дарвинизм и марксизм
Отсюда огромное значение естествознания в Свердловии: без Дарвина ни до порога! Товарищи, я вспоминаю, как лет этак… сколько же это будет? да почти что четверть столетия тому назад, в одесской тюрьме, я впервые взял в руки Дарвина «Происхождение видов» и «Половой отбор». Живо помню то колоссальное потрясение, которое я испытал, читая эти книги. Не помню, в «Происхождении видов» или в «Половом отборе» Дарвин изображает развитие пера не то павлина, не то какого-то другого нарядного птичьего самца, показывая, как из первых незаметных цветовых и формальных уклонений образуется сложнейший наряд. Должен сказать, что только в тот момент, прикоснувшись теоретически восприятием к хвосту этого павлина в дарвинском истолковании, я почувствовал себя, как следует быть, атеистом. Ибо если природа может такую тончайшую и великолепнейшую работу выполнить собственными «слепыми» методами, то зачем же ей вмешательство посторонних сил? Когда я потом, несколько месяцев спустя, прочитал автобиографию Дарвина, где – все это очень твердо врезалось в память! – есть, примерно, такая фраза: хотя я, Дарвин, и отказался от библейской теории творения, но веру в Бога сохранил неизменно, – я был глубоко поражен – за Дарвина, не за себя. И сейчас я не знаю, была ли это у старика, одного из гениальнейших в истории человечества, условная ложь, дипломатическое преклонение перед лицемернейшим в мире общественным мнением английской буржуазии, или же и впрямь в его собственном мозгу остались непроработанными дарвинизмом клетки, куда в детстве, когда его готовили в священники, была вселена религиозная вера. Этот психологический вопрос я, товарищи, решать не берусь. Но не все ли равно? Если Чарльз Дарвин, по собственным его словам, сохранил веру в бога, то дарвинизм с этой верой не мирился никогда.
В этом отношении, как и в других, дарвинизм является предпосылкой марксизма. В широком материалистическом и диалектическом смысле марксизм является применением дарвинизма к человеческому обществу. Вы знаете, что были либеральные, манчестерские попытки механического перенесения дарвинизма в социологию, которые приводили только к ребяческим аналогиям, прикрывавшим злостную буржуазную апологетику: рыночная конкуренция объявлялась «вечным» законом борьбы за существование и пр. На этих пошлостях останавливаться нет надобности. Но только внутренняя связь между марксизмом и дарвинизмом дает возможность понять живой поток бытия в его первичной связи с неорганической природой, в его дальнейшем обособлении, развитии, динамике, в дифференциации потребностей существования первых, элементарных растительных и животных видов, в их борьбе, в их изменениях, в нарастании и усложнении их форм, в появлении «первого» человека или человекоподобного существа, вооружающегося первыми подобиями орудия труда, в появлении простейшей кооперации, пользующейся искусственными органами, в дальнейшем расчленении общества на основе развития средств производства, т.-е. орудий покорения природы, в классовой борьбе и, наконец, в борьбе за упразднение классов. Охватить мир с такой широкой материалистической точки зрения – это значит, товарищи, впервые освободить свое сознание от всех наследий мистицизма и обеспечить себе твердую почву под ногами. Это значит почувствовать, что у тебя нет внутренних, субъективных препятствий к борьбе за будущее, а есть только внешние сопротивления и противодействия, которые должно в одном случае подкопать, в другом – обойти, в третьем – взорвать, в зависимости от условий борьбы.
V. Теория революционного действия
В последнем счете побеждает практика, говорим мы нередко. И это верно, – в том смысле, что коллективный опыт класса и всего человечества отметает постепенно иллюзии, ложные теории, поспешные обобщения. Но в другом – не менее действительном – смысле можно сказать: в последнем счете побеждает теория. Нужно только, чтобы теория действительно собрала в себе весь опыт человечества. С этой точки зрения исчезает самое противопоставление теории и практики, ибо теория есть правильно учтенная и обобщенная практика. Теория побеждает не практику, а безыдейный, чисто эмпирический, кустарнический подход к ней. Да, мы имеем полное право сказать: вооружайтесь теорией, ибо в последнем счете побеждает теория. Чтобы правильно оценить условия борьбы, в том числе и состояние твоего собственного класса, нужен надежный метод политической, исторической ориентировки. Это – марксизм или, в применении к новейшей эпохе – ленинизм. Маркс и Ленин – вот две величайшие вехи в области общественной мысли. Вот два имени, которые воплощают то материалистическое и диалектически-действенное миросозерцание, которое положено в основу программы Коммунистического Университета Свердлова. Маркс – Ленин! Это сочетание исключает самую мысль об «академизме». Я имею в виду те прения по части академизма,[121] которые велись у вас в школе, затем были перенесены и на столбцы общей партийной печати. Академизм в смысле самодовлеющего значения теории – для нас, революционеров, бессмыслица вдвойне. Теория служит коллективному человеку, служит революции. Правда, в известные моменты нашего общественного развития у нас были попытки отвлечь марксизм от революционного действия. Это было время так называемого легального марксизма.[122] В тот период воспитался особый тип легального марксиста. Это было в 90-х годах прошлого столетия. Русские марксисты делились тогда на два лагеря: марксисты легальные, из питерских и московских журнальных салонов, и подпольная братия, марксисты тюремные, таежные, эмигрантские, нелегальные. Легальные были по общему правилу куда образованнее нас, молодых тогдашних марксистов. Правда, и тогда была у нас группа широко образованных революционных марксистов, но лишь горсть, а мы, молодежь, в подавляющем большинстве своем были, если признаться, довольно-таки невежественны, хотя вот и испытывали иногда потрясения от знакомства с Дарвином. Далеко не всем, однако, доводилось и до Дарвина добраться. Тем не менее, я могу вам сказать с уверенностью, что когда случалось этому подпольному молодому, 19– или 20-летнему марксисту встретиться и сшибиться лбом с марксистом легальным, то в результате у молодых всегда возникало такое чувство: а все же мы умнее. Это не было просто мальчишеское высокомерие, нет. Разгадка этого чувства в том, что марксизм нельзя по-настоящему усвоить, если нет воли к революционному действию. Только в том случае, если теоретическая мысль сочетается с волей, направленной на преодоление существующих условий, – орудие марксизма буравит и сверлит. А если этой активной революционной воли нет, то марксизм является лже-марксизмом, деревянным ножом, который не колет и не режет. Таким он и был в распоряжении наших легальных марксистов, постепенно превратившихся в либералов. Воля к революционному действию есть необходимое условие овладения диалектикой марксизма. Одно без другого не живет. Марксизм не может стать академизмом, не переставая быть марксизмом, т.-е. теоретическим орудием революционного действия. Свердловия ограждена от академического перерождения уже тем, что она является учреждением партии, все еще продолжающей составлять гарнизон осажденной революционной крепости.
VI. Памяти Свердлова
Недаром ведь, товарищи, ваш университет стоит под знаком Свердлова.[123] Якова Михайловича мы любовно чтим не как теоретика, – им он не был, – а как революционера, который для нужд революционного действия в достаточной мере владел методом марксизма. Как и подавляющее большинство из нас, он не развивал самостоятельно теории марксизма, не вел ее вперед к новым научным завоеваниям, но зато он с полной уверенностью применял метод марксизма, чтобы наносить материальные удары буржуазному обществу. Таким мы его знали, и таким он сошел в могилу. То, что характеризовало его, – это действенное мужество. Без этого качества, товарищи, нет и не может быть революционера. Не в том смысле, что революционер не смеет быть трусом, – это слишком элементарно и слишком просто, если говорить о мужестве в физическом смысле. Революционер должен иметь нечто большее, именно идейное мужество, дерзание в действии, решимость на дела, которых еще не было в истории, которых опыт еще не проверил, и которые встают поэтому, как нечто невероятное. Идея Октября после Октября, – это одно; но та же идея до Октября – совсем другое. Каждое большое событие в известном смысле застает людей врасплох. Идея Октября накануне Октября – разве она не казалась воплощением невозможного, неосуществимого, и разве мало было марксистов, которые в ужасе шарахались от Октября, хотя все время шли, казалось, ему навстречу. В том и обнаружилось значение Октября, что история на ладони своей взвесила в те дни классы, партии и отдельных людей и отвеяла легковесных. Свердлов был не из таких. Он был подлинным борцом, из хорошего материала, и достаточно владел оружием марксизма, чтобы твердо и уверенно пройти через дни Октября. Я его видел в различных условиях: на больших массовых собраниях, на тревожных заседаниях ЦК, в комиссиях, в Военно-Революционном Комитете и на заседаниях Всероссийских Съездов Советов: я слышал не раз его трубный голос массового оратора и «комнатный» голос цекиста, – и я, товарищи, не могу ни на одну минуту представить себе на его лице выражение замешательства, растерянности, не говорю уж – испуга. В самые грозные часы он был все тот же: в кожаном картузе на голове, с папироской в зубах, улыбающийся, худощавый, небольшой, подвижной, нервный и в своей нервности уверенный и спокойный… Таким я видел его в июле 17 года[124] во время вакханалии белогвардейщины в Питере, таким он был в наиболее тревожные часы перед Октябрем, таким он оставался в дни немецкого нашествия после брест-литовских переговоров[125] и в дни июльского восстания левых эсеров,[126] когда одна часть Совнаркома, лево-эсеровское меньшинство, посылала другой части Совнаркома, большевистскому большинству, снаряды с одной из московских улиц в Кремль. Помню, как с неизменным своим кожаным картузом на голове, улыбаясь, Яков Михайлович спрашивал: «Ну что же, придется видно от Совнаркома опять перейти к Военно-Революционному Комитету?». Даже в те часы, когда чехо-словаки угрожали Нижнему, а тов. Ленин лежал, подкошенный эсеровской пулей, Свердлов не дрогнул. Спокойная и твердая уверенность не покидала его никогда. А это, товарищи, неоценимое, поистине драгоценнейшее качество настоящего революционера. Мы с вами не знаем, какие еще дни и часы нам предстоят, какие бои придется нам проделать, какие баррикады брать, а может быть, и временно сдавать. Мы уже не раз брали, сдавали и снова брали. Кривая революционного развития есть очень сложная линия. Нужно быть готовым ко всему. Мужественный дух Свердлова должен вдохновлять Свердловию, – тогда мы будем спокойны за боевую преемственность нашей партии.







