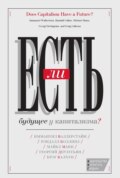Майкл Манн
Темная сторона демократии
АВСТРАЛИЯ
Колонизация Австралии началась в 1788 г. и достигла апогея в XIX столетии. В тот период военное и политическое могущество Британии бесконечно превосходило возможность сопротивления аборигенов. Туземцы могли сколотить лишь небольшие отряды и пользовались самым примитивным оружием. План А был довольно своеобразным: каторжанские поселения с использованием труда аборигенов. Предполагалось, что туземцы будут торговать с колонистами, помогать им обрабатывать землю и приобщаться к благам цивилизации. При необходимости можно было и показать свою силу, но ни о каком уничтожении речи не заходило. Материк находился под властью британской короны. На острове каторжников размещалась и армия. Даже церковь была подчинена военным властям. Каторжники, искупившие свою вину, становились фермерами, из метрополии приезжали добровольные переселенцы. В результате новая колония почти не нуждалась в туземцах в качестве рабочей силы. Природные условия Австралии благоприятствовали скотоводству, а не земледелию, поэтому пастбища были огромными. В свою очередь, аборигены были охотниками и собирателями и нуждались в еще более обширных угодьях для поддержания жизни. Фундаментальный конфликт возник вокруг земли, в особенности рек, водоемов, дичи, съедобных растений. Туземцы не имели ни военной, ни политической организации, чтобы вести войну. Зато они совершали набеги, угоняли коров и овец, крали мешки с мукой, а иногда и убивали белых.
Эти собиратели и охотники казались европейцам чрезвычайно примитивным народом. Они ходили голыми и немытыми, у них не было закона и единого бога, не было и письменности. Некоторые поселенцы считали их разумными животными, другие – детьми в образе взрослых, более радикально настроенные видели в них просто паразитов, рассадников мерзости и болезней. В середине XIX в. интерпретаторы теории Дарвина создали социал-дарвинизм, и большинство европейцев уверовали в то, что существует два вида Homo sapiens (Haebich, 1988: 54, 80; Markus, 1994: гл. 1). Социальная структура аборигенов не имела разделения на классы, никто не превосходил другого «цивилизованностью». Это не давало возможности для ассимиляции элиты. Хотя между белыми были большие классовые различия, все они стояли на голову выше аборигенов. Этничность подавила класс. Церковь на континенте была слаба и не могла гуманизировать такую идеологию. По мнению поселенцев, туземцы не трудились на земле, а значит, и не имели права ею пользоваться. Сельского хозяйства они не вели, а значит, были бесполезны для колонистов и как рабочая сила. Лишь в конце XIX в. нехватка рабочих рук вынудила белых австралийцев привлечь аборигенов к фермерскому труду. А до той поры туземцев считали бездельниками, беспечными бродягами, не способными ни к какой трудовой организации. Проку от них не было, а от бесполезных вещей избавляются. И поселенцы ввели в действие План Б: коренных жителей сгоняли с их территории, это называлось рассеиванием, иными словами, это была насильственная депортация.
Вначале такая практика не казалась излишне жестокой – на огромном континенте хватало места для обеих рас. Но потом в метрополии началась индустриальная революция, потребовалось много шерсти, а значит и овечьих пастбищ, потребовался и крупный рогатый скот (войны в индустриальную эпоху требовали много ружейной смазки, для ее изготовления был нужен говяжий жир). Завезенные овцы и коровы вытаптывали луга, загаживали источники воды, вытесняли диких животных. Аборигенов оттеснили в пустыню, где их ждала голодная смерть. Утраченную землю они все равно считали своей и продолжали красть у белых коров, овец и все, что плохо лежало. Иногда они просто уничтожали имущество белых, чтобы те ушли, а то и просто их убивали. Возмездие не заставило себя ждать, европейцы повели войну на уничтожение, называлась она «истреблением черных демонов». Поселенцы убили не меньше 20 тысяч аборигенов, а возможно и гораздо больше, в пограничных стычках, часто похожих на карательные экспедиции, которые продолжались до 1920-х гг. Потери белых, скорее всего, не превысили 200 человек. Так выглядел План В, приведенный в действие поселенцами: «дикие» депортации, вылившиеся в локальный геноцид. Колонисты считали, что аборигены вынудили их к этому своим упорством и посягательствами на собственность. Это была «самозащита», на дальнем фронтире поселенцы истребляли людей превентивно, не дожидаясь разрешения свыше и с минимальным риском для себя.
Итак, этноцид тоже имел место, хотя и не был вызван эпидемиями, как в Испанской Америке. Он был следствием долгого контакта аборигенов с поселенцами, и самыми опасными болезнями стали социальные. На австралийском фронтире преобладали белые мужчины, и они принуждали к сожительству местных аборигенок. Были и официальные браки, и неофициальные добровольные союзы, но гораздо больше было похищений, изнасилований и проституции за корку хлеба. Пришло время, когда колонистов стало гораздо больше, чем аборигенов, у которых резко упала рождаемость. Молодых женщин силой забирали из племени, и в сожительстве с белыми они рожали метисов, а не детей своего народа. Венерические болезни опустошали стоянки австралийцев, если они находились на границе с поселениями белых, постоянное недоедание и непривычный для аборигенов алкоголь вели к физическому вырождению и ранней смерти. К 1850 г. большинство белых колонистов считали, что раса аборигенов вымирает.
То, как вели себя поселенцы, кардинально расходилось с намерениями колониальной администрации. Губернаторы не раз высказывали благие пожелания, что «нужно примириться с аборигенами», создать для них протектораты (резервации). Официально туземное население находилось под защитой британского закона. До середины столетия администрация всячески ограничивала поселенческое самоуправление и самоуправство, да и после этого препятствовало, как могло, чисткам. Когда в 1889 г. Британия предоставила Западной Австралии автономию, метрополия оставляла за собой право контролировать национальный вопрос. На самом деле Вестминстеру было не очень интересно, что происходит на другом краю земли, да и возможностей что-либо контролировать там тоже не было. De facto у переселенцев была безраздельная власть, особенно на дальних границах. Один золотодобытчик и фермер, избранный «протектором» аборигенов в своем округе, заявил следующее: «Если правительство на полгода закроет на все глаза и позволит нам разобраться с аборигенами, как мы умеем, то с грабежами и набегами будет покончено навсегда» (Haebich, 1988: 97). У правительства не было ни средств, ни поддержки на местах для проведения политики благожелательного патернализма. В реальности от нее пришлось отказаться (Markus, 1994: 23–29; Rowley, 1970: Part I).
Военные возможности местных поселенцев и туземцев были просто несопоставимы: ружья против копий, белые всадники против пеших аборигенов. Стандартная акция возмездия за угнанный скот выглядела так: ночью белые окружали становище, на заре атаковали его, поголовно вырезая мужчин, женщин и детей. Это был своего рода суд Линча. После одной случившейся кражи становище аборигенов атаковали со всех сторон. «Они убивали всех подряд: мужчин, женщин, детей. Некоторые бросились к реке, их расстреливали в воде. Их трупы проплыли вниз по течению мимо сеттльмента». Как выяснилось позднее, в краже был повинен белый (Rowley, 1970: 112–113). Голодающие туземцы часто похищали муку, и колонисты специально подбрасывали им мешки с отравленной мукой. Они не часто звали на помощь, они расправлялись с аборигенами сами. Вот как вспоминает об этом один коренной австралиец из Квинсленда:
Нас вытеснили с нашей земли, нас убивали, травили ядом, забирали наших дочерей, сестер, жен… а скольких отравили в Килкое… Они отняли нашу землю, где мы добывали себе пропитание, а когда мы, голодные, приходили к ним и забирали мешок муки или забивали быка, они убивали и травили нас. А сейчас нам за нашу землю дарят по одному одеялу в год (цит. по: Rowley, 1970: 158).
После создания ответственного государства поселенцы полагались на собственные вооруженные формирования – охранные отряды, – где командирами были белые, а в подчинении у них – ассимилированные аборигены. Это позволило переложить вину с больной головы на здоровую и еще раз убедить себя в том, что туземцы – первобытные дикари. Подчиняясь приказу, они расправлялись со своими соплеменниками залпами из винтовок. У одного офицера спросили: «Вы действительно думаете, что кроме убийства нет других способов выяснить отношения?» Тот ответил: «Пули – вот то единственное, что они способны понять» (Rowley, 1970: 158–163). Такую бойню деликатно именовали «рассеиванием» или даже «пикником с дикарями», в отличие от прямолинейных североамериканских колонистов, которые то же самое у себя называли «ликвидацией». Суды аборигенам ничем помочь не могли. До 1840-х гг. аборигенов держали вне рамок закона. Позже колониальная администрация позволила туземцам свидетельствовать в суде, но белые присяжные к таким показаниям были глухи и слепы. Белые очень редко отвечали перед законом за свои злодеяния (Markus, 1994: 46–48).
Если использовать термин Роули, возник «треугольник напряженности» между поселенцами, миссионерами и британским правительством: колонисты проводили политику «твердой руки», церковь звала к примирению и христианизации язычников, правительство искало компромисса. Все споры с аборигенами обычно решало «авторитетное лицо», которое «хорошо знало их нравы» и обыкновенно выносило вердикт: «С ними надо пожестче». Хорошим идейным подспорьем был и социал-дарвинизм. Австралийские аборигены были исторически обречены: будущего у них не было, и от них избавлялись. Б.Д. Морхед, впоследствии премьер-министр, заявлял:
То, что мы сделали в Квинсленде, делалось в любой другой стране… Когда туда приходили белые, черным не оставалось места… Низшая раса должна склониться перед высшей расой. [Было бы ошибкой] вести щадящую политику по отношению к этим беднягам, это только продлило бы их агонию, эти люди неминуемо должны были исчезнуть под натиском англосаксов. Черные должны были уйти, и они ушли. аборигены недостойны жизни. Если бы их вовсе не было, было бы отлично (Markus, 1994:36–37).
Охотничьи племена в центре и на севере Австралии выжили и дали чистокровное потомство в XX столетии. Метисы и их потомки жили у границ сеттльментов белых поселенцев, презираемые, влачащие жалкое существование, умирающие от болезней и алкоголя. Начиная с 70-х гг. XIX столетия в Австралии стали быстро развиваться промышленность и сельское хозяйство. Это дало шанс цветному населению найти себе хоть какую-то работу. После 1900 г. правительство начало борьбу за «белую Австралию» и «чистоту расы». После того как поток мигрантов из Азии снизился, некоторые работодатели проигнорировали возражения юнионистов и лейбористов и обратили взор на аборигенов. В начале XX в. начала проводиться политика протекционизма, то есть сегрегации, – своего рода План Г. Закон запрещал аборигенам появляться в городах и поселках без специального разрешения. В некоторых штатах появились законы, запрещавшие браки между коренными жителями или белых с метисами. Тем не менее рождаемость несколько увеличивалась, и возникла уверенность, что аборигены все-таки не вымрут. Массовые убийства остались в прошлом, но этническая проблема никуда не делась.
Принудительная ассимиляция (План Д) проходила с 40-х по 70-е гг. XX века на фоне глобальной деколонизации и борьбы с расизмом. Ассимиляция была признана допустимой, в особенности это касалось метисов, но чистокровные аборигены получали гражданские права лишь в том случае, если они покидали племя и отказывались от своей культуры. Во всех штатах, за исключением Виктории, по закону можно было забрать ребенка из туземной семьи, чтобы воспитывать его как сироту в детском приюте или в белой семье. Все это закончилось лишь в 1972 г. с приходом к власти лейбористского правительства Гоу Уитлама. Аборигенов наделили полными гражданскими правами, было заявлено о необходимости «восстановить попранные права аборигенного населения Австралии в экономической, социальной и политической жизни». В наши дни аборигены являются полноправными гражданами своей страны, сохраняется их культурная идентичность, но на практике за фасадом мультикультурализма по-прежнему скрывается дискриминация (Haebich, 1988; Hunter, 1993; Markus, 1994; Rowley, 1972). Все это далеко от совершенства, но много лучше, чем было когда-то.
Острову Тасмания, к югу от материка, не повезло гораздо больше. По климатическим условиям эта земля очень подходила европейским переселенцам, и освоение ее началось рано. На примере Тасмании мы поймем, что может произойти с туземным населением, если переселенцам не нужны рабочие руки. На острове жило 4 с половиной тысячи человек, когда в 1804 г. туда приплыли первые колонисты. Через 80 лет не осталось ни одного чистокровного аборигена. Последний мужчина умер в 1869 г., последняя женщина в 1876 г. Сохранились немногочисленные метисы. «Увидел – убил», «охота на крупного зверя», отравленная мука – эти методы геноцида применялись здесь еще чаще, чем в Австралии. Колониальная администрация острова настаивала на примирении, но в 1830 г. лейтенант-губернатор Артур уступил требованиям поселенцев в Законодательном собрании и объявил «массовую чистку». Остров надлежало прочесать, зажать аборигенов в кольцо и вывезти их в резервации. План провалился, туземцы сумели просочиться сквозь цепи загонщиков. Потом дело было доверено Джорджу Робинсону, известному «миротворцу», человеку, который безоружным жил среди островитян и утверждал, что они неопасны. Доверчивых туземцев на сей раз удалось собрать вместе. Если бы они и дальше жили по соседству с белыми фермерами, те их рано или поздно уничтожили бы. Но и насильственная депортация, проведенная Робинсоном, привела к тем же печальным результатам. Аборигенов доставили на небольшой остров, где им не хватало ни земли, ни пищи. Через два десятка лет болезни и голод покончили с последними, и это никого не взволновало (Cocker, 1998: гл. 7–11; Hughes, 1987: 414–424; Rowley, 1970: 43–53; Smith, 1980: 70). Тасмания – это самый трагический пример того, что происходит с народом, который не нужен поселенцам как рабочая сила. Это был геноцид, растянутый во времени, его никто не планировал, зато каждый приложил к нему руку. Колониальная администрация спрятала голову в песок, а поселенческая демократия сделала свое страшное дело.
То же самое происходило и в Австралии. С 1850-х гг. поселенцы обладали реальной властью. Как указывает Роули, «везде и всегда коренное население становилось абсолютной жертвой поселенческой демократии, если поселенцы и правительство проводили одну и ту же политику» (Rowley 1972: 23, 72, 132, 137). По мере того как осваивались все новые земли, каждая волна переселенцев несла с собой истребление и депортации, яростные вспышки геноцида, часто ненамеренного. Планы А, Б и В могли переплетаться и варьироваться в зависимости от изменчивых, полуанархических условий жизни на фронтире. И планы эти осуществлялись, пока не возникла необходимость в рабочих руках. Менялся политический и гуманитарный климат – на смену политике уничтожения пришла мягкая ассимиляция и даже мультикультурализм.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
В некотором отношении колонизация Северной Америки является чем-то средним между Австралией и Мексикой. Аборигенное население представляло средней уровень опасности. Индейцы были отважны в бою, упорны в обороне, но немногочисленны и разрознены. Их уровень цивилизации был ниже европейского. Торговля с местным населением в Америке шла оживленнее, чем в Австралии, при этом там не было мощного государства и изобилия золота, как в Мексике. Не было и первоначального стремительного завоевания и порабощения, равно как и масштабной ассимиляции, как в Испанской империи. Но жажда экспансии, захвата земли была не меньшей, чем в Австралии.
Процесс набирал силу постепенно, он шел стихийно, а не осознанно, переселенцы волна за волной накатывались на Дальний Запад, осуществляя и этноцид и геноцид. Вначале, когда первопоселенцев было мало и вооружены они были плохо, сильные племена ирокезов и гуронов могли играть на противоречиях между французами и англичанами. Но победа Британии в 1763 г. заполнила эту геополитическую лакуну на востоке континента. То же самое произошло и на западе, когда американцы одержали победу над испанцами в Калифорнии и Техасе. Торговля редко приводила к фатальным последствиям. Нэш (Nash, 1992) отмечает, что образ кочующего индейца-торговца был не таким свирепым, как его оседлого собрата. Торговля создала определенный стереотип индейца в глазах белых: милый дикарь, невежественный, иногда опасный, но восприимчивый к европейским идеям и товарам. Индейцы, занимавшиеся торговлей, считались полезными, их не стоило обижать.
В ту пору среди белых преобладали не торговцы, а фермеры. Им были нужны рабочие руки, но попытки привязать индейцев к земле потерпели полный крах. Охотники-собиратели не трудились на пашне, не холили и не лелеяли ее, а значит, были явными бездельниками. Начиная от Джона Локка до современных израильтян, изгоняющих палестинцев с их территории, все европейцы непоколебимы во мнении: тот, кто пашет землю, тот и должен ею владеть. Новый Свет был для них vacuum domicilium или terra nullius – «пустая земля, земля, которую Господь подарил цивилизованным людям». Они не особенно пытались приобщить индейцев к труду, обратить их в христианство, взять их женщин в жены, культурно ассимилировать их. Пуритане хотя бы в теории считали, что их надо приобщить к истинной церкви, но у них не было возможностей это сделать, и свои зверства – сожжение заживо стариков, женщин, детей – они объясняли одной фразой: «Пусть Бог посмеется над своими врагами» (Nash, 1992: 84).
Первые акты геноцида последовали в 1622 г. в Виргинии и в 1637-м во время Пекотской войны в Новой Англии. Год за годом, волна за волной все новые переселенцы высаживались на берегах Америки. Некоторые распахивали индейские земли, другие выпасали скот, третьи занялись горными разработками. Девственный континент рассекли шоссе, появились фактории, позже строились и железные дороги. Все это уничтожало и распугивало фауну. Белые вели хищническую охоту на полное уничтожение популяции, продавая мясо и меха ненасытным горожанам. Естественная среда деградировала, и индейцы вымирали, даже если их не истребляли сознательно. Те, кто выжил, зависели от подачек власти, и за эти подачки аборигены продавали или отдавали свою землю, не думая о последствиях. Поселенцы, в свою очередь, добивались всего, чего хотели, не рискуя практически ничем. Проводились форсированные массовые депортации полуголодных и изнуренных индейцев, их шансы выжить за пределами родной земли были практически равны нулю. Индейцев оттесняли на все более скудные охотничьи угодья и резервации. Многие европейцы понимали беспощадность такого этноцида, но ничего не делали. От голода и отчаяния краснокожие воины выходили на тропу войны и сжигали дотла поселения белых. Ответный удар новых американцев не заставлял себя ждать, и он был страшен. Некоторые напрямую требовали полного геноцида.
Европейцы ощущали огромную цивилизационную пропасть между собой и индейцами. Дикари были «невежественными», «язычниками», «злокозненными», «бесстыжими», «грязными». До пришествия европейцев это была «земля зверей и дикарей», «забытая Богом глухомань». Поселенцы понимали разницу между гордыми и воинственными индейцами Великих равнин и полуголыми охотниками-собирателями Калифорнии. Их называли «зверье», «свиньи», «собаки», «волки», «гадюки», «мразь», «бабуины» и «гориллы». Но прежде всего индейцы были «дикарями». И их постигла кара божья. Джон Уинтроп назвал эпидемию оспы 1617 г. «божественным провидением ради умерщвления краснокожих и благоденствия пуритан на освободившихся землях». Уильям Брэдфорд писал: «Господу было угодно посетить земли индейцев и навести на них страшный мор, так что из каждой тысячи умирало 950 человек». Истинные христиане, писал он, могут лишь благодарить Господа «за эту великую милость» (цит. по: Nash, 1992: 136; Stannard, 1992: 238). Все, что бы ни творили белые с индейцами, – все это находило идеологическое оправдание. Некоторые утверждают, что англичане обрели жестокость в борьбе с «ирландскими варварами», но я сомневаюсь в этом. Как показано во второй главе, англичане пытались насильственно ассимилировать ирландцев, а не уничтожить их. Считалось, что соседство индейцев оскверняло белого человека, поэтому смерть угрожала даже женщинам и детям. Такая идеология несла в себе явные элементы геноцида.
Концепция изменилась в конце XVIII и в начале XIX столетия. Повешенное на индейцев клеймо «дикарей и язычников», сравнение их с животными было заменено клеймом расовой неполноценности – сказался опыт порабощения невольников из Африки. Научная классификация рас как разных видов Homo sapiens или как тысячелетняя адаптация к климату, природным условиям, болезням создала теоретический базис расизма. Внешний вид, темперамент, моральные качества считались производными расовой принадлежности, и все расы делились на «дикарские» и «богоизбранные» (Smedley, 1993: гл. 4–7). Негр мог цивилизоваться, но что он мог поделать с цветом своей кожи! Религия и наука, подкрепленные экономической, военной и политической силой, сделали практически невозможным мирное сосуществование индейцев и белых. Прямо противоположные тенденции, возобладавшие в испанских колониях, в Северной Америке не ощущались. Государственные мужи Британии проявляли большую толерантность, чем поселенческие общины, возможно в силу геополитических требований колониальной эпохи. Соперничающие державы пытались привлечь индейцев на свою сторону в качестве военной силы. Правительства Британии, Франции, Испании пытались не нарушать договоров с индейцами, в отличие от поселенцев. В то время индейские воины могли существенно увеличить военный потенциал белых, войдя с ними в союз, как это сделали ирокезы на Севере и крики на Юге. Но после того как война закончилась, победившая Британия уже не могла так жестко контролировать колонистов, как это делала Испания. Англиканская церковь тоже не занимала монопольного положения. Разные церкви обслуживали интересы разных сеттльментов. И хотя священники были милосерднее своей паствы, с ними мало кто считался. В Австралии из среды клириков выдвигались миссионеры, которые со временем стали очень влиятельной силой и смогли убедить колонистов, что ассимилировать лучше, чем убивать.
Исключение все же было: квакеры Пенсильвании и Нью-Джерси. Их непоколебимый пацифизм не только спасал местных индейцев на протяжении ряда поколений, но и помог выжить многим другим племенам, которые отовсюду бежали под защиту квакеров, спасая себя от истребления. Но добродетельный пример квакеров не смог остановить всеобщей эпидемии насилия. Да и сами они недолго удерживались в своих штатах. Пришло время, и индейцы на землях квакеров тоже погибли. Эпоха Просвещения оказала влияние и на Северную Америку. Как и миссионеры, просветители старались цивилизовать индейцев при помощи образования. Конечно, аборигены были дикарями, но они принадлежали к роду человеческому, обладали разумом и благородством, храбростью и достоинством и были способны воспринимать новое. Обучившись грамоте, они могли бы понять смысл частной собственности, необходимость труда, ценность литературы и религии. Образовательная ассимиляция требовала от индейцев отказаться от прежнего уклада жизни, племенных порядков и общинного владения землей. Смешанные браки в принципе приветствовались, но культурный компромисс не предусматривался, равно как и полиэтничность (Sheehan, 1973: 10; Wallace, 1999). Это могло бы стать добровольной ассимиляцией – ведь цивилизация так притягательна для дикарей. Президенты Вашингтон и Джефферсон, военные министры, федеральные агентства по делам индейцев плотно взаимодействовали с миссионерами и школами, чтобы осуществить этот проект. Они предостерегли, что всякое сопротивление будет подавляться, но не считали, что ассимиляция должна стать принудительной. Кампания вызвала раздражение у поселенцев, которые ни о какой ассимиляции и слышать не хотели. Программа показалась привлекательной некоторым индейцам, но она вступала в очевидное противоречие с оказываемым на них экономическим, политическим и военным давлением. Индейцы на личном опыте убедились в жадности, корысти, жестокости белых и относились к ним с тем же презрением, что и белые к индейцам. Ассимиляция не могла принести аборигенам Америки и материальных выгод до тех пор, пока они не отказались от идеи племенного коллективизма, который они впитали с молоком матери. В отличие от Мексики, социальная структура североамериканских индейцев была эгалитаристской. Вожди не обладали заметной собственностью, которую они могли бы сохранить и приумножить в случае горизонтальной аристократической ассимиляции. Раса перевесила класс. Индейские общины не стремились к смешанным бракам, хотя колонисты и торговцы заботились о своих детях, рожденных от индианок, пусть и редко усыновляли их официально. Постоянные межрасовые союзы часто возникали на фронтире Дальнего Запада и на Юге, где мужское белое население было в избытке. Индейские племена спокойно относились к метисам, зато белые пресекали все их попытки войти и закрепиться в новом социуме (Nash, 1992: 280–285). В 1820-х гг. чероки получили право на мелкую земельную собственность, но белые штата Джорджия подвергали их такому же остракизму. Штат настойчиво лоббировал депортацию индейцев и добился этого в 1834 г. (Champagne, 1992: 133, 143–146).
В 20-е гг. XIX в. филантропы были вынуждены признать провал ассимиляции и стали ратовать за протекцию – принудительную депортацию индейцев на новые земли к западу от Миссисипи. Это лучше, утверждали они, чем шаг за шагом захватывать индейские земли, убивать краснокожих, обрекать их на деградацию. Их надо спасти, чтобы было кого ассимилировать потом. Депортации были осуществлены в 1830-е гг. и стали фатальными. Многие индейцы умерли в пути, выживших оттесняли все дальше и дальше на Запад. Поселенцы не желали иметь по соседству никаких индейцев, ассимилированных или нет. Да и сами индейцы противились ассимиляции в том виде, в котором она проводилась.
В конце XIX в. репрессии приобрели сглаженную форму, это была комбинация культурного подавления и сегрегированной ассимиляции, суть этой политики хорошо выражала фраза «убей в нем индейца – родишь человека». Теперь индейцев ассимилировали как неполноценный народ в далеких резервациях. По иронии судьбы именно эта жестокая политика, как считает Хокси (Hoxie, 1984: 243244), спасла индейскую культуру, пусть и в бесчеловечных условиях. Именно такие резервации сделали возможной современную программу Национального возрождения индейцев Америки.
В Калифорнии отчетливо прослеживалось испанское влияние. 80 лет этот штат осваивали испанские колонисты, пока он не был завоеван североамериканцами в 1848 г. Испанская колониальная администрация была слаба, лишь горстка солдат и чиновников содействовала немногочисленным поселенцам и миссионерам. Если говорить о государственных институтах, то индейцами занимались исключительно калифорнийские миссионеры-францисканцы. Заботились они главным образом о спасении индейских душ, но не забывали и о спасении тел, объединяя индейцев в сельские общины и приучая их работе на земле. Францисканцы преследовали благородную цель, осуществляя ее весьма жесткими способами.
Отец Фермин Ласуэн, баск по национальности, принял сан в возрасте 15 лет. Когда ему исполнилось 24 года, он отправился миссионером в Мексику, потом 30 лет служил в калифорнийской миссии, стал ее главой. У него были самые добрые намерения. Он стремился спасти индейцев через обращение и ассимиляцию и понимал, насколько это трудно. У индейцев не было «образования, религии, уважения к власти, и бесстыдно алчут они всего, к чему зовут их низменные страсти». Как мог он превратить «дикарский народ в людей очеловеченных, христолюбивых, воспитанных и работящих»? Такого можно было добиться только с помощью денатурализации. Легко представить, какое тяжкое бремя взвалил на себя этот священник, ведь он должен был победить в индейцах их природное начало. Огромными усилиями и бесконечным терпением испанский падре многого добился. Индейцы от рождения пребывали в «естественном состоянии», в отличие от испанцев, gente de razon, «людей разума». Но и в «естественном состоянии» индейцы были божьими тварями, и относиться к ним надо было милосердно, как к свободным людям. Даже дикарей не следовало угнетать, тем паче убивать или сгонять с земли. Но все менялось, как только индейцы обращались в истинную веру. Теперь они должны были подчиниться закону, и закон стал их тюрьмой. Нескончаемые часы принудительной работы на плантациях и столь же долгие часы молений на латыни, из которой они не понимали ни слова. На ночь индейских девушек запирали. И если индейцы проявляли непокорность, отказывались от работы или молитвы, их заковывали в кандалы, били плетью и снова заставляли читать Псалтирь. Иногда им отрезали уши и клеймили лоб. Обращенным индейцам дороги назад не было, их вольные братья не принимали их. И испанцы, и индейцы жили в страшной монастырской тесноте, их недокармливали и заставляли много работать. Индейцы из миссии выглядели крайне истощенными по сравнению со свободными индейцами Калифорнии и во множестве умирали от болезней (Stannard, 1992: 138–139). Это было то, что в таблице 1.1 мы называем «революционными проектами», попытками с фанатическим упорством осуществить всеобщую социальную трансформацию во имя достижения цели (или «ценностной рациональности» по Веберу). Все это привело к плачевным результатам. Францисканцы совершили локальный этноцид, непреднамеренный, но убийственный. В период их миссионерской деятельности погибла половина калифорнийских индейцев, в основном от болезней, вызванных скудным питанием и изнурительным насильственным трудом.
Европейские путешественники рассказывали, что обращенные индейцы выглядели понурыми, вялыми, утратившими радость и смысл существования. Сэр Джордж Симпсон некогда был главой «Компании Гудзонова залива», он благожелательно относился к местным индейцам, всячески способствовал их смешанным бракам со своими подчиненными. Оказавшись в 1841 г. в Калифорнии, он оставил такую запись: «Сыновья и дочери рабства! Многие из них столь сломлены духом, что даже не заводят семьи – они стремительно уходят в мир иной, и скоро на земле их отцов не останется ни одного индейца. Так происходит всегда, когда дети природы соприкасаются с губительной для них цивилизацией во всех ее обличьях. Этот печальный исход возможно объяснить лишь неисповедимой мудростью божественного Провидения» (La Perousse, 1989: 18–19; Paddison, 1999: 249–250). Даже этот милосердный белый человек объяснял гибель индейцев божественной волей. Но волю проявили францисканцы. Маоисты XVIII столетия жаждали усовершенствовать мир, но привели его к катастрофе.