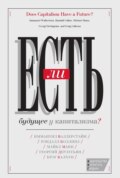Майкл Манн
Темная сторона демократии
Таким образом, в течение обсуждаемых веков этнические чистки, в отличие от религиозных, оставались редкостью.
Элиты по-прежнему подвергались ассимиляции, массы игнорировались – при условии, что ни те, ни другие не отступали от религиозной ортодоксии. Однако в приграничных зонах, где сталкивались разные религии, элементы протонациональной идентичности появлялись раньше. Армстронг (Armstrong 1982: гл. 2) считает границу ислама и христианства главным местом, где «нации существовали до национализма». Менее глубокие разломы проходили между Западной и Восточной церковью, а также между католиками и протестантами. Здесь продолжались чистки, впервые начавшиеся в Испании.
Религиозные чистки в пограничных зонах: Испания, Германия, Ирландия
В средневековой Западной Европе Иберийский полуостров был местом уникального религиозного разнообразия. За исключением небольшого северного анклава, он был покорен мусульманами в VIII и IX в., но исламские правители терпимо относились к религиозным меньшинствам (если те сохраняли лояльность) и поощряли иммиграцию евреев. Возможно, в Испании было больше евреев, чем во всей остальной христианской Европе. Многие мусульмане (мавры) и евреи попали под христианскую власть в результате Реконкисты. В христианском королевстве Валенсия мавры оставались подавляющим большинством населения. Иногда происходили еврейские погромы, а мавров порой преследовали как пятую колонну во время войн с мусульманскими государствами. Тем не менее преобладала convivencia (совместное проживание), в известной степени омрачаемая институциональным принуждением, выражавшимся в дискриминации, подавлении языка и культуры и осуществляемом время от времени давлении, направленном на перемену религии. Даже conversоs (обращенные) сохраняли известную обособленность, приобретая при этом значительное богатство и власть. Многие другие оставались мусульманами и иудеями, которых непосредственно защищал и контролировал монарх. В ответ на это они платили ему более высокие налоги.
В конце XV в. Испания начала объединяться. Короны Арагона и Кастилии, представленные Фердинандом и Изабеллой, были соединены в 1479 г. Однако общее правление не было гладким. Усиливалось давление турок-османов на христианские государства Средиземноморья, испанская аристократия сопротивлялась монархам, и все участники борьбы стремились заполучить военную добычу нового королевства. На одной из осей конфликта находились «старые христиане», завидовавшие власти и богатству conversos. Рот (Roth, 1995) пишет об укреплявшемся союзе против conversos между старыми христианскими аристократами, мелкими рыцарями и церковниками. Процесс объединения усилил власть испанского духовенства и ослабил контроль папы. В католицизме выражалось как единство Испании, так и способ ее защиты. В 1481 г. власть инквизиции Арагона была распространена на все королевство в стремлении утвердить чистоту учения. Посреди этих внутренних конфликтов монархи начали войну против последнего оплота мавров – Гренады. Война оказалась неожиданно долгой, дорогостоящей и тяжелой и усилила напряженность внутри элиты, а также враждебность к маврам и другим меньшинствам. Когда в 1487 г. была взята Малага, обращение с ее жителями-маврами было необычайно жестоким и сочетало резню и порабощение.
В это же время начала интенсивнее действовать инквизиция. Более 90 % ее расследований были направлены на обнаружение ереси среди conversos. В 1491 г. действие инквизиции приняли публичный характер, и показательные процессы стали использоваться для государственно-церковной пропаганды против еретиков. Неясно, были ли обвинения инквизиции против conversos основаны на реальных фактах. Но многие conversos были обвинены в тайном исполнении иудейских ритуалов и создании совместных заговоров с евреями, оставшимися верными иудаизму. Утверждалось также, что появились еврейские пророки, говорящие, что Мессия пришел и что это турецкий султан. В 80-е гг. XV в. было казнено порядка тысячи conversos. Из-за расходов, связанных с войной, появился и экономический мотив для подобных преследований – отъем собственности осужденных. Даже мертвых conversos посмертно судили, чтобы конфисковать их собственность. Инквизиция утверждала также, что сохранившиеся еврейские общины представляют собой источник нечистоты и совращают conversos к возвращению в иудаизм. Начиная с 1483 г. еврейские общины в Хересе, Севилье и Сарагосе были обвинены в совращении соседей. Членов этих общин рассеяли по всей Испании. В 1490 и 1491 гг. происходили разрозненные нападения на евреев, причем во главе погромщиков стояли юноши из нижних слоев дворянства (кабальеро).
В январе 1492 г. Гренада, наконец, сдалась, и Испания стала единой и католической. 31 марта 1492 г., сразу же после высадки Колумба на Американском континенте, Фердинанд и Изабелла выпустили эдикт, требующий от всех евреев покинуть Испанию в течение четырех месяцев. Этот указ так плохо согласовывался с большинством предшествующих действий Фердинанда и Изабеллы, что он всегда вызывал трудности при объяснении. Он не был хорошо продуман. Евреи писали об атмосфере католического триумфализма, сопровождавшей завершение Реконкисты. Давление на монархов оказывал глава инквизиции Торквемада, которому помогали религиозные военные ордена. Эти ордена в течение веков возглавляли борьбу с исламом и отличились во время жестокостей крестоносцев. Некоторые группы при дворе чувствовали, что стало возможным создание более католического и воинственного государства. Создается впечатление, что монархи скорее уступали давлению, чем проводили собственную политику.
Целью эдикта было заставить евреев не уехать, а перейти в христианство. Ожидалось, что большинство так и сделает. Если бы они остались в Испании, из них по-прежнему можно было бы выжимать налоги. С другой стороны, ассимиляция conversos более не затруднялась бы существованием общин, сохраняющих верность иудаизму. Согласно эдикту, евреи больше не смогут «сбивать верных христиан с пути святой католической веры». Монархи писали в указе, что изгнания местного масштаба не смогли предотвратить «зло и вред, происходящие для христиан от общения и разговоров со сказанными евреями». Насилие происходило не от давления снизу – его источником были элиты, а не массы. Даже среди элит не было согласия по этому поводу. Мало кто из эмигрантов потерял собственность, потому что они могли продавать ее, а традиционный для испанцев запрет на вывоз золота и серебра из страны на практике игнорировался. Вероятно, из общего еврейского населения Испании, составлявшего 80 тысяч, страну за последовавшие два года покинуло не более 10 тысяч. Большинство перебралось в соседнюю Португалию, откуда они по-прежнему могли вести дела. Когда в 1497 г. Португалия начала проводить собственную политику массового насильственного крещения евреев, некоторые испанские евреи вернулись в Испанию и формально приняли христианство там (Kamen, 1993a: 44; Roth, 1995: 285, 303–307). Речь идет о жестокой чистке, представляющей собой смесь институциональной ассимиляции и насильственной депортации.
При этом инквизицию, власть которой распространялась на всю страну, было не так просто обуздать. Эскалация носила хаотичный, но неуклонный характер. В 90-е гг. XV в. под давлением оказались иудеи, conversоs и мавры. Некоторые сопротивлялись с оружием в руках, усугубляя положение. Неудачные восстания мавров в Гренаде и Валенсии вели к насильственным обращениям и депортации из Испании. Испанская политика перекинулась на другие средиземноморские государства, что привело к росту напряженности во всем регионе. Западное Средиземноморье представляло собой христианское пограничье, находящееся под угрозой. Давление ислама снаружи приводило к давлению на всех нехристиан внутри. В течение последующих двадцати лет эмиграция испанских евреев возросла и составила в конечном счете от 40 тысяч до 100 тысяч человек (среди ученых нет согласия ни по поводу общего числа евреев в Испании, ни по поводу количества покинувших ее). Существовала также эмиграция из Португалии, Прованса и некоторых итальянских государств. Большинство перебралось на восток, в более толерантную Османскую империю. Многие conversоs тоже эмигрировали, расселяясь по всему христианскому миру, где они чувствовали себя менее заметными. В 1502 г. та же политика была применена к маврам, все еще находившимся в Испании, – от них потребовали уехать или креститься.
Во всем этом появились этнические нотки, которых не было раньше. Еще до 1492 г. католические экстремисты пытались «доказывать» наличие ереси с помощью простой улики – крови. Появилось выражение limpieza de sangre, «очищение крови». Поскольку испорченная «семитская» кровь могла заразить добрых христиан, следовало изгнать всех евреев. Это был настоящий антисемитизм Нового времени, отождествляющий религию с расой. В прежней европейской истории такое встречалось редко. Любого человека, имеющего предков – евреев или мавров, следовало насильственно изгнать из Испании. Хотя такая позиция вызывала большое сопротивление и так и не стала официальной королевской политикой, многие частные общества лишали людей с «нечистой» кровью возможности вступать в военные и религиозные ордена, доступа к определенным соборам, университетам и гильдиям. Одновременно происходила эскалация и в другом плане. В 1576 г. инквизиция расширила свою деятельность, обретя то, о чем давно мечтала, – власть над крещеными маврами, так называемыми морисками. Королевскими эдиктами 1609–1610 гг. все мориски, остающиеся в стране, были изгнаны. Насильственному изгнанию было подвергнуто порядка 300 тысяч человек. В ходе неудачного вооруженного восстания в Валенсии погибло примерно 10 000 морисков. Чистка Испании была завершена (мои источники в этом разделе: Dominguez Ortiz & Vincent, 1994; Edwards, 1999; Friedman, 1994; Kamen, 1993a, 1993b; Kriegel, 1994; Roth, 1995).
Фердинанд, Изабелла и их наследники не были фанатиками. Как бы они ни хотели выступать защитниками веры, они были прагматичными политиками, для которых евреи и мавры, находившиеся в их подданстве, не составляли главной проблемы. Они уступали давлению со стороны людей, обладавших властью и требовавших религиозных чисток; возможно, утверждение, что (бывшие) иноверцы представляют собой пятую колонну, казалось им достаточно убедительным, и они готовы были ошибаться ради безопасности. Так закончились века относительной религиозной терпимости в Испании. В процессе религиозной чистки последняя приобрела национальную и даже расовую окраску. Хотя многие испанцы имели смешанную кровь (у самого Фердинанда была еврейская кровь как со стороны отца, так и со стороны матери), одна из придворных партий успешно доказывала, что новообращенным евреям и маврам нельзя доверять. Это не был геноцид, поскольку людей убивали лишь после суровых (хотя и часто сомнительных) судебных процессов или при вооруженном сопротивлении. Но это была тотальная религиозная чистка, по своему ходу принимавшая все более этнический характер. Для Европы она представляла собой нечто исключительное. В ней не отражалась темная сторона демократии, с которой я связываю более поздние чистки. На самом деле Испания двигалась в противоположном направлении – в сторону абсолютной монархии, хотя монархи не были главными инициаторами чисток. Тем не менее новым было представление, что государство и народ должны быть объединены единой национальной конфессией. Эта идея на целое столетие опередила Вестфальский договор. Как в этническом, так и в национальном смысле изгнание евреев и мавров представляло собой уникальный переход к Новому времени.
Однако в начале XVI в. западное христианство раскололось. Во Франции, Германии и Ирландии это привело к гражданской войне на религиозной основе. Германия и Богемия были разорены Тридцатилетней войной 1618–1648 гг. Население Священной Римской империи уменьшилось на 3–4 миллиона, то есть на 15–20 % (Parker, 1984; Rabb, 1964). В числе погибших было значительно больше гражданских лиц, чем военных. Большинство скончалось от недоедания и болезней, вызванных безжалостным характером войны. В военно-тактическом отношении жестокости имели смысл. Поскольку государство не могло финансировать войну в достаточной степени, войска жили за счет крестьян по принципу «война сама себя прокормит». Солдаты уничтожали урожай, разоряли дома, деревни и городки. Среди гражданского населения они убивали мужчин и насиловали женщин. Их жестокость подпитывалась негативными стереотипами религиозного свойства. Протестанты обвиняли католиков в идолопоклонстве, отсталости, суевериях и служении дьяволу; католики считали, что протестанты «околдованы» ересью, практикуют детоубийство, людоедство и разврат (Burke, 1978: 168–169). Насильственные обращения были обычным делом. Когда протестантскую Богемию опять захватили католические войска, страна была насильственно возвращена в католицизм и 150 тысяч протестантов покинули ее. Многие беженцы-мужчины, обнищавшие и обозленные, записывались в солдаты. Классовые различия теряли значение – убийство угрожало людям любого общественного положения.
Самые страшные жестокости происходили в Магдебурге, служившем оплотом протестантов. Когда католические войска взяли его штурмом в 1631 г., примерно 30 тысяч мужчин, женщин и детей были вырезаны или погибли в пожарах, устроенных захватчиками. Город обезлюдел на долгие годы. И дело здесь не только в религиозном фанатизме. Разграбление города, где армии оказывалось сопротивление, допускалось правилами ведения войны того времени. В эпоху крайнего классового расслоения эти правила отличались полным пренебрежением к жизни людей нижних и средних классов. Это была обычная форма мести, а грабеж являлся обычным способом вознаграждения солдат. Во время долгих осад, таких как осада Магдебурга, войска, осаждающие город, часто испытывали больше лишений в своих траншеях, чем осажденные жители города. Они жаждали мести и грабежа. Однако то, что произошло в Магдебурге, все равно вызвало шок в Европе; в памфлетах и проповедях, как католических, так и протестантских, произошедшее именовалось дикостью, противоречащей заповедям христианства. Такие зверства редко планировались заранее. Самым худшим, что могло быть запланировано в религиозных войнах, было насильственное обращение в свою веру или депортация, хотя соблазны тактического характера могли приводить и к более страшным вещам. Речь шла не об этнической чистке, а о религиозной, и жестокости не планировались заранее, поскольку лучшим решением считалось религиозное обращение.
Тридцатилетняя война велась между многонациональными коалициями с полиэтническими армиями. Но решение конфликта носило национальный характер. В Вестфальском договоре 1648 г. был зафиксирован принцип Cuius regio, eius religio: вероисповедание правителя становилось вероисповеданием его государства, и правитель мог внедрять его в принудительном порядке. Иностранные державы не могли больше приходить на помощь религиозным меньшинствам. Однако при институционально утвержденной государственной власти в религиозных вопросах чистки производились уже не с помощью оружия, а с помощью государственных учреждений. Несколько мучеников сгорело на кострах, несколько сект было рассеяно, но большинство обратилось в официальную религию или поклялось в верности правителю и согласилось на статус граждан второго сорта. Большинство протестантских церквей теперь управлялось государством и носило протонациональный характер. Хотя католицизм оставался по существу своему транснациональным, католические государства тоже подчиняли местную церковь своим целям. Чистки сместились с религиозной почвы на национальную из-за частичной «национализации» в духовном плане. Началось это с Испании, но за ней последовала остальная Западная Европа, а в Восточной Европе обнаружились различия между национальными ответвлениями православной церкви.
Тем не менее на границах европейской цивилизации, где были обнаружены более примитивные народы, религиозные чистки могли переплетаться с этническими и национальными чувствами. Это относится к Литве на востоке и к Ирландии на западе. Я подробнее рассмотрю ирландский случай. Здесь религия пришла на помощь английскому государству в его попытках подчинить страну, которую оно рассматривало как отсталую и варварскую. Ирландские кельты, особенно в западной части страны, были беднее, менее грамотны и использовали более простые (дикие) методы ведения войны. Англичане имели основания считать ирландцев менее цивилизованными, так же как и шотландских горцев того времени. Начиная с 1250 г. большая часть Ирландии управлялась англо-нормандскими/английскими феодалами. Но поселенцев было мало, а феодалы стремились освободиться от власти английской короны. Многие из них ассимилировались с туземцами, что привело к возрождению ирландского языка. Центральная власть ответила принуждением к ассимиляции. Устав Килкенни (1366) запретил ирландский язык, ирландские фамилии и ирландские игры. Прибытие новых поселенцев привело к прямым столкновениям за владение землей (как во время колонизации, которая обсуждается в главе 4); некоторые ирландцы были выселены на запад острова. Тем не менее английских поселенцев было еще мало, и многие из них ассимилировались и перешли на гэльский язык. Они стали известны как «старые англичане» (Old English), то есть бывшие англичане. В XVI в. Англия и Шотландия приняли протестантизм, но ирландские кельты и большинство «старых англичан» остались католиками.
Поэт Эдмунд Спенсер, служивший в Ирландии государственным чиновником, считал, что решение проблемы состоит в кровавой чистке: «Орудием должна быть большая сила, но средством должен быть голод, потому что, покуда Ирландия не вымрет от голода, ее нельзя будет покорить… Не может быть подчинения государству, покуда нет подчинения в религии… Не может быть прочного согласия между двумя равными противниками – англичанами и ирландцами» (Hastings, 1997: 82–84). Началась беспощадная война, которую англичане выиграли в 1607 г. Гэльский язык был в значительной степени вытеснен из общественной сферы. Прибыли новые поселенцы-протестанты – англичане и шотландцы, и большее число коренных ирландцев было принудительно переселено на запад.
Гражданская война возобновила конфликт, придав ему менее этнический, более религиозный и в какой-то степени протонациональный характер. Война была также имперской, потому что королевства Шотландии и Ирландии оказались, наконец, под властью Англии. Борьба в религиозной сфере придала более массовый характер протонациональным обидам высших классов шотландского и ирландского общества. Большинство протестантов в Ирландии в той или иной степени принадлежали к Высокой церкви и поэтому поддерживали короля, так же как Ирландская католическая церковь (как кельтско-ирландская фракция, так и фракция «старых англичан»). Этот союз дал преимущество сторонникам короля в Ирландии. Война началась с восстания кельтов, в ходе которого были вырезаны 4 тысячи ольстерских протестантов, и еще порядка 8 тысяч умерло от голода, лихорадки и других испытаний. Среди жертв было немало женщин и детей. Клифтон (Clifton 1999: 109) называет произошедшее «бойней, произошедшей от дурного командования» и не считает ее спланированной. Однако эти зверства отразились на дальнейших событиях, потому что протестантские пропагандисты убедили англичан в том, что в Ольстере погибли сотни тысяч людей (Connolly, 1992: 16; Wheeler, 1999: 8–12).
Гражданская война продлилась дольше в Ирландии. Однако в 1649 г. в страну вторгся Кромвель во главе своей мощной пуританской армии нового образца. Он завершил покорение Ирландии актами показательного подавления, которым придавали дополнительную жестокость жажда мести за резню 1641 г. и презрение к «варварскому» народу, находящемуся в плену у «диких папистских предрассудков». Он объявил, что возглавит
великое дело борьбы против кровожадных ирландских варваров, их союзников и приспешников, за распространение Христова Евангелия, установления истины и мира.
Он призвал сдаться город Дроэда. Видя, что командир гарнизона медлит с ответом, Кромвель приказал артиллерии пробить стены и лично возглавил штурм. В те времена разорение городов было обычным делом во время войны. Кромвель докладывал парламенту о случившемся:
Я запретил солдатам оставлять в живых хоть одного вооруженного человека в городе; я думаю, в ту ночь было истреблено около 2000 мужчин… Я убежден, что осуществил справедливый суд Божий над этими никчемными варварами, обагрившими руки таким количеством невинной крови; так мы поставим предел кровопролитию в будущем… А теперь разрешите мне сказать, каким образом было сделано это дело. Некоторые из нас решили в сердце своем, что великие вещи делаются не силой или мощью, но Духом Божьим. Разве это не ясно? Именно Дух Божий вдохновил ваших воинов на столь смелый штурм и вселил в них храбрость… тем самым способствуя удаче. И посему будет справедливо, чтобы вся слава принадлежала одному Богу.
Сотни людей, сдавшихся в плен, были убиты вскоре после этого. Кромвель комментирует:
Мы вырезали многих защитников города, и я не думаю, что из них осталось в живых даже тридцать человек. Те же из них, кто выжил, под надежной стражей отправлены в Барбадос.
Когда гарнизонный командир в Уэксфорде тоже начал медлить со сдачей, Кромвель повторил прием. Город был подвергнут безжалостному штурму; а некоторые мирные жители, спасавшиеся бегством, были убиты солдатами, вошедшими в раж. Кромвель особо и не пытался их остановить. Он опять все приписал Богу:
В Своем праведном гневе [Он] подверг их справедливому суду и отдал в жертву солдатам тех, жертвой чьего разбоя стали столь многие семьи; им пришлось своей кровью отвечать за жестокости, причиненные многочисленным несчастным протестантам.
В этих двух городах погибло примерно 4500 человек, включая три четверти гарнизона и 200–300 мирных жителей. Гарнизон в Уэксфорде был ирландским, но половина солдат в Дроэде принадлежала к английским протестантам и роялистам. Однако когда гарнизонный командир в Россе выразил готовность капитулировать при условии, что будет дарована свобода совести, Кромвель дал резкий ответ:
Если под свободой совести вы понимаете свободу служить католическую мессу, я считаю, что лучше назвать вещи своими именами и сообщить вам, что на территории, где имеет власть английский парламент, это дозволено не будет.
В Манстере Кромвель выпустил антикатолическую прокламацию, сколь бессвязную, столь же и ядовитую. Он писал, что не собирается «искоренять католическую религию», но лишь потому, что «слово “искоренять” предполагает наличие чего-то устойчивого и укорененного». Весь тон документа подводит к мысли, что Кромвель готов был изгнать католицизм из Ирландии любыми средствами (цитаты из Кромвеля даются по: Abbot, 1939: II, 107, 126–127, 142, 201).
Так выглядели первые сражения Кромвеля в Ирландии. Он посылал своим врагам сигнал – сдавайтесь или погибнете. Иначе говоря, речь идет о показательных репрессиях в ассирийском стиле. Тактика дала результаты – ирландцы в конце концов сдались. Но это была еще и крайне беспощадная война – примерно 15 % ирландского населения, более 300 000 человек, погибли за два десятилетия войны, главным образом от недоедания и болезней.
В Англии гражданская война носила более джентльменский характер. Несколько гарнизонов, отказавшихся сдаться, были вырезаны, но большинство мирных жителей не пострадало, за исключением случаев, когда они попадали в ловушку при разграблении взятых городов. Как пишет Костер (Coster, 1999), резня была особенно жестокой там, где сопротивление оказывалось сильнее, так что больше всего рисковали солдаты-католики и солдаты-ирландцы, отличавшиеся наибольшей решимостью. Самый жестокий генерал имел репутацию и самого опытного – это был роялист принц Руперт. В этой войне всего погибло от 4 до 5 % населения Англии – примерно 180 000 человек. Нужно сказать, что в ходе своей шотландской кампании Кромвель вел себя со своими врагами по-джентльменски, щадя побежденных и оказывая помощь раненым. Даже после того, как шотландская армия вторглась в Англию и дошла до Вустера, ее разгром не привел к особо жестоким репрессиям. Горстка руководителей была казнена, и несколько сот солдат отправлено в Новый Свет. Однако в Ирландии религиозный фанатизм, презрение на этнической почве и желание отомстить за 1641 г. направили его неукротимую волю к победе в другое русло. Против партизан-католиков в Ольстере была применена тактика выжженной земли. Местным жителям предлагалось покинуть этот район – в противном случае их расстреливали. Некоторые офицеры вели себя особенно безжалостно. Сэра Чарльза Кута его противники-католики описывали как «трижды жестокого мясника и кровопийцу». Полковник Тотхилл приказал своим солдатам перебить всех ирландских пленных. Но консервативно настроенный Айртон, сменивший Кромвеля на посту главнокомандующего английских сил в Ирландии, когда тот покинул страну, предал Тотхилла военному суду и разжаловал с позором. Айртона, однако, беспокоили смешанные браки между его солдатами и местными католичками – в Ольстере к этому моменту обнаружилась нехватка мужчин-католиков. Тогда он издал указ об изгнании всех женщин, чье обращение в протестантизм не было искренним, и о понижении в чине их мужей (Wheeler, 1999). Здесь видна разница между радикальными и умеренными протестантами.
Религиозная чистка, проводимая Кромвелем, велась также во имя борьбы цивилизации с варварством. Но Дроэда отличалась от Магдебурга. Кромвель уничтожил гарнизон, не спешивший сдаваться, но не убивал мирных жителей. Такое поведение укладывалось в правила ведения войны, принятые в то время (Clifton, 1999: 119). Каждый город «корректно» призывался к сдаче, и Кромвель не стремился убивать женщин и детей. Таким образом, речь не идет о кровавой чистке, направленной на целую этническую группу. Скорее, это была попытка подавить вооруженное сопротивление, чтобы проводить религиозную чистку более мягкими институционными средствами.
Так и случилось. Акт об устроении Ирландии 1652 г. экспроприировал собственников двух третей ирландской земли – якобы за их участие в резне 1641 г. Их земли перешли к лондонским купцам, солдатам Кромвеля и поселенцам-шотландцам – все они были протестантами. В 1600 г. 90 % земли в Ирландии принадлежало католикам; к 1685 г. эта цифра сократилась до 22 %, а к 1800 г. всего до 5 %. Вплоть до 70-х гг. XVIII в. антикатолические карательные законы в значительной степени отличались дискриминационным характером, заставляя наследников собственности и будущих профессионалов формально переходить в протестантизм (Connolly, 1992: 145–147). Тем не менее практически все ирландцы, подвергшиеся экспроприации, остались на месте в качестве рабочих, лишенных собственности. Некоторых собственников-католиков депортировали на западное побережье, где они получили меньшие земельные наделы (Clifton, 1999: 123). Ирландский язык потерял позиции в общественной сфере, но сохранился в качестве диалектов низших классов. К середине XIX в. ирландские родители из всех общественных классов прониклись желанием, чтобы их дети учили язык современности и жизненного успеха – английский. Хотя примерно четверть населения Ирландии происходила от английских или шотландских поселенцев, Ирландия была не вполне колонией. Как отмечает Конноли (Connolly, 1992: III–22, 294–313), Ирландия располагалась рядом с Англией и Шотландией, и ее жители были европейцами по внешности, религии и культуре. Через узкий морской пролив между Англией и Ирландией шло интенсивное движение в обоих направлениях и происходила активная ассимиляция. Гэльское кочевое скотоводство уступило место землевладению английского образца. Попытки массового обращения носили непоследовательный характер. Среди элит имела место насильственная ассимиляция, а в массах жестокая дискриминация. Тем не менее англичане не проводили массовых чисток. Как видно из сегодняшних конфликтов, в Ирландии оставались две религиозные общины.
Между 1969 и 2000 гг. в этих конфликтах погибло примерно 3300 человек, хотя ни одна из сторон не пыталась изгнать другую.
С конца XV в. и по XVII в. в зонах религиозного пограничья Европы проходили жестокие религиозные чистки с элементами этнической чистки. В Испании эти явления усиливались, а в Ирландии шли на убыль. Это, видимо, было связано главным образом с различной степенью серьезности угрозы на границе: исламская угроза христианским государствам Средиземноморья оставалась серьезной на протяжении всего периода чисток (она начала ослабевать только после морской битвы при Лепанто в 1572 г.), тогда как угроза ирландского католицизма на западе постоянно уменьшалась. Далее на восток, вдоль границ враждующих Российской, Османской и Персидской империй, кровавые чистки происходили также между христианами, мусульманами-суннитами и мусульманами-шиитами (Lieven, 2000: 149). Этнорелигиозные чистки вспыхивали только тогда, когда политическая и религиозная угроза усиливали друг друга. Но даже в этом случае убийства не носили заранее запланированного характера. Они начинались тогда, когда события выходили из-под контроля. Чистки были систематическими (особенно в Испании), но о кровавых чистках этого сказать нельзя. Магдебург и Дроэда напоминали бесчисленные осады городов, происходившие в более ранней истории, в большей степени, чем события, описанные в следующих главах моей книги.
Не было никакой связи между религиозными чистками и формой режима. В Испании очистку страны от евреев и мавров инициировали секулярные и религиозные элиты, хотя и не сами монархи. Во время религиозных войн протестанты обычно предпочитали форму правления, основанную на ограниченном представительстве, тогда как католики поддерживали более широкие полномочия монархов; при этом обе стороны в равной степени проявляли жестокость. В Англии пуритане склонялись к самой репрезентативной форме правления с самым низким имущественным цензом, но они же фанатичнее всего ненавидели папистов и испытывали наиболее сильное желание очистить от них страну. Непропорционально представленные в армии, они располагали также военной силой, позволявшей добиться этой цели. Но в целом речь не идет о стадии этнических чисток, которую можно приписать демократизации (кроме демократизации в духовном плане). Эта эпоха закончилась, когда почти все государства стали религиозно однородными примерно на 80 %.