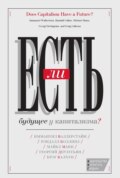Майкл Манн
Темная сторона демократии
Сто лет ждали американские гуманисты и историки, чтобы поведать миру об ужасах колонизации. В отличие от рабов, коренные жители Америки оставили мало потомков. Геноцид оказался успешным. Терминаторы утверждали, что, лишь уничтожив индейцев, можно было дать жизнь новой цивилизации. Это была теория социал-дарвинизма в ее самом беспощадном варианте. Гитлер и Гиммлер внимательно изучили опыт геноцида в Америке, готовясь повторить его в другую эпоху на другом континенте.
Последующие колониальные чистки: Кавказ и Юго-Западная Африка
Колониальные чистки не могут продолжаться до бесконечности. В XX столетии аборигены в колониях с самым жестоким режимом стремительно исчезали, на их земли приходили новые хозяева. Новорожденные нации легко забывали свою кровавую родословную и гордились исключительным миролюбием. Опоздавшие к дележу мира Россия, Германия и Италия повторили этот кровавый путь позднее. В главе 10 мы обсудим действия Италии в Эфиопии. Здесь мы оценим политику России на Кавказе и политику Германии в Юго-Западной Африке (сейчас Намибия).
В конце XIX в. колониальные империи были более могущественными и лучше вооруженными. Российская колониальная экспансия была почти исключительно континентальной: власть России простерлась над значительной частью Азии. Миллионы русских переселялись на завоеванные территории, право на землю было основой экономических конфликтов между русскими и коренным населением, решались они не в пользу аборигенов. Идеологическое оправдание земельных захватов заключалось все в той же парадигме «цивилизация против отсталости». У казахов и других кочевников земля «гуляла», поэтому их пастбища должны была перейти в руки российского земледельца. Один из российских наместников на Кавказе утверждал: «Снисхождение в глазах азиата – знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены»[29]. Обычно русские ограничивались показательными репрессиями: покажи кулак тем, кто сопротивляется, чтобы остальные подчинились не ропща. В худшем варианте эта политика проявила себя в Чечне, где воинственных горцев привели к покорности после изнурительных и кровавых войн конца 1850-х гг. Но тюркские народы Западного Кавказа, особенно черкесы, представляли еще более трудную проблему, они были менее цивилизованны и раздроблены на мелкие враждующие кланы. Партизанская война не затихала, и ни одна сторона не желала договариваться с другой о мире. Западный Кавказ был стратегически важен, там жили мусульмане, регион граничил с Османской империей и пользовался ее поддержкой в пику христианской России.
Россия попыталась решить проблему военной силой (Holquist, 2003; Lieven, 2000: 304–315; Shenfield, 1999). Лихорадочно вооружая армию, чтобы не отстать от западных соперников, российский Генеральный штаб разделял общепринятую тогда стратегию «окончательной», тотальной войны против целых народов. Внимательно изучалась статистика, штабные офицеры предлагали ограниченные, четко спланированные депортации на основе подсчета численности населения и имеющихся военных возможностей. Их идейный вдохновитель генерал Милютин стал военным министром в 1862 г. и закусил удила. В следующие три года русская армия захватила и сожгла множество черкесских деревень, сопротивлявшихся уничтожали, оставшихся сгоняли с земли. Провозглашенной целью была очистка территории, а не уничтожение населения. К 1865 г. в районах боевых действий осталось не более 10 % от первоначального полумиллионного населения. Предположительно, полтора миллиона черкесов были выдворены, и на их землях поселились русские колонисты. Примерно 150 тысяч черкесов были расселены по всей России, и еще 500 тысяч принудительно высланы в Османскую империю.
Куда делся еще миллион? Cкорее всего, они погибли, и эти потери составили предположительно не менее половины всего черкесского населения[30]. Главной причиной смертности были голод и болезни. И все же это были кровавые чистки, но не геноцид. Русские войска сжигали деревни и урожай, лишали людей крова и пищи, зная, что многие погибнут. Ужаснувшиеся русские протестовали и получали ответ, что уже поздно. «Но разве от кого-нибудь зависит отвратить это бедствие?» – ответил граф Евдокимов одному из таких критиков. Россия и раньше вела жестокие войны и проводила показательные репрессии против беспокойных и «примитивных» народов Сибири, Казахстана и Кавказа. Война с черкесами была еще беспощадней.
В ней объединились имперская репрессивная политика, современный милитаризм и современный колониализм на его ранней стадии. У меня нет информации о том, как вели себя на Кавказе русские переселенцы, и я считаю, что главными вдохновителями чисток были царское правительство и русский генералитет – мощные авторитарные институции, управлявшие страной многие десятилетия. Это тот случай, когда кровавые колониальные чистки, типичные для той эпохи, опирались на милитаризм, современный, беспощадный, высокотехнологичный. Вскоре мы познакомимся с еще одним примером этого. Это была борьба за суверенитет над территорией – борьба, при которой поддержка внешнего союзника еще больше ожесточала сопротивлявшихся, заведомо обреченных на поражение. В этом контексте применимы мои тезисы 4 и 5 (выселение черкесов проводилось по договору с Османской империей). В результате военных действий более полумиллиона озлобленных черкесов, чеченцев и других мусульман нашли убежище в Османской империи. Последствия войн, подобных Кавказской, мы обсудим в следующей главе.
В Юго-Западной Африке я бы выделил три главные действующие силы. Первой, идеологической, силой было Рейнское миссионерское общество. В 1904 г. немецкие клирики призывали к мягкой колонизации, их целью было обращение аборигенов в христианство, что могло бы способствовать частичной ассимиляции. Институциональное принуждение – дальше этого церковь идти не хотела. Опираясь на поддержку либеральных и социалистических депутатов в немецком парламенте (рейхстаге), церковь резко выступила против кровопролитий 1904–1905 гг. и потребовала у Берлина остановить репрессии. Хотя эти фракции были в меньшинстве, их призыв к милосердию прозвучал резко и громко, он смутил немецкое правительство, отчасти вынудив его смягчить колониальную политику.
Второй действующей силой, попавшей между двух огней и раздираемой противоречиями, была колониальная администрация, подчиненная берлинскому Департаменту по делам колоний, который, в свою очередь, находился в двойном подчинении – перед канцлером и кайзером. Кайзер проводил внешнюю политику и командовал вооруженными силами независимо от рейхстага. Но поскольку тогдашний кайзер был человеком слабодушным, у армейских командиров были развязаны руки, что вылилось в эскалацию печальных событий 1904 г. Местная администрация стремилась к тому, чтобы колонии жили в мире, но при этом расширялись, то есть ставила перед собою взаимоисключающие цели. Колониальные чиновники были даже готовы поделиться полномочиями с местными вождями. Формально это был протекторат с непрямым управлением, а не колония в чистом виде. Немецкая администрация хотела, чтобы африканцы научились работать, и предоставила им юридические, но не политические права. Изначально это была дискриминационная политика и даже частичная сегрегация, совмещенная с протекционизмом. Она не предполагала кровавых чисток. Но белым переселенцам была нужна земля, и это с неизбежностью приводило к земельным экспроприациям, насильственным депортациям и сопротивлению коренного населения.
Майор Теодор Лейтвайн был губернатором протектората с 1894 по 1904 г. Он старался не раздражать аборигенов, понимая, что назревающий земельный конфликт прежде всего затронет народ гереро, второе по численности племенное объединение. Гереро были скотоводами и нуждались в обширных пастбищах. Расселяясь все дальше, белые прибирали к рукам лучшие земли. Способы были разными: прямое насилие, обманные договоры, махинации с кредитами, когда у африканцев отбирали землю за невозвращенные долги. Расовая вражда разгоралась. Лейтвайн пытался снизить ее градус, сталкивая лбами африканских вождей и ограничивая притязания белых поселенцев. Когда было надо, он примирял вождей, наделял их большей властью над племенем, разрушая таким образом основы племенной демократии. Такая стратегия вполне устраивала берлинское руководство. Племенной аристократии внушалась мысль, что она ничем не уступает своим белокожим «коллегам» и даже превосходит малообразованную массу белых переселенцев (Bley, 1971: 88–91). Колониальные власти пытались проводить политику горизонтальной аристократической ассимиляции, но просчитались. Горе-теоретики даже хотели претворить в жизнь опыт испанцев в Мексике и создать новую управленческую элиту на основе метизации, смешения кровей пришлых и местных. В Африке этого не могло получиться. Расизм был слишком силен. Африканские вожди не могли встать вровень с белыми простолюдинами, хотя из политического прагматизма это до поры до времени скрывалось.
Лейтвайн понимал внутренние противоречия немецкой политики и знал, что он балансирует на краю пропасти. Колониальные администраторы, с одной стороны, должны были «отнять землю у туземцев с помощью юридически небезупречных договоров и тем самым… поставить под угрозу жизнь своих соотечественников, с другой стороны, разглагольствовать о гуманистических принципах в рейхстаге» (Bley, 1971: 68). Д-р Пауль Рорбах, экономический советник в колониальной администрации, высказался значительно откровеннее:
Колонизация Юго-Западной Африки означает, что… местные племена должны отдать земли, где они раньше пасли свой скот, с тем чтобы белые овладели этими землями и могли пасти там свой скот. Если кто-то возьмется оспаривать мое утверждение с точки зрения высокой морали, ответ будет следующим: для народов такого культурного уровня, как южно-африканские туземцы, освобождение от первобытной дикости и превращение их в работников для белых и под господством белых есть не более чем проявление «всеобщего закона выживания»… И никто не сможет убедить меня в том, хоть какая-то национальная независимость, национальное процветание или политическая организация туземного населения Юго-Западной Африки принесут благо цивилизованному человечеству (Cocker, 1998: 301).
Доводы морали Рорбах отметал с порога, указуя на все то же благо всего человечества. Прогресс, объяснял он, заключается в том, чтобы «африканские расы» служили «белым расам» «с максимальной трудовой отдачей». В самых возвышенных научных терминах он призывал к беспощадной эксплуатации и ограблению, к рабовладельческим по сути своей трудовым отношениям. Он не стремился истребить аборигенов. Не желала этого и колониальная администрация.
Третьей силой были поселенцы, в основном те, что расселились в предместьях столичного города Виндхук, сегрегированного расистского белого анклава, и те фермеры, которые жаждали заполучить племенные земли, но без такого довеска, как племя гереро. Депутаты рейхстага выразили неудовольствие тем, как фермеры обращаются с туземным населением, вот их ответное послание:
С незапамятных времен дикари были ленивыми, жестокими и безмозглыми скотами. Чем они грязнее, тем лучше себя чувствуют. Белый человек, поживший среди аборигенов, не может считать их человеческими существами в европейском смысле этого слова. Нужны будут столетия, чтобы воспитать их людьми, что потребует бесконечного терпения, суровости и справедливости (Bley, 1971: 97).
Поселенцы требовали новых депортаций любыми возможными средствами. Один миссионер подверг их суровой критике:
Гереро ненавидят немцев, и на то есть все основания. Средний немец смотрит на них и относится к ним, как к бабуинам (это их любимое выражение, когда они говорят об африканцах). Белые ценят своих лошадей и быков больше, чем чернокожих. Такие убеждения порождают жестокость, обман, эксплуатацию, несправедливость, насилие и очень часто убийства (Drechsler, 1980:167–168, n. 6).
Поселенцы не разбирали, где вождь, а где простой туземец, и вели себя соответственно, сводя на нет все усилия Лейтвайна. Майор был в ужасе, когда немецкий булочник избил до крови и пинками выгнал из своего заведения одного из вождей гереро. Торговец получил выговор за оскорбление «достойного и уважаемого человека и очень богатого владельца скота» (Bley, 1971: 86; Drechsler, 1980: 136). Такие инциденты разрушали горизонтальную аристократическую ассимиляцию. Не удивительно, что этот вождь стал одним из предводителей восстания 1904 г. Поселенцы чувствовали свою уязвимость. Любой признак сопротивления порождал панический страх перед «черными дикарями». Даже малейшее непослушание наказывалось мгновенно и беспощадно. Для некоторых фермеров это было поводом к захвату новых земель и собственности доведенных до отчаяния аборигенов. Действия немецких колонистов можно расценивать как преднамеренные провокации.
Поселенцы не были вовлечены в управление. Административные функции в колонии были возложены на губернатора, и колонистов страшно раздражало, что они ничего не могут поделать с политикой «глупой сентиментальности», проводимой Лейтвайном. Вот что говорится в еще одной петиции: «Это обязанность правительства установить контроль над аборигенами. И достичь этого можно, лишь располагая реальной силой. Невозможно лишь одними увещеваниями заставить черную расу соблюдать наши законы» (Bley, 1971: 79–81, 84–85). У колонистов было два достаточно сильных инструмента влияния. Во-первых, они были присяжными мирового суда и рассматривали все жалобы аборигенов на бесчинства белых – избиения, насилия и прочее. Практически никогда они не выносили обвинительный вердикт белым и никогда не считались с доказательствами, основанными лишь на показаниях черных (Drechsler, 1980: 133–136). Во-вторых, белые бесконечно превосходили черных, ибо имели в своем распоряжении капитал, знания, юриспруденцию. Они могли с легкостью обвести чернокожих вокруг пальца и отнять землю на вполне законных основаниях. Колониальная администрация ничего не могла с этим поделать. Отвратительный судебный произвол и земельные захваты подталкивали туземцев к мятежам.
В январе 1904 г. верховный вождь гереро Самуэль Магареро, спившийся человек, послушная марионетка в руках немцев, был взят в оборот другими вождями. Они вынудили его благословить народ на восстание. Верховный вождь запретил воинам убивать женщин, детей, миссионеров, англичан, буров, метисов и народ нама (соседняя племенная группа). И этот приказ соблюдался. Среди 120–150 убитых белых были лишь три женщины и семь буров. Восставшие не смогли взять штурмом города и казармы, зато от души поквитались с хозяевами отдаленных ферм (Bridgman, 1981: 74). Восстание застало белых врасплох – расисты не считали черных способными на сопротивление. Немцам-мужчинам пощады не было. Гереро не брали в плен и уродовали тела убитых. Разъяренные воины шли в бой, понимая, что это их последний шанс отстоять свободу. Победить или умереть – так говорил Магареро. Вначале им сопутствовал успех – они вытеснили фермеров со своих племенных земель и захватили весь скот.
Зная, что такое колониальные войны, мы легко можем представить себе сокрушительную силу ответного удара поселенцев – ведь было убито больше ста белых, распространялись слухи, что африканцы вырезали женщин и детей. Вот как один миссионер описывал состояние колонистов:
Немцев обуяла неукротимая ярость, они жаждали возмездия. Как вампиры, они искали крови гереро, только и слышишь, как они говорят: «Очистим от них землю, повесим и расстреляем каждого, им не будет пощады». Я с ужасом думаю, что ждет нас в ближайшие месяцы. Немцы, без сомнения, отомстят им страшно (Drechsler, 1980: 145).
В дело немедленно вмешался Берлин, поскольку ситуация была крайне тяжелой. В правящих кругах произошел раскол во мнениях. Лейтвайн и Колониальный департамент были сторонниками показательной карательной акции и последующих переговоров. Но генералы настаивали на более жестком варианте. Халл (Hull, 2004) пишет, что немецкая военная мысль разработала идею наступательной войны до абсолюта. Победа мыслилась как полное уничтожение противника (Vernichtung). Не совсем ясно, что вкладывалось в это понятие, тем более в контексте колониальной войны, где трудно отличить противника от нонкомбатантов того же народа. И как достичь победы в этих условиях? Ответ был прост. Немцы повторили истребительную тактику генерала Шермана, который нападал на индейские деревни, чтобы заставить воинов защищать свой дом и семьи. Сюда же добавилась и тактика колониальной войны, разработанная незадолго до того британцами и испанцами: изолировать мирное население в концентрационных лагерях и лишить инсургентов их поддержки. Шли споры о том, кто возглавит экспедиционный корпус для отправки в колонию. Умеренные имели доступ к рейхсканцлеру Бернгарду фон Бюлову, но радикалы имели непосредственный выход на кайзера через начальника Генерального штаба фон Шлиффена (Bridgman, 1981: 63). По рекомендации фон Шлиффена кайзер назначил командующим генерала фон Троту. Африканский опыт у него был, он жестоко подавил восстание 1896 г. в Восточной Африке и утопил в крови Боксерское восстания в Китае 1900–1901 гг. Фон Трота говорил:
Я хорошо знаю африканские племена. Между ними есть одно сходство – все они уважают силу. Это было и останется моим принципом – применение силы в неограниченных масштабах и даже террора. Я пролью реки крови и денег и приведу к покорности взбунтовавшиеся племена. Только таким способом можно посеять семена нового, из которых взойдут добрые всходы… Против нелюдей нельзя воевать по людским законам. Император сказал, что ждет от меня подавления мятежа любыми способами, чистыми или не очень чистыми (Drechsler, 1980: 154).
Народ гереро надо было устрашить кровью, сломить навсегда их боевой дух и отбить охоту у остальных племен поднимать руку против белых. Задача была страшной сама по себе, но реальность оказалась еще страшнее. Побуждаемые колонистами, отравленные расизмом, Трота и его войска совершили акты геноцида. В октябре 1904 г. генерал объявил, что будет платить премию за каждую голову убитого гереро. В воззвании говорилось:
На территории немецкой колонии мы ликвидируем всех гереро, вооруженных или нет, состоятельных или неимущих. На немецкой территории не должно остаться их женщин и детей. Их необходимо вернуть племени или расстрелять. И пусть народ гереро знает: это последнее, что могу сказать им я, великий генерал великого императора Германии.
Войскам сообщалось: «Во исполнение моего приказа не брать в плен никого». И солдаты убивали женщин и детей. Вот что вспоминает один из свидетелей:
После сражения все женщины и дети, попавшие в руки немецких солдат, здоровые или раненые, были беспощадно убиты. Потом немцы пустились в преследование, и всех, кого они находили на дорогах, всех, кто прятался в окрестных лесах, ждала одна участь – смерть. Их расстреливали и добивали штыками.
Большинство гереро не были вооружены и не могли оказать сопротивления. Они пытались спасти свои жизни и увести с собой скот. Фон Трота не признает, что отдавал приказ расстреливать женщин и детей, но спокойно подтверждает, что распорядился изгнать всех гереро в пустыню на верную смерть. Он считал, что среди них было много заболевших, и, скорее всего, так оно и было – люди были измучены и умирали от голода. «Я поразмыслил и решил, что пусть лучше все они сдохнут, чем заразят моих солдат… а кроме того, любой жест снисхождения с моей стороны они бы истолковали как слабость». К армии присоединились добровольческие отряды поселенцев, эти убивали с удвоенной жестокостью. Один миссионер вспоминал: «Они были злы, как все демоны ада. Многие из них лишились всего. И вот пришло время мести».
Превосходство в вооружении позволило немцам изгнать гереро (мужчин, женщин, детей) в пустыню и заблокировать их там. Отравленные колодцы принесли скорую смерть всем, кто еще был жив. Гереро умирали на глазах у немецкого оцепления. Когда племя нама, воодушевленное восстанием гереро, присоединилось к мятежу, немцы карали их столь же жестоко, хотя до прямого геноцида дело не дошло. В письме Шлиффену фон Трота объяснял, почему он отверг совет Лейтвайна и «других знатоков Африки» вступить в переговоры с гереро. «Они считают, что аборигены могут быть полезны как рабочая сила, – писал Трота, – я совершенно иного мнения. Я считаю, что гереро должны быть уничтожены как народ». Это утверждение он трижды (!) повторил в одном письме. Солдаты подчинялись приказам командующего безропотно, а многие и с энтузиазмом (Bley, 1971: 163–164, 179; Drechsler, 1980: 156–161; Hull, 2004).
Официальный военный отчет прозвенел победной фанфарой:
Безжалостно преследуя разгромленного врага, немецкое командование явило себя во всей решимости и отваге. В этой беспримерной кампании, не щадя своей крови и сил, немецкий солдат окончательно сломил вражеское сопротивление. Как раненый зверь, противник отползал в знакомую ему пустыню, цепляясь за каждый колодец, пока не сгинул совсем. Безводная Омахеке (пустыня) доделала то, что начала делать немецкая армия: народа гереро больше нет (Bley, 1971: 162).
Эти восторги геноцида разделяли не все. Канцлер фон Бюлов доложил кайзеру, что «кампания велась противу всех правил христианского милосердия». Он также добавил, что такая война контрпродуктивна, ибо до предела ожесточает африканские народы (Bley, 1971: 163). Фон Бюлов, Колониальный департамент, миссионеры и некоторые депутаты парламента настаивали на отставке Троты. Ужаснулись даже некоторые поселенцы. Общественное негодование заставило фон Шлиффена отменить расстрел пленных в декабре 1904 г. В ноябре 1905 он отозвал фон Троту.
Но все это уже не спасло гереро и нама. Выживших поместили в концентрационные лагеря, где голод, непосильная работа, болезни быстро свели их в могилу. В 1903 г. было 60–80 тысяч гереро, к 1911 осталось 16 тысяч, из них лишь две тысячи мужчин. Нама повезло больше – их численность упала «только» на 50 % (Bley, 1971: 150–151; Drechsler, 1980: 244; Hull, 2004). Гереро были уничтожены как народ. Те немногие, что остались, были рассеяны и утратили способность к самоорганизации. Немцы одержали полную победу. В декабре 1905 г. кайзер подписал Указ об экспроприации, разрешив захват «всей движимой и недвижимой собственности племени» (Bley, 1971: 166). В 1907 г. все земли гереро и почти вся территория нама были объявлены государственной собственностью, а Юго-Восточная Африка провозглашена колонией. Геноцид был проведен успешно. Как выразился Рорбах, «кладбищенская тишина повисла над Юго-Восточной Африкой». Изначально германская колониальная политика предполагала принудительные депортации и соответствующий им уровень насилия. Массовое уничтожение не предусматривалось. Но многие поселенцы были радикальнее, из-за их нетерпимости происходили столкновения и чистки, их расовые предрассудки сделали невозможной ассимиляцию, их провокации подняли на восстание гереро. Зверскими убийствами отомстили белые за смерть ста своих соотечественников. Немецкая политика, скорее всего, в любом случае привела бы к экспроприации собственности и исчезновению народа гереро, и ударной силой, острием этой политики были колонисты. После победы немецкие поселенцы быстро воспользовались ее плодами и развернули экспансию на другие африканские земли. Можно ли обвинить их в преднамеренном, спланированном геноциде? Думаю, что нельзя.
Конфликт прошел через три стадии эскалации, что и привело к геноциду. Во-первых: гереро восстали неожиданно, опрокинув сложившиеся стереотипы поселенцев, вызвав у них панические страхи, ярость и жажду мести. Во-вторых: восстание привело к фракционной борьбе в самой Германии, где партия войны оказалась сильнее, чем партия мира. Ястребы назначили главой экспедиционного корпуса генерала фон Трота, человека, превосходно зарекомендовавшего себя в репрессиях против местного населения, но не в геноциде. Третья эскалация произошла тогда, когда фон Трота в 1904 г. появился на театре боевых действий и понял, насколько серьезна там ситуация и сколь беспомощен немецкий гарнизон. Генерал начал закручивать гайки, и количество перешло в новое качество – геноцид. Подчиненные ему войска были дисциплинированны, настроены расистски и с охотой выполняли его приказы, а фон Шлиффен оказывал ему всемерную поддержку. Под давлением либералов кайзер и фон Шлиффен все-таки сдали Троту, но было уже поздно. Таким образом, стремительная эскалация конфликта внезапно завершилась геноцидом. Если бы Международный военный трибунал существовал в 1905 г., фон Трота, конечно, был бы осужден по обвинению в геноциде, причем на основе собственных признаний. На скамью подсудимых сели бы и офицеры, и некоторые поселенцы из добровольческой милиции, если бы против них нашлись весомые улики. Вряд ли бы предстали перед судом кайзер Германии и генерал фон Шлиффен.
Описанная ситуация лишь отчасти согласуется с моими тезисами. Немецкое государство оставалось устойчивым и мощным, что не вполне соответствует тезису 5. Исполнителем чисток была высокодисциплинированная, обученная современная армия, но она появилась на сцене как карательная сила лишь после того, как поселенцы жестокими притеснениями спровоцировали народное восстание. Двойственность ситуации объясняется тем, что в события были вовлечены традиционная военная авторитарная монархия с одной стороны и молодая представительная демократия с другой. Восстание гереро раскололо немецкое общество на две группы, при этом возобладали ястребы войны – полицейское принуждение и милитаризм, что вполне вписывается в План Б (показательные репрессии). Третья фаза эскалации конфликта не была неизбежной, но неконтролируемый генерал Трота по собственному произволу запустил в действие План В – геноцид. Беспощадность его тактики смутила даже партию войны, но, стиснув зубы, они дали ему карт-бланш. Гражданское общество Германии, воспитанное на принципах религиозной и светской терпимости, пыталось этому противостоять. Сломив сопротивление народов гереро и нама, немецкие колонисты вернулись к самой беспощадной версии Плана А – депортациям. В позднеколониальный период правил бал откровенный милитаризм в обличье поселенческой демократии.
Возникает вопрос, можно ли считать эти чистки провозвестником эпохи гитлеризма, окончательного решения расовой проблемы, геноцида, развязанного Германией в другую эпоху? Многие считают, что уничтожение гереро было одним из проявлений специфически германского расизма. Но был ли этот расизм уникален в своей жестокости? Бриджмен (Bridgman, 1981: 166–167) считает, что все колониальные державы той эпохи, опьяненные чувством расового превосходства, столь же беспощадно подавляли покоренные народы. Генерал фон Трота лишь довел эту политику до крайности. У карателей были развязаны руки, и немцы, не завися от контроля общества, проявили себя во всей красе. Внутренняя связь между германским милитаризмом и нацизмом имманентна, как мы убедимся впоследствии. Некоторые немецкие офицеры с африканским опытом были военными советниками в Турции во время Первой мировой войны, когда творился геноцид против армян. Среди нацистских преступников я отыскал и тех, кто в свое время подвизался в Юго-Восточной Африке и в Турции. Трудно установить их прямое влияние на события в последних двух случаях, за исключением Пауля Рорбаха – именно он был ярым защитником имперских амбиций Германии и внимательно присматривался к депортациям армян в Турции, хотя и был категорически с ними не согласен (Kaiser, 2001b: xxi-xxii).
В 1905 г. еще одна припозднившаяся колониальная держава, с армией, более подконтрольной гражданским структурам, провела карательную операцию в Минданао, Филиппины, против исламского меньшинства моро[31]. Марк Твен был там корреспондентом. Он написал: «Враги, численностью шестьсот – включая женщин и детей – были уничтожены нами полностью, мы не оставили даже ребенка, плакавшего над своей убитой матерью».